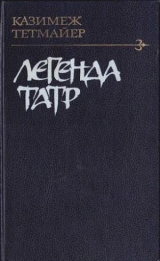
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– Люди тебе костел построили, чтобы ты в нем жил, а ты? Где ты был, когда наши дети тонули? Где ты был? Куда из костела ушел?
И она рубила стену костела, пока четверо мужиков, опасаясь гнева божия, который повлечет за собой еще худшие бедствия, не связали ее перевяслами и заткнули рот тряпкой, чтобы она не могла кощунствовать и не испытывала долготерпения божия.
Вся Новотаргская долина утонула в разливе; даже в высоко расположенных подгалянских деревнях, откуда ручьи обычно с шумом падали вниз, теперь погибали люди и рушились дома. Все вокруг стоном стонало. Три дня со всеразрушающей силой хозяйничала вода, всесильная и непреоборимая стихия.
С Нендзового Гроника в Косцельцах, с надводных высот, глядел на все это Яносик и слушал рассказы, постукивая чупагой о лежавшие перед домом камни.
– Знали чайки, зачем летели сюда от самого моря, – говорили дунаецкие мужики, глядя, как чайки, когда вода уже спала, клевали рыб, оставшихся на отмелях, и красных, припеченных солнцем раков. – Знает эта дрянь все… Она человека умнее…
Вздохнул с облегчением выносливый горец после страшных бедствий зимы и весны – и тут уж дал полную волю жадности, скупости и зависти. Вода поглотила много всякого добра, уничтожила посевы, во многих местах были смыты большие участки земли. Дети стали в тягость родителям, родители – детям. Старик Сюта, зажиточный людзимежский крестьянин, надел суму, взял в руки палку и ушел из сыновней хаты: пошел побираться, потому что боялся, что сын его убьет. Так же поступила слепая Куласка из Островска и столетний Ганзель из Ваксмунда. У Копинского из Кликушовой было четырнадцать человек детей; вода разрушила его дом и занесла илом весь посев. Он оставил дома только жену да двоих младших детей, остальных же прогнал, а когда они не хотели уходить, он бил их плетью.
Не высохли еще слезы у женщин в Новотаргской долине после катастрофы в день Ивана Купалы, а у мужиков не разгладились еще морщины на лицах, как приключилось новое горе: после успения собрали они попорченную непрестанными дождями рожь, свезли ее в амбары, скосили овес, связали его в снопы, уставили луга скирдами, – и вдруг напал на них враг, неведомый нижним новотаргским селениям: налетел горный ветер.
Там, в Татрах, природа не дремала.
Сначала перед заходом солнца слышен был гул в горах, а потом из‑за Горычковой, из‑за Гевонта, из‑за Красных вершин стали выбегать легкие перистые облачка; затем громада серых туч повисла над горами и стояла неподвижно до тех пор, пока сильный ветер не начал ее стаскивать по отвесным склонам вниз, в ущелья, замкнутые между вершинами Татр и лесами. Точно гигантский водопад, клубилась сплошная лавина туч по отвесным стенам. Дул сильный, порывистый ветер, по временам затихая.
После багряного заката ветер все крепчал. Ломались ветви, и неглубоко укоренившиеся в земле одинокие сосны с треском падали на землю. Всю ночь стоял шум, а под утро, еще до рассвета, налетел ураган.
Все закипело, забурлило. Рев, гул, вой неслись отовсюду, точно целая стая демонов на чудовищных крыльях неслась над морем. Ветер то затихал, точно волнами разливаясь по земле, то снова усиливался и взвивался ввысь, как неистовый орел. Казалось, какой‑то безумный гигант то припадает грудью к земле, то поднимается и, схватившись руками за вершины гор, потрясает ими с чудовищной силой, пригибает к земле. Казалось, все вокруг трепещет, и мелкие камни взлетали с земли, как пыль. Вой ветра напоминал раскаты грома. Во все стороны раскидывал вихрь снопы, а еще не скошенный овес прибило к земле. В воздухе кружились листья, сучья, солома и птицы, подхваченные вихрем. Телеги опрокидывались, падали лошади и люди, срывались доски с крыш и целые крыши, дома сдвигались со своих мест.
Так неистовствовал ветер день и ночь, загромождая дороги поваленными деревьями, вырывая в лесу целые просеки. От овса ничего не осталось: ветер раскидал его и вымолотил. Осталась мужикам одна нужда да отчаяние.
Так поражал господь людей бедствиями; все Подгорье стонало от этих бедствий, продолжавшихся и зиму, и весну, и лето, и осень.
Бывали и раньше трудные времена. При короле Сигизмунде Старом одиннадцать лет земля ничего не родила и люди мерли от голода, как мухи: сотни отравились ядовитыми грибами и травами, которые ели без разбора. При короле Стефане наводнение три года сряду опустошало Новотаргскую долину. Но чтобы и зиму, и весну, и лето, и осень правил миром Злобог, Чернобог, чтобы женщины не осушали глаз, чтобы морщины не разглаживались на лицах мужчин, чтобы целый год всей татрской округе приходилось самым отчаянным образом бороться за свое существование, – нет, это было что‑то неслыханное и довело народ до изнеможения.
Глядел на это Яносик, постукивал чупагой о камни, сидя перед избой и вытянув ноги.
А старые хозяева в Новотаргской долине, на Скалистом Подгалье, близ Спижа и Оравы, говорили:
– Видно, придется уходить куда‑нибудь… Все беды на нас… Ежели и дальше так пойдет, все с голоду перемрем…
И взоры тысяч мужчин, женщин и детей устремлялись за Татры, к Липтову, к солнечной, хлебной, покрытой виноградниками земле Нижних Татр.
Целыми толпами стали ходить горцы на разбой за Польские Татры, но не одному круто пришлось: ничего, кроме дыр в башке, не приносили, а то и вовсе не возвращались.
За Татрами умели защищаться от разбойников, и в конце концов набеги эти вызвали взаимную ненависть, а со стороны венгров – жажду мести. В Польшу идти было незачем, но когда ловили кого‑нибудь из поляков, с ним расправлялись. Били, пытали, казнили, вешали на виселицах и на деревьях; погреба липтовских и оравских замков наполнились узниками. Многих, уличенных в грабежах или намерении ограбить, убивали на месте или в имениях и замках знати. Если даже кое‑кто из мужиков и поправлял свои дела разбойничьим ремеслом и на время избавлялся от нищеты, принеся домой муки либо сала, все это его не спасало. Кое‑кому случалось награбить и денег, но на телеге с деревянными осями далеко ехать за хлебом было трудно, ездили верхом. Да и купить‑то было тоже нелегко: нельзя было быть спокойным ни за деньги свои, ни за купленный товар, ни за собственную жизнь, потому что даже свои мужики с долин нападали и грабили. Вокруг только и говорили об убийствах.
С севера Польских Татр надвигался голод, он принимал страшные размеры и вел за собой смерть, а та трудилась до седьмого пота.
Яносик Нендза Литмановский раздавал все, что у него было. Имуществом отца и матери он распоряжаться не мог, но свои собственные сбережения выкапывал в заговоренных местах из‑под буков, яблонь и камней и раздавал людям. Он считал это своим долгом, к этому обязывали его гордость и сознание своего превосходства. Он наделял людей щедро, по‑королевски, потому что хотел, чтобы люди помнили его и его благодеяния. Он раздавал богатства с видом знатного вельможи, которому не страшно разорение, который ничего не боится и ни от чего не зависит. Но, хотя было у него всего много, все же это была капля в море нищеты; и в конце концов иссякли и его запасы.
Тогда Яносик стал раскидывать умом. Он все чаще и глубже задумывался о том, что мелькало у него в голове еще зимой.
И вот однажды он направился к соседней избе, где жили его двоюродные сестры Кристка и Ядвига с младшим братом своим Войтеком.
Он застал их на «черной» половине, за ткацким станком. А Войтек у окна вырезал ножом полочку.
– Слава Иисусу! Что у вас слышно, девки? – спросил Яносик.
– Да ничего особенного, брат. А у тебя? – отвечали девушки.
– Холст ткете?
– Да.
– А Войтусь все строгает? – сказал Яносик, садясь на лавку у стены.
– Строгает.
– А что это ты строгаешь, хлопец?
– Полочку для ложек.
– Покажи. А ведь хороша! И не надоест тебе это дело?
– Ну, сам знаешь, – отвечала Ядвига, – он готов день и ночь строгать. Погляди, какого святого Мартина он для бабушки вырезал из кедрового дерева.
– Ну‑ну! А откуда ж вы знаете, что это святой Мартин?
– Нам‑то невдомек, да зашел к нам позавчера Куба Мражничар. Он в этих делах толк знает, сам любых святых может вырезать. Так он сразу признал, что это святой Мартин.
– А ты, Войтек, знал, кого мастерил? – спросил Яносик.
– Нет. Только когда мне Куба сказал…
– Ну, умник, видно, ваш Куба, – заметил Яносик. – Я бы три дня на этого святого глядел, а не догадался, кто он. Ну, оно и не диво, каждый свое дело знает. А кабы завести этого Кубу в лес, так он бы меня на помощь стал звать.
Помолчали; только станок жужжал.
Ядвига, Кристка и Войтек Нендзы жили одни, потому что родители их умерли.
Большой черный кот с сверкающими глазами, сидевший около кадки, встал, выгнул спину, зевнул, задрал хвост, вытянул сперва левую заднюю ногу, потом правую, а потом, подойдя к Яносику, стал тереться о его штаны и мурлыкать.
– Кис! – сказал ему Яносик. – Что же я тебе дам? Ничего у меня нет.
– Да ему есть не хочется, шельме, – сказала Кристка. – Птиц в лесу ловит, недавно зайца задушил. Ему горя мало.
– А людям много, – отозвался Яносик.
– Да, много.
– Такой плач стоит, не приведи господи! – сказала Ядвига. – Люди говорят, что все вымрем. Конец приходит гуралям.
Девки печально вздохнули.
– Я вчера ходила к Флореку, хотела, чтоб он станок поправил, он это дело знает. А он умер.
– Умер Флорек?! – спросил Яносик взволнованно.
– Да, отравился грибом. Пришла я туда, да не знала, как и уйти. У жены ребенок грудной, а грудь высохла, как тряпка. Флорек мертвый лежит на холстине. Трое ребят по избе бродят, ищут, чего бы поесть. Девочка лет семи со ступки соль слизывала. Сука у них ощенилась, пять щенят у нее, и все пищат от голода. Целую ночь мне это снилось. Как вспомню, сердце сжимается. Отнесла им, что могла.
– И хорошо сделала. Страх как бедствуют люди…
– Бедствуют, брат, бедствуют, – поддакнула Кристка.
– Ох, горе!.. – вздохнула Ядвига.
– Девушки! – немного погодя сказал Яносик. – Спойте‑ка про разбойника Яносика.
– Эх, брат, не поется, – отнекивалась Кристка.
– А ты тихонько!..
Войтусь поднял глаза на Яносика. Он слышал не раз (об этом говорили все), что когда его двоюродный брат Яносик, разбойничий гетман, обдумывает что‑нибудь, он просит петь ему песню о каком‑то разбойнике Яносике, который жил в горах много лет назад. И под эту песню всегда надумает такое, что «Земля дрожит».
Девушки тоже знали это и тихо начали одна за другой:
На черных волах пашет Ганка,
И полполя вспахать не успела,
А уж мать зовет: «Возвращайся!
Я хочу тебя выдать замуж,
Хочу тебя выдать за Яна,
За грозного разбойника Яна!..»
Тихо звучала песня, а Яносик уставился в потолок и слушал… Когда же запели о виселице, о которой говорит в песне разбойник:
Кабы знал я об этом прежде,
Что на ней я буду болтаться,
Велел бы ее покрасить,
Серебром и золотом разукрасить:
Снизу бы талеры вдевал,
А вверху золотые дукаты,
Да еще петлю золотую
Для моей головушки буйной!..–
Яносик встал, отодвинул ногой кота и сказал:
– Ну, будьте здоровы! Покойной ночи.
– Покойной ночи, брат!
Яносик пошел к своей избе, а когда очутился около нее, сунул два пальца в рот и свистнул.
Свист разорвал воздух, кое‑где залаяли встревоженные собаки.
Вскоре из ближнего леса, где вился в воздухе дымок – должно быть, над чьей‑то избенкой, вышел высокий мужик и направился к дому Яносика.
Потом пришли еще двое. Были это Гадея, Матея и Моцарный, неразлучные товарищи Яносика.
Они стояли молча, ожидая, что он скажет.
– Ребята, – сказал Яносик, – когда‑то я уж вам говорил, что мы на войну пойдем.
– Ну, говорил, – отозвался Гадея.
– Помним! – подтвердили другие.
– Так вот… Страшные беды свалились на гуралей. Люди мерли с голоду зимой, гибли от наводнения весной, мрут и теперь, осенью, и так, видно, будет и дальше. Обойдите, ребята, всех, кто хочет со мной идти на войну, за хлебом, мясом, вином и золотом, – пусть соберутся сюда! За три дня все должны прийти сюда, в Нендзов Гроник.
– И куда пойдем? – спросил Моцарный.
– За хлебом, мясом, вином и золотом.
– В Польшу?
– За хлебом, мясом, вином и золотом, – повторил Яносик.
Гадея и Матея мигнули Моцарному: значит, гетман не хочет больше ничего говорить. И ушли.
Яносик же подозвал своего работника, Мацюся, и сказал ему:
– Играй!
А сам сел перед избой на скамью, вытянув вперед ноги, засунув руки в карманы.
Мацек вернулся из избы со скрипкой и заиграл. Иногда Яносик тихонько насвистывал или запевал:
Эх, Яносик польский, ничего не бойся:
Ни тюрьмы оравской, ни петли тугой,
Ни мадьярских ружей, ни панов богатых,
Эх, Яносик польский, ветер удалой!
Наступала ночь, и заблестели звезды на темном небе. Легкий ночной ветерок веял от Красных вершин.
– Знаешь, старая, – сказал Кшись, поймав на шее блоху, своей жене Бырке, которая хлопотала по хозяйству, – был Войтек Матея у Галайды, звал его к Яносику – на войну идти, за хлебом, мясом, вином и золотом.
– Эх, – вздохнула тяжело Бырка, – оно бы не худо, не худо! Голод…
– Что и говорить! – согласился Кшись.
– Петриков Франек одурел от голоду: по лесу бегает голый и кричит. И Агнешка Капустяжева тоже.
– И еще больше таких будет, – сказал Кшись, катая блоху между пальцами.
Вдруг шумно вбежала ближайшая их соседка, Когутова, и закричала:
– Господи Иисусе! Знаете, что случилось? Железного Топора сын детей своих зарубил! Идите, говорит, землю божию грызть, коли бог хлеба не дал!
Бырка была ошеломлена этим известием, а Кшись бросил раздавленную блоху на пол и пробормотал:
– Пошла ты, проклятая! – Потом громко и взволнованно спросил: – Топора Железного сын? Ясек?
– Ну да, Ясек, – ответила Когутова. – А слышали, Яносик Нендза на какую‑то войну зовет: за хлебом, за мясом, за вином, за золотом?
– Так и вы слышали? Мне только сейчас мой хозяин сказывал, – отвечала Бырка.
– Мой идет, – сказала Когутова.
– Идет?
– Пойду и я, – объявил Кшись. – Мне при Яносике, когда в Польше воевали, хорошо было. Дрался‑то я мало, все только играл да пиво пил. Пойду.
– Шимек! Опомнись, ты старик! – воскликнула Бырка.
– А ты молодая? – насмешливо спросил Кшись. – Песню знаешь?
Не гляди, что голова седая,–
У старого бука корень тверд бывает.
– Он у меня такой, – печально сказала Бырка соседке. – Хоть сто бед свалится на людей, а он все смеяться будет!
– За то его люди и любят, – ответила Когутова, дружелюбно глядя на Кшися.
А Кшись, увидев в окно великана Галайду, крикнул:
– Галайда! Идешь на войну? С Яносиком?
– Иду! И Франек Мардула тоже!
– Погодите! И я с вами! Сейчас соберусь!
Мигом собрался Кшись. Хлебнул ложки две холодной похлебки, потому что больше ничего в доме не было, взял под мышку скрипку, в руки – чупагу, чмокнул в обе щеки Бырку, которая его обхватила за шею, и, простясь с Когутовой, вышел из хаты. Под оконцем остановился и, сунув в него голову, пропел:
Ты, старуха, не задумай помирать!
Кто же будет мне портки тогда стирать?..
– Баловник! – воскликнула Когутова и рассмеялась, а за ней и Бырка, утиравшая слезы.
Кшись весело пел уже другое:
Девушка, девушка, чего же ты хочешь?
Что посеяла, то и пожнешь,–
и, маленький, кривоногий, поспешно заковылял к ожидавшему его в полном вооружении великану Галайде. В руках у Галайды была чупага, обухом которой можно было раскалывать огромные камни, чупага, доходившая Кшисю чуть не до плеча и такая тяжелая, что другому больше часа ее не протаскать; кроме того, за поясом был у негр длинный нож и праща, из которой Галайда метал камни величиною с детскую голову.
Мардула встретил их разряженный, как на свадьбу. На нем была шляпа с тетеревиными перьями, новая сермяга и штаны, расшитые красным.
На одном плече у него висело ружье, а на другом – лук, за поясом торчали пистолеты и ножи, а в руке держал он чупагу с бренчавшими на ней кольцами.
– Эге, вон ты какой страшный! – сказал Кшись.
– А я бы тебя все равно не испугался, – медленно сказал Галайда, глядя на Мардулу.
– Не испугался бы? А я, думаешь, тебя испугался бы? – крикнул Мардула.
– Хе‑хе‑хе! – низким басом засмеялся Галайда.
– Когда будет время, давай поборемся, – предложил Мардула.
– Ну, идти так идти, – отвечал Галайда, и они тронулись в путь: впереди Мардула, за ним Кшись, а позади всех Галайда.
– Знаешь, Бартек, – обратился Мардула к Галайде, – страсть как я рад идти на эту войну. Что‑нибудь да перепадет!
– Пожалуй, – согласился Галайда. – Заработаем.
А легкомысленный и веселый Кшись все пел:
Я работник удалой,
Ты работник удалой.
Косы с граблями в руках,
Бабе выкосим овраг!..
– Ишь ты! – заметил Галайда.
А Мардула, обладавший прекрасным голосом и любивший выставлять напоказ свое геройство, увидев невдалеке нескольких баб, заорал по‑разбойничьи, во всю глотку, чтобы знали, кто идет:
На стенах тюрьмы оравской
Вбиты крепких три крюка,–
Эти стены, парень славный,
Обходи издалека!
Но Кшись, игриво подмигнув женщинам, пронзительно запел в нос:
Едет бричка, громыхает,–
Девка парня поджидает…
Зацелует, замилует,
Он у ней переночует!
– Ишь ты! – снова заметил Галайда, а бабы, широко ухмыляясь, грозили Кшисю кулаками.
Так шли они, полные бодрости, надежды и веры, к Яносику Нендзе Литмановскому на Нендзов Гроник, встречая по дороге других вооруженных мужиков, спешивших туда же. Их сопровождали, неся еду и оружие, говорливые бабы. Таков уж обычай: покуда можно, бабы мужиков выручают.
Придя к Яносику, они застали там уже довольно много народу.
Яносик заранее разослал людей сзывать мужиков из дальних деревень, чтобы ближайшим, которые придут раньше, не пришлось ждать; хозяева и батраки сходились издалека, от самых Бескид. Шли Клищи и Загужане из Порембы, шли из Охотницы, с Бабьей горы, от Струж, со Скомельной, из‑под Чорштына, из Нового Тарга; и гурьбой шли из ближайших деревень: из Людзимежа, из Нивы, из Рогожника, из Черного и Белого Дунайца, из Лесницы, из Трибсца, с Черной горы, из Юргова, из Остурни, из Поронина, из Закопане, из Витова и Хохолова, из Марушины, Врублевки, Конёвки, из Подчервонного, из Межчервонного, из Рдзавки, из Моравщины, из Лопушной, из Островска, из Ваксмунда, Дембна, Шафляр, из Зубсуха и Бустрыка, из Дзяниша, Дяла, Тихого, из Бжегов, из Мура, из Гаркловой, из Кнурова, – словом, из нескольких десятков окружных деревень собралось до тысячи вооруженных людей. Их могло бы быть значительно больше, но одним помешали прийти бабы, другим – заячья трусость. Да и многие из тех, кто пришел из нижних деревень, с Новотаргской равнины, увидев высоких, диких подгалян, диких бескидских пастухов и самого Яносика Нендзу, жалели, что пришли: ибо какова же будет эта война, коли на атамана и на его товарищей даже глядеть страшно!
Яносик стоял перед хатой, одетый уже по‑походному, сверкая снаряжением, бляхами и пряжками, а мужики и бабы, видевшие его в первый раз, шептали:
– Вот он какой, разбойничий гетман!
Несмотря на войну и голод, бабы и девки млели, глядя на него.
Стояла здесь красавица, молоденькая Зося Гахутова из Тихого, та самая, которую мать хотела когда‑то отдать Яносику, чтобы он пошел с мужиками против шляхты; тогда, еще девушкой, кинулась она ему на шею, а он ласково отстранил ее и сказал:
– Ты не для орла. Ты для павлина.
Теперь Зося привела мужа, а сама вздыхала, и что‑то ее томило.
Возле Яносика стоял его штаб: Матея, Гадея, Моцарный да старый Саблик с гуслями в рукаве, а подле них выстроились: Кшись со своей скрипкой под мышкой, Мардула, разряженный и увешанный оружием, бросавший на девушек убийственные взгляды, и великан Галайда, которому самые высокие мужики доходили до плеча.
Дальше, у дверей дома, стояли родители Яносика, отец с матерью, старые, степенные и важные, которых богатство охраняло от всеобщих бед и напастей, за ними – работник Мацюсь и двоюродные сестры Яносика, урожденные Нендзы, Ядвига и Кристка, и брат их Войтек, тот самый, что умел вырезывать ножичком всякие вещи.
Мужики и бабы разбились на кучки, говор не прекращался. Вдруг Яносик вытащил из‑за пояса два пистолета и выстрелил в воздух.
Все затихло, а он встал на окаменелую колоду, на которой рубили дрова, обвел глазами толпу и громко воскликнул:
– Люди! Беды на вас валятся, нужда не дает вздохнуть, что же, вы все пропадать хотите? Голод, поветрия, наводнения, неурожай; всякие несчастия… Того и гляди, останутся от вас одни клочья. Мне‑то ничего: я один. Хозяйство мое и не такие времена выдержит, а сам я, хоть и роздал бедным людям все серебро и золото, коли захочу, принесу еще столько, что не поднимет и великан Галайда, хотя он лошадь на спину взваливает.
Мы с Матеей, Гадеей да Войтеком Моцарным приносили дукаты от Железных Ворот на Дунае и, если понадобится, принесем еще. А вам, люди, – беда! Хоть кое‑кто и ходит разбойничать, да без толку. Один срам! Разбойником может быть не всякий, так же как не быть вороне орлом. Самому мне ничего не надо, но вас всех мне жалко.
Деды наши и прадеды глядели за Татры. Потому что там хлеб, там вино, там золото и тепло. Долины чудесные, реки рыбные, зверья в горах много, не то что у нас: у нас здесь только заяц либо серна изредка попадаются, все больше волки да рыси. И птиц там сколько хочешь, а у нас в небе один орел. Придет весна – у нас дрозд в диковинку, а там, кажется, деревья сами поют, из лесу уходить не хочется, словно ноги тебе певчие птицы золотыми опутали нитями. Там – жизнь! Что посеешь, созреет, ни дождем его не зальет, ни ветром не побьет. Там – радость! Солнце светит и греет, веселый край. Ели да сосны с самого низу покрыты ветвями, не то что здешние, ветром обломанные. А яблоки, груши, сливы, вишня сами, как поспеют, наземь валятся. Свиней держать можно, потому что дубовых и буковых желудей столько, что свиньи сами за лето в лесу откормятся, их и кормить не надо. Там корова трех наших стоит, волы белые, огромные, лошади – как серебро! Вот это земля!
Деды и прадеды наши за Татры поглядывали, а бабки и прабабки пели:
Яничек, Яничек,
Был бы ты разбойник,
Кабы знал, сердешный,
К Липтову дорожку!..
А почему деды и прадеды наши глядели за Татры, а бабки такие песни пели? Потому что в этой нашей суровой, холодной и бедной горной стране спали и видели ту богатую землю. День и ночь говорили о ней, а в годы поветрий, голода и наводнений плакались: «Зачем же мы, гурали, не живем там, за Татрами, коли мы, сказывают, пришли в польскую землю издалека?» Так говорили они между собой, совет держали. Там земля богатая! Мужики! Я хочу вести вас в Венгрию, в Липтов, за Татры, – я, Яносик Нендза Литмановский, разбойничий гетман, тот, что разбойничал по всей Венгрии, мстил польской шляхте за мужиков и по шведским трупам провел польского короля на родину! Идете со мной?
Долгое молчание воцарилось среди присутствующих; наконец увлеченный Мардула и сияющий Кшись грянули во все горло:
Скоро ты, Яносик, белыми руками
Сундуки купецкие станешь отпирать!
Золото купецкое, деньги королевские
Белыми руками станешь ты считать!..
И мужики и бабы тысячей голосов подхватили:
Золото купецкое, деньги королевские
Белыми руками станешь ты считать!..
Загудел лес, загудели горы. Саблик выхватил из рукава гусли, Кшись из‑за пазухи скрипку. Мацусь, работник Яносиков, тоже помчался за скрипкой на чердак. А так как и кое‑кто из мужиков, чтобы веселей было идти, захватил из дому на войну дудки, гусельки, кобзы, то весь лес зазвенел от музыки, зазвенели над Полянами горы.
Но Яносик хотел говорить еще и выстрелил из двух других пистолетов, потому что у него за поясом было четыре.
Все затихло, а он обвел народ глазами и громко заговорил:
– Если хотите идти, я поведу вас! Панов липтовских, графов и баронов на сучьях повесим, замки разграбим, гайдуков господских и епископских, солдат мадьярских убьем, войско перережем! Я один с товарищами, с этими вот тремя: Гадеей, Матеей да Войтеком Моцарным, – целого полка стоим!
– Идем! – закричали мужики.
Заиграли гусли, скрипки, дудки, кобзы, свирели так, что небо дрогнуло.
Яносик поцеловал у отца с матерью сморщенные руки, а они расцеловали его в обе щеки. Двоюродные сестры, Кристка с Ядвигой, повисли у него на шее, работник Мацусь поцеловал в рукав, и Яносик, став впереди толпы, выстрелом дал знак к выступлению.
С плачем, криками и причитаниями прощались бабы с мужьями, отцами, братьями, любовниками, сыновьями. Л Собеку Топору из Грубого, стоявшему в толпе с луком на плече, с пистолетами и чупагой, припомнился тот весенний день, когда он, баца, в последний раз вел овец к Черному озеру и пришли к нему в шалаш пан Костка с Лентовским, а потом он повел мужиков под Чорштын на выручку пану Костке и был разбит драгунами Сенявского за Новым Таргом; вспомнилась ему любовь к Беате Гербурт, война со шляхтой, сестра Марина, пропавшая без вести… Эх, господи!
Собек вздохнул, сплюнул и сжал в руке чупагу.
А Кшись все играл, бормоча что‑то себе под нос и повесив на руку свой топорик.
Яносик повел мужиков в Косцелецкую долину, а бабы огромной шумной толпой провожали их.
День был сырой и туманный. Они вошли в огромный лес, начинавшийся тотчас за Нендзовым Гроником. Яносик хотел провести мужиков через Каменный перевал под Быструю. Он разделил их на отряды, которыми предводительствовали его три товарища‑разбойника, Собек Топор, двое Новобильских из Бялки и два солтыса из‑под Нового Тарга.
В бессонные ночи надумал Яносик завоевать Липтов для польских горцев. Много ночей провел он без сна, обдумывая свой замысел, и много раз приказывал петь про разбойника Яносика. Наконец в его голове созрел смелый план. Земли в Липтове, на южном Спиже и дальше к Кошицам было довольно, – нашлось бы место и словацким и польским горцам, а словаки с распростертыми объятиями встретят тех, кто освободит их от страшного гнета мадьярских панов.
В бессонные ночи грезил Яносик о великом и дивном будущем. Грезилась ему страна счастья и всеобщего благополучия, а чтобы не дать людям остыть, он придумывал дальнейшие походы, уже не за Татры, а за Нитру, за Нижние Татры, за Фатру, на Мораву, в Силезию, в Австрию, на венгерские равнины, под Комарно и Буду. Так мечтал Яносик и видел себя в будущем мужицким гетманом, еще более знаменитым, чем сейчас. И грезилась ему благодарность народа, слава, любовь!..
А за спиной у него Кшись рассказывал:
– …Уж еда была готова, да только мать говорит дураку: «Беги за уксусом!» – и дала ему грош. Пошел дурак, через год вернулся, да на пороге споткнулся, уронил бутылку и разбил ее. «Ишь, говорит, вот что бывает, когда торопишься».
Шедшие за Яносиком мужики слушали и смеялись.
Они вошли в Косцелецкое ущелье, миновали ворота над Дунайцем. На лугу, где ментусянские мужики косили сено, Яносик велел бабам вернуться домой. Они прощались с мужиками хоть и в слезах, но и радуясь, что те идут завоевывать богатую землю. По всему лесу гремело:
Скоро ты, Яносик, белыми руками
Сундуки купецкие станешь отпирать!..
Они шли старой дорогой рудокопов, добывавших когда‑то железную руду в горах, к ручью, который разделялся на два рукава и шумел таинственно, сочась из скалы. Шли старым дремучим бором к той страшной, бездонной расщелине, где жили драконы и всякие чудища, и никто без ужаса не решался вступить на скользкие камни под отвесной стеной известняка.
– Там, – рассказывал Саблик, – водяной живет, и перед наводнением он оттуда выходит с факелом в руке. Он девушек крадет, пастушек или тех, которые ходят по ягоды. Там пропала Салька из Ментусова, Кася из Черного Дунайца. И русалки сидят там и драконы страшные о трех головах: одна баранья, другая волчья, а третья человечья либо совиная. Да! Тела у них волчьи, покрыты рыбьей чешуей. Они выглядывают из ям, а кого схватят, тот уж их. И медведю не вырваться. Был когда‑то смелый охотник Мардула, он нашему Франеку Мардуле, кажись, прапрадедом приходится. Тот, бывало, схватит быка за один рог и на землю повалит. На медведя ходил с пращой, а убьет – сам на спине домой тушу принесет. И не выпотрошит даже, так со всеми потрохами и притащит. А ведь есть медведи и в двадцать пудов весом. Так‑то!
Случилось раз, что он потерял из виду медведя, который от него убегал через перевал из Хохоловской долины. Но медведь от него недалеко ушел. Ночь была темная. Мардула хоть мужик храбрый, но не мог же идти за медведем впотьмах. Разложил он костер на лужайке и сел. И что около него творилось, не дай бог! Всю ночь блеяли овцы, выли волки, кричали совы и слышались человеческие голоса. Мардула так и не спал всю ночь, даже не ложился, а сидел и держал в руке чупагу. И показалась ему эта ночь, как пять ночей. Чуть только рассвело, Мардула встал, зажал в руке чупагу, взял пращу в руки и пошел. Нашел он только кости от медведя. И думается мне, что его не волки съели и не лисицы. Мардула этого не говорил людям, он рассказывал только, что по следам на земле незаметно было, чтобы медведь сопротивлялся. Вот такое‑то чудище о трех головах, должно быть, и напало на него – и сразу прикончило. Потом много их слетелось, стали они спорить из‑за мяса, а может, и драться. Оттого такой шум и был! Но следов они не оставляют, потому что духи. До самой своей смерти Мардула про это рассказывал.
– А вы слышали? – спросил какой‑то насмешник из дальней деревни, с низин, где такие вещи были в диковинку.
– Слышал: поросенок хрюкнул, – ответил Саблик, поднимая на смельчака свои мутные стальные глаза коршуна.
– А, что, попало? То‑то! Помалкивай! – раздались голоса, и слышно было, как кто‑то ударил смельчака по шляпе. Мужики знали, кто такой Саблик.
Тут заговорил Кшись:
– В одной деревне жила баба, мудрая‑премудрая! Все знала и людям предсказывала, что с кем будет, кто когда умрет…
А жил там мужик, который сильно смерти боялся, он и пошел к этой гадалке. Заплатил ей хорошо – двух кур дал, чтобы она сказала ему, когда он помрет.
Вот она ему и сказала, что когда он пойдет на мельницу и упадет на дороге – тут ему и крышка. Сразу помрет.
Он поверил. Пошел раз на мельницу, – а гололедица была страшная, – он поскользнулся и упал.
Лежит и дожидается, когда же придет смерть и возьмет его.
Прибежала свинья и стала тормошить у него за спиной мешок с овсом. Тормошит, тормошит, а он хоть бы что. Лежит.
А когда свинья принялась уже вовсю овес жрать, мужик давай кричать на нее, да так жалобно: «Пошла в хлев… ах ты, паршивая! Если б я жив был, я бы тебе задал!»
Рассказ Кшися заглушил громкий хохот. Мужики смеялись так, что долина гудела. Только слышны были слова Кшися:
– Баба у него была большая и здоровая, такая и с мужиком справится… Намочила она веревку. Три дня веревка мокла…
…Страсть, что было!
Мужику если баб слушаться, так с ним всегда какое‑нибудь несчастье приключится.
Одна тебе наврет чепухи, а другая зато потом уму‑разуму научит…
– Ох, научит! – глубоко вздохнул один из слушателей.








