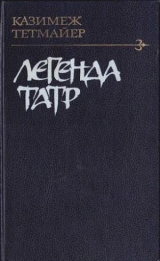
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
– Да, да!..
– Кровь наша льется! Ни на час нельзя быть спокойными за свою жизнь!
– От огня, глада, меча, смерти внезапной и панской кары избави нас, господи!
– От панских рук спаси нас, господи!
– Пан Ланцкоронский, как Люцифер, что вышел из ада!
– А ротмистр Циковский – антихрист!
– Мор, наводнение, засуха не так страшны, как паны!
– Либо нам бежать на край света, либо всем погибать у наших хат!
– Своя шляхта хуже татар!
Со всех сторон раздавались стоны и плач баб, мужики стояли, опустив головы в безмолвном отчаянии. Семнадцатилетняя красавица вырвалась из рук матери, подбежала к Яносику и, повиснув у него на шее, стала целовать, говоря:
– Гетман! Спаси наши деревни!
Яносик Нендза спокойно отстранил девушку и ответил такими словами:
– Когда, лет шесть тому назад, мать погнала меня к исповеди в Черный Дунаец, говорили мне люди дорогой, что там страсть до чего злой ксендз и что он бьет людей. А мне это нипочем. Ну, думаю себе, если тебе можно меня бить, так и мне тебя можно.
– Вот, вот, так всегда и надо, – сказал старый Нендза, кивая головой.
– Ну, так если можно панам бить мужиков, так и мужикам – панов, – заключил Яносик.
– Верно! – с восхищением закричал из толпы Кшись. – Это вы, Яносик, хорошо сказали! Вы – голова!
– Да, – сказал сыну старый Нендза. – Надо тебе идти.
– Он пойдет, – важно и спокойно сказала мать Яносика.
– Можете идти по домам, – сказал Яносик. – А из мужиков, кто хочет, пусть берет оружие и приходит сюда нынче к вечеру.
Люди бросились к рукам, к ногам разбойничьего гетмана, и он не мог их отстранить; целовали его в щеки, плечи, гладили по волосам. Прекрасная семнадцатилетняя девушка стала перед ним, поднесла руку к шее, словно собираясь развязать ворот рубахи, и спросила:
– Хотите меня? Вот сейчас?
Но он улыбнулся ей ласково и снисходительно, как ребенку, и сказал:
– Ты не для орла, – ты для павлина. Ну, прощай.
Девушка посмотрела на него – и расплакалась.
– По домам! По домам! Расходитесь, – торопил людей старый Нендза.
Они уходили, благословляя Яносика, еще в слезах, но уже полные радости.
Остались только старый Саблик да Кшись.
Вдруг Яносик засунул в рот два пальца и так пронзительно свистнул, что все кругом задрожало.
– Это еще что такое? – в ужасе закричал Кшись.
– Хе‑хе‑хе! – засмеялся старый Саблик и, приставив гусли к груди, провел по ним коротким изогнутым смычком.
У Кшися в ушах звенело, он даже не услышал игры Саблика. Он думал: «Что‑то будет? И зачем свистать так, что от этого свиста у человека нутро дрожит?»
Вскоре из лесу, над которым виднелся дымок (по‑видимому, из какой‑то хижины), вышел мужчина и направился к дому Нендзы.
– Один уж идет, – сказал Саблик.
Потом пришел второй товарищ Яносика, за ним третий. Шли они, должно быть, бросив домашнюю работу: у одного на одеже висели стружки.
– Недалеко живут, – пояснил Саблик Кшисю.
– Да, этот как свистнет, и черта в пекле разбудит! – с восторгом сказал Кшись, любуясь товарищами Яносика, высокими сильными крестьянами. Когда они стали рядом, от них, казалось, весной пахнуло, как от зеленых буков.
– Ну, эти наделают дел! – шепнул он Саблику.
Саблик кивнул головой и продолжал играть на гуслях.
– Эй, крестный, – закричал Саблику Яносик, – сыграй‑ка песню о том разбойнике Яносике, что до меня жил. Мне под нее хорошо думается.
Саблик подвинтил колки, смазал смычок смолой, вынутой из кармана сермяги, и запел по‑польски, вторя себе на гуслях, а двоюродные сестры Яносика, Кристка и Ядвига, ему подпевали. Кшись слушал разбойничью песню, которой еще не знал, и дивился ее красоте. Яносик сел на скамью под явором, засунул руки в карманы штанов и широко расставил вытянутые вперед босые ноги. Его три товарища стояли позади, опираясь на чупаги, а Саблик и девушки пели, глядя на Яносика:
На черных волах пашет Ганка,
И полполя вспахать не успела,
А уж мать зовет: «Возвращайся!
Я хочу тебя выдать замуж.
Хочу тебя выдать за Яна,
За грозного разбойника Яна!..»
День‑деньской пропадает разбойник,
А домой приходит только к ночи.
И немного приносит он добычи,
Кривую саблю, покрытую кровью,
Да сырую от пота рубаху.
«Где ты был? – спрашивает Ганка,–
Где свою окровавил ты саблю?»
«Я срубил под окошком березку,
День и ночь шумела березка,
День и ночь уснуть не давала».
Велел Ганке выстирать рубаху,
Не велел полоскать ее долго.
Ганка долго ее полоскала
И нашла в ней правую ручку.
Все пять пальцев были на ручке,
На мизинце – золотое колечко.
«Да ведь это братнина ручка!»
Никому ничего не сказала,
Побежала к матери скорее:
«Мама, мама, все ли братья дома?»
«Нет, не все». – «А кого не хватает?»
«Не хватает младшего, Яна».
В Липтове колокола зазвонили:
Идут на Яносика облавой.
В Липтове колокола отзвонили:
Злого разбойника схватили.
Захватили и ведут его в город,
Три девушки идут рядом:
Одна – Ганка, другая – Марта,
Третья – красавица Терця.
Ганка плачет, Марта тяжко стонет,
А Терця обняла его за шею.
«Не плачь, моя Терця, не стоит,
Подарю тебе все, что хочешь».
«Ничего не хочу, ничего не вижу.
Вижу только вон тот пригорок,
А на нем виселица проклятая».
«Кабы знал я об этом прежде,
Что на ней я буду болтаться,
Велел бы ее покрасить,
Серебром и золотом разукрасить:
Снизу бы талеры вделать,
А вверху золотые дукаты,
Да еще и петлю золотую
Для моей головушки буйной!..»
Кшись, широко раскрыв глаза и блаженно ухмыляясь, смотрел на Саблика и девушек и в немом восхищении слушал песню, принесенную откуда‑то из‑за Татр. Он ловил каждое слово, каждый звук, чтобы все запомнить. Яносик смотрел в туман, прямо перед собой. По‑видимому, мысли его были далеко. Когда же певцы замолкли, он сказал вполголоса, словно доканчивая вслух свою мысль:
Когда ребята снизу
На Ораву пришли,
Удивилась Орава
И все Оравы сыны.
Потом обратился к трем своим товарищам:
– Бегите за мужиками, которые поближе, а прежде всего к тем, которые напрашивались ко мне. Скажите им, что теперь не откажу, приму их с благодарностью. Кто хочет мстить, пусть идет, и кто хочет грабить – тоже. Нынче к вечеру чтобы были здесь. А я пока что пойду спать.
Он поднялся и пошел домой, на мягкую постель. Отец с матерью пошли за ним – приготовить что нужно.
Три разбойника после краткого совещания разошлись в разные стороны.
Кшись пододвинулся к Саблику и спросил:
– Где это вы такую песню слышали?
– Слышал я ее далеко, на Спиже, от одного лесничего, – ответил Саблик. – Покойный Вавжек Нендза, дядя Яносика, да Яжомбек из Живчанского, да я были у него на охоте. Был и Яносик – мальчонка еще, восемнадцати лет ему не было. Леса там такие, что в любую сторону три дня иди, а из лесу не выйдешь. Это леса графов Пальфи, Эрдеди, панов Мариаши и епископа. К ним туда никакая весть не доходит. О войне узнают они, когда уж она кончится, а о моровом поветрии – когда уж оно где‑то в море потонет. Были у этого лесничего три дочки: одну звали Ирма, и были у нее волосы светлые, как лен, другую – Веронка, у этой были косы черные с синим отливом, а третью, младшую, звали Ючи, по‑нашему – Улька. И еще был у них брат, Андриш, который играл на гармонике. Они‑то и пели эту песню. Тихо там, только речка шумит около дома да деревья над ней. Небо видно только между их верхушками, папоротник – до пояса. Глушь страшная. Девки пряжу прядут и поют песню за песней. Размножились там дикие свиньи целыми тысячами и изрыли все поля. Вот граф Пальфи прислал за нами, прослышав, что мы хорошие стрелки. Яносик тоже увязался за нами: любопытно ему было.
– Красивые были девки? – с интересом осведомился Кшись.
– Чудо!
– Как же это лесничество называлось?
– А тебе охота там побывать? Рабсик, вот как оно зовется. Мы там недолго были, одну ночь только, а оттуда пошли дальше, к Батыжовцам. Яносик не раз тамошних девок вспоминал. До сих пор тоскует по ним.
– Что ж он туда не пойдет?
– Разбойнику не дело так ходить. Он всегда должен быть настороже; про Яносика по всей Венгрии слава гремит, две тысячи талеров назначено за его голову.
– Да… Золотая песня!
– Золотая! Когда Яносик думает, как ему что сделать, всегда заставляет меня петь ему эту песню, – сказал Саблик. – И девки от меня научились.
– Да, лучше всего думается под старую песню, – убежденно заметил Кшись. – Я сам, как надо что‑нибудь обдумать, снимаю со стены свою скрипку и играю. Бырка, конечно, сейчас начинает языком молоть, будто я ничего не делаю, а я ей на это заиграю:
На старой на бабе
Мужик в воду въехал,
А баба пить не хочет…
– Ой, сестрица, слыхала? – крикнула одна сестра Яносика, Ядвига, другой, Кристке, когда старый проказник Кшись пропел последний, четвертый, стих.
– Я так считаю, – сказал Саблик, – что нет ничего лучше музыки да песни. В песне – вся душа человека. Гор этих не обойдешь и в неделю, а одной мыслью можно их все охватить, – так же и в песне все выразить можно. Ударишь по струнам – и словно увидел звезды.
– Верно, – подтвердил Кшись.
– Я не раз недели по две проводил в горах на охоте – и ничего, не скучал. Гусли у меня всегда были в рукаве завязаны: подстрелю я медведя – и сыграю, чтоб ему веселей было умирать.
– Ну‑ну! – воскликнул Кшись.
– А себе играл я по ночам в долинах, у костра, под Криванем, в Глинской долине, под Большим Верхом, за Воловцем, в Менгушовецкой, где придется. Скалы вокруг меня да лес. Я да он.
– Медведь? – спросил Кшись с живостью.
– Медведь. Искали мы там друг друга, а как сходились – лес гремел.
Орлиное лицо старого Саблика стало строгим, он пропел смычком по струнам, тонкие губы его задрожали, серые, потускневшие глаза устремились куда‑то в пространство.
– А липтовских стрелков сколько ты там в горах оставил с пулей в груди? – спросил Кшись.
Саблик только головой кивнул.
– Э, поди‑ка сосчитай! А зачем поперек дороги становились? – добавил он, не переставая играть.
А Кшись сказал:
– Теперь я спокоен. Коли Яносик Литмановский двинется – значит, аминь. Побегу‑ка я к Собеку, к Топорам, к Мардулам, к Мровцам на Ольчу – надо их оповестить, послать кого‑нибудь на Бялку и Гронь.
– Есть мужики и в Буковине, – вставил Саблик.
– Там народ запуганный. Высоко живут, на ветру. Как выйдет мужик в поле, у него каждый волос отдельно торчит, а на каждом волосе – вошь сидит.
– Батюшки! – ахнула Кристка.
– Только бы мне поспеть обежать кой‑кого из наших мужиков да поговорить с ними, а уж они к ночи здесь будут. Многим хотелось бы отомстить за Новый Тарг. Слетятся сюда, словно чайки! Будет их больше, чем ласточек бывает по осени на башнях шафлярского костела. Придут Топоры, Мардулы, Уступские, – эх, эти им запоют:
В зад те вилы, в зад те вилы, а на конце гвоздь!
Ну‑ка сунься, ну‑ка сунься, мы тебя пырнем!
– Ха‑ха‑ха! – засмеялся тихонько Саблик.
– Ну, пока оставайтесь с богом, – сказал Кшись, поднимаясь со скамьи, – Приду и я. Только скрипку захвачу из хаты. Буду, как и вы, играть Яносику.
– А баба? – спросил Саблик.
– Бырка? Бырка моя не пропадет!
Связался черт рогатый
Со старухою горбатой…
– Батюшки! – воскликнули обе сестры Яносика, Ядвига и Кристка, покатываясь со смеху.
Но из сеней выглянула мать Литмановского и шикнула:
– Тише, девки! Яносик спит!
Но он не спал. Лежал на постели и смотрел в потолок. Прошло уже восемь лет с той поры, как он был в Рабсике и слушал пение Ирмы, Веронки и Ючи под гармонику Андриша. Через страшные леса на рассвете пришли они к хижине лесничего. Он, Яносик, и первейшие охотники – крестный его, Саблик, дядя Нендза и Ясек Яжомбек. Вел их посланный от графа Пальфи. Спали в лесу, в яме, пришли к лесничему, когда было еще темно. Стоял туман; жена лесничего их накормила. По росе, около дома, мимо коровьего хлева, мимо сараев, ходили девушки. Они казались в тумане призраками, лиц нельзя было разглядеть, только видно было, что это девушки. Все казалось сотканным из тумана: дом, хлев, стойло, люди, привязанные гончие. Моросил дождик. Крупные капли падали с крыши медленно и редко.
Лесничиха дала им по чарке можжевеловой водки и по огромному куску хлеба с венгерским салом. Дядя Вавжек Нендза, которому нос проломил медведь, и Ясек Яжомбек, приятель его, нос которому проломила рукою Кунда Гарендская, как‑то неловко повернувшись во время танцев, – после этого угощения разговорились. Их не понимал никто, но они друг друга понимали. Понимали, несмотря на то, что оба были глуховаты: дядя – оттого, что его в молодости ударил обухом Куля Валовый из‑за Мартыновой Бронки, а Яжомбек – оттого, что на него свалилось дерево во время рубки. Они бренчали на губах, как на варгане; только и можно было разобрать, как дядя говорил: «Ох, бестия!» – а Рябчик: «То‑то и оно». Это они прибавляли к каждому слову.
А цветущие, высокие, крепкие девушки бродили в тумане на дворе, и роса заглушала их шаги.
Охотники отправились вместе с лесничим. Сошлись с ловчими и охотились весь день, до вечера. Убито было девять кабанов, три волка, рысь, четыре оленя и лось, не считая серн, лисиц и зайцев. Два медведя были ранены, но убежали. Одного охотника, немца, запорол вепрь; двоих егерей помял медведь, и один из них тут же умер.
Вечером вернулись в избу лесничего, чтобы переночевать и завтра идти дальше.
Лесничиха приготовила из графских припасов обильный ужин. Было токайское вино и кошицкий мед, пироги из пшеничной муки и гуляш с разными приправами. Богата земля венгерская, текут в ней реки молоком и медом.
На скалистом, холодном Подгалье люди мечтают о ней, как о рае…
К вечеру погода прояснилась: звезды усеяли темное небо. Лес весь заискрился, словно зацвел ими. Тысячи звезд сверкали на верхушках и сучьях.
После ужина Саблик играл на гуслях, а дядя Вавжек и Яжомбек отогревали ноги, стоя друг против друга и выделывая вензеля по‑гуральски, важно и красиво, как подобало таким знаменитым охотникам, потом Андриш играл чардаш, а танцевал его с лесничихой старый Саблик, к тем большему изумлению присутствовавших, что он был поляк и в лаптях, а не в сапогах. Когда он кончил, Рябчик обратился к Яносику:
– Попляши‑ка ты, парень!
Крестный Саблик подвинтил колки и заиграл. Андриш ему вторил. Снял Яносик чуху, сбросил сермягу и пояс и вышел на середину комнаты в одних только портках да в рубахе. Посмотрел на дверь в соседнюю комнату: там стояли обе девушки, которых утром видел он сквозь туман. У одной были светлые, как лен, волосы и голубые глаза; у другой – волосы черные, блестящие, а глаза – синие, как небо.
Сердце его дрогнулр. Он взглянул на вторую и запел под Сабликовы гусли:
Не тужи, подружка,
О своей судьбе:
Исхожу всю землю –
А вернусь к тебе!
Так песней ответил он глазам девушки.
И вот – не вернулся.
Плясал, должно быть, хорошо, потому что дядя Вавжек, который был скуп на похвалы и молодежь не ставил ни во что, раза два сказал: «Ах, бестия».
Тридцать раз проплясав вокруг комнаты и проделав все коленца, Яносик, разгоряченный танцем, вышел из дому проветриться. Но, сделав несколько шагов, встретил черноволосую Веронку.
– Красивый танец, – сказала она.
– А вы красивее, – ответил Яносик.
– Завтра пойдете дальше?
– Да.
Девушка вздохнула, а он обнял ее и шепнул:
– В вас для меня весь свет!..
Надо было разойтись. Мать позвала девушек в дом. Они, как обычно, принялись прясть и вместе с матерью стали петь гостям, а Андриш играл на гармонике. Подперев головы руками, до поздней ночи слушали охотники разные песни: о парне, который спрашивал мать:
Здравствуй, матушка, где твоя дочка?
Я пришел ее навестить…
А узнав, что она умерла, что лежит в могиле во чистом поле, пошел к могиле и стал звать:
Встань, Нанинка, из своей могилы
И подай мне белую ручку,
Мы три года с тобой не видались,
Я хочу на тебя поглядеть…
А когда она не встала, когда сказала, что мертва, что земля засыпала ей рот и глаза, он так причитал:
А коль милой я не увижу,
Пойду на высокую гору,
На высокую гору, большую,
Посмотрю вниз – да и брошусь,
Шестеро нести меня будут,
Восковые свечи гореть будут,
А глаза твои плакать будут…
А потом, улыбаясь, запели девушки:
Ой, пока была мала я,
Матушка меня качала:
Ой‑ой‑ой, ой‑ой,
Голубочка, ангел мой!
А когда я подросла,
Мужа матушка нашла мне,
Ой‑ой‑ой, ой‑ой,
Голубочка, ангел мой!
Пели они и песню странников:
Как пойдем мы по миру,
Что мы будем пить?
Винцо из Токая,
Воду из Дуная…
И унылую, тоскливую песню венгерской неволи:
Гей, Кривань, Кривань, Кривань!
А под конец запели:
На черных волах пашет Ганка,
И полполя вспахать не успела,
А уж мать зовет: «Возвращайся!
Я хочу тебя выдать замуж,
Хочу тебя выдать за Яна,
За грозного разбойника Яна…»
Так песня следовала за песней, пока не сморил могучих охотников сон. Головы их склонялись все ниже. Их отвели спать на сеновал.
Но Яносик успел перекинуться словечком с чернокудрой Веронкой. И когда все заснули, он тихонько выбрался с сеновала, а она ждала уже у колодца. Пошли в лес, полный звезд. Она не защищала ни губ своих, ни себя. Только спрашивала:
– Вернешься?
И он отвечал:
– Вернусь.
Она говорила:
– Ты для меня – как этот лес…
А он отвечал:
– Я с тебя собираю мед, как пчела с сирени…
Была еще ночь, когда они расстались. Еще не светало, когда лесничий затрубил в рог, сзывая собак. Снова дали охотникам по чарке можжевеловой водки и по огромной краюхе хлеба с салом. Но Яносик не ел: он положил хлеб с салом в мешок и, уходя, запел:
Не тужи, подружка,
О своей судьбе:
Исхожу всю землю,–
А вернусь к тебе!..
Но уже недели через две отец отвел его на Паукову гору, к Кристофу Пауку, знаменитому разбойничьему атаману: ибо такое поприще избрали для него отец, дядя и крестный, а мать одобрила их решение. Паук испытал его, проверил силу, бег, прыжки, умение бросать чупагу и рубить сучья и, приведя его к присяге перед наведенным пистолетом, принял в свою шайку. А когда, год спустя, Паука повесили в Микулаше, на Липтове, Яносик Нендза был уже прославленным разбойником и за его голову обещана была награда.
Любовниц у него было сколько угодно и где угодно; но он несколько остерегался девушек, боясь предательства.
А той Веронки из Рабсика он забыть не мог.
Что с ней? Живет ли еще в лесу у родителей, или вышла замуж и хозяйничает в избе лесника или крестьянина? Жива или умерла? Так ли прекрасна, как была?
Не раз задумывался о ней Яносик Нендза, ибо никогда ни одна женщина не могла заменить ему ее, и красота всех их меркла перед красотой Веронки, как все цветы сада – перед черной розой.
И он часто заставлял Саблика играть и петь ему спижские песни. От Саблика научились им и товарищи Яносика, и его двоюродные сестры, и мальчик‑слуга, и даже мать часто напевала их за ткацким станком или прялкой или когда сучила лен.
Когда Яносик обдумывал что‑нибудь, ему особенно нужны были эти песни. Надумает он что‑нибудь под песни Веронки из спижских лесов и пойдет сеять ужас в долинах от Липтова – за Тиссу, за Дунай, до Железных Ворот у турецкой границы.
От розысков Веронки удерживал Яносика Нендзу не только страх за свою голову: она была дочерью лесничего, графского слуги, и ей с детства внушили ненависть и отвращение к разбойникам, так же как ему, Яносику, – презрение к слугам панским и гордость вольного человека. Да и мать не допустила бы, чтобы он женился не на хозяйской дочери, а на «нищенке», на девке «с панского порога», на «служанке».
Он боялся даже встречи с Веронкой: предпочитал вспоминать ту ночь, те несколько часов и заставлял петь себе песни, под которые обдумывал планы разбойничьих вылазок, как орел, готовый налететь на добычу.
В Грубом Беата Гербурт заменила Марину по хозяйству. Она вставала рано, чтобы приготовить завтрак, белыми изнеженными руками стряпала обед и ужин и даже взялась за стирку.
Марину не разыскивали. Ясно было, что она взяла лошадь и куда‑то уехала по своей воле. Быть может, убежала, охваченная внезапным страхом перед Сенявским… или хотела таким образом отвратить несчастье: ведь Сенявскому незачем было теперь вторгаться в Грубое. Она могла предполагать, что Гербурт рано или поздно узнает о пребывании у них Беаты и приедет, чтобы взять ее, а противиться этому никто не посмеет, да и не должен.
Но чем дольше жила панна Гербурт у Собека Топора и чем больше они сближались, тем сильнее в душе его разгорались пылкие желания, тем горячее закипала в нем кровь. Он не осмеливался смотреть на Беату прямо, но за спиною пожирал ее горящими глазами и при виде ее чувствовал, как что‑то жжет ему губы. Он выискивал тысячи предлогов, чтобы всегда быть около нее, и мучился, как бы чем‑нибудь не выдать себя. Он спал в кухне, а Беата в чистой горнице, и по ночам он сидел у ее двери, прислушивался и проклинал дом, построенный так, что не было щели между дверью и косяком, а перегородка доходила до самого потолка. Но однажды ему в голову пришла мысль просверлить дыру в потолке и через нее подсматривать за Беатой.
Когда Беата была в хлеву, он взял большой бурав и пошел на чердак. Но когда приставил острие к потолку над самой постелью Беаты, его охватил священный ужас.
Как? Сверлить дыру, дырявить дом, построенный при короле Ольбрахте, стоящий полтораста лет, дом, в котором умер его отец, его прадеды Топоры – Кшос, Обух, Ясица, высокий, дом, в котором умер сам строитель его, Валилес, брат Ломискалы, корчевавший некогда лес под селение Грубое, дом, в котором убили деда, в котором рождались поколения за поколениями, – этот священный дом? Портить его?!
С одного волокна начинают в лесу портиться бук и ель, а потом дерево все прогниет, искрошится и рухнет. Так и у медведя: загнивает один только зуб, и, как ни велик и силен медведь, конец его уже начался. Но это делает время, – а он, Собек, в своем доме, в доме отцов своих, сам начнет разрушение?!
И Собек отнял от потолка приставленный уже бурав.
Но тут заговорила страсть. Он увидит, как панна ложится, увидит, как она будет вставать, умываться и менять белье, увидит…
Он приставил бурав к дереву. Казалось ему, что дом вздрогнул.
И снова он отнял сталь.
Священный ужас охватил его. Он оглянулся. Ему казалось, что за спиной стоят тени, что страшные руки протягивают к нему великаны‑предки: Валилес, выкорчевавший землю для Грубого, и Ломискала.
Но никого не было.
Он снова приставил бурав, – надавил, повернул…
И стал вертеть изо всех сил, с ожесточением, обливаясь потом, дрожа от озноба.
Вертел… Со страстью, в каком‑то безумии, с силою десяти человек вертел дыру, пока не провертел ее. Он вытащил сталь, сдул опилки – и увидел дневной свет и постель Беаты Гербурт. Тотчас же сбежал вниз, чтобы подмести пол, – и с тех пор дни и ночи проводил на чердаке. Потому что приходилось взбираться наверх и ложиться на пол так, чтобы никто не слышал, и спускаться точно так же незаметно. Не раз случалось ему пролежать на чердаке с полудня до следующего утра.
Родные стали совещаться.
Марина пропала. Собек весь высох, бродит как тень, хозяйство забросил, еле волочит ноги; если так будет продолжаться, он при всем своем богатстве пойдет с сумой. Он словно зачарован, как птица, под взглядом змеи… Все богатство Топоров прахом пойдет!
А тут еще недалеко, по соседству, здоровый мужчина, пришедший из лагеря под Берестечком, слег и умер. В деревне той начал распространяться тиф. Откуда бы, ежели мужик пришел домой еще совсем здоровым?..
Бабы стали шептаться, мужики совещались. Мужики толковали о том, что Собек опустился, не ищет Марины, не думает о мести за смерть деда; бабы шушукались о другом. Жена Железного Топора сказала жене Топора Лесного:
– Кажись, сглазили семейство Ясицы.
– Ей‑богу, и я так думаю…
– Марина пропала – и следу нет…
– Да. Точно ее унес кто‑то.
– Я думала – не русалки ли, да нет их нигде, и не слыхать о них.
– Тоже и не Монах: люди его здесь давно не видали. И не волки – чай, не зима.
– Ну, так куда ж она пропала?
– Кто знает?
– И с лошадью вместе. Сквозь землю не провалилась, на небо не взлетела. Не иначе как ее выгнало что‑то из дому невесть куда: в лес или в горы. Бог знает, жива ли она еще?
– Так, так… Неведомо, что с ней сталось…
– Сглазили ее. Больше нечему быть.
– А Собек‑то? Тень тенью. Да и мало его на людях видать. Все дома сидит целые дни.
– Да. Я тоже в нем перемену заметила.
– Да и я. А с каких пор?
– Недавно. Сейчас же почти, как с овцами с гор сошли.
– Так, так… Теперь уж дело ясное: сглазили их.
– Сглазили.
– И люди кругом болеют. Трое померло.
– Да.
– А почему? Из‑за чего? Да тут никакой болезни не бывало! Откуда бы она взялась? Кабы Войтек Бустрицкий, который с войны вернулся, больным пришел, а то ведь ничего с ним не было!
– Здесь захворал.
– Ну да, здесь. Ни с того ни с сего. Сглазил кто‑то Грубое.
– Сглазили, верно. Но кто?
– А кто здоровый ходит тут, да красивый, да как сыр в масле катается. И откуда взялся?
– Ты о ком это?
– Жрет, пьет, как тот колдун, что за речкой у Собанка жил и всех донимал, да еще потом деревню затопить хотел.
– Но у нас здесь колдуна никакого нет, ни к кому из хозяев не приходил.
– Это‑то я знаю. А что Галайда нашел? У озера‑то?
– Эге! Панну эту?
– Он мне сам рассказывал, а я ему сколько раз говорила: кто знает, хорошо ли ты сделал, что ее принес?
– Может быть, и правда. Гм…
– Сами посудите: все кругом к земле клонится, а она на глазах расцветает!
– Да, да, это вы правду говорите.
– Я ни на кого клепать не стану. Да ведь это в глаза бросается.
– Да, да, верно, просто глаза режет.
– Топора старого убили, жена его колодой лежит, Марина пропала, Собек одурел, – а ей хорошо.
– Так, так!
– Я пустяков болтать не люблю, но как тут не задуматься: кого это Галайда в шалаш принес?
– Вот, вот, кто знает?
– Может, нечисть какая, дьявольское наваждение…
Бабы с минуту молчали под впечатлением услышанного.
– Ну, так что же делать? – сказала Лесная.
– Что делать? А что сделали с колдуньей за Белой рекой?
– С Беджаной? Которую сожгли?
– Да!
Опять молчали, чувствуя, что высказали что‑то страшное, словно раскаленный камень бросили в чью‑то голову.
– Когда стало у коров молоко пропадать? Когда стал умирать дети? Как раз тогда, когда она откуда‑то пришла.
– Пришла она, кажись, из города.
– Толкуй там! Кто знает, откуда?
– Может, и с Лысой горы?
– Я это от людей слыхала. В Испании сами ксендзы велели еретиков и разных колдунов жечь. И считалось это святым делом!
– Да и немцы Гуса какого‑то сожгли.
– Ну да, который детей еще в животе материнском портил, так что они мертвые рождались.
– Да, да, и я это в Шафлярах слышала: ксендз говорил с амвона богомольцам.
– Спаси, господи!
– Надо людей спасать…
– Да и род наш: Собек ведь – Топор.
– Может, тогда и Марина найдется. Почем знать?
– А что, ежели мы ее начнем бить? До тех пор, пока Марину не вернет либо скажет, где она. А если уж померла Марина, так узнаем хоть, где ее тело.
– Пойдем к мужикам.
Пошли. Мужики выслушали их внимательно. Были это мудрые и в делах человеческих опытные старики, и говорить им разные пустяки было не к чему. Они позвали самого старшего Топора, Мурского, и его жену.
На сожжение они не соглашались: не видели на то причины. Но поверили, что Марину Беата выжила из дому какими‑то чарами для того, чтобы можно было больше есть, и что Собека она же испортила, чтобы он умер и она могла бы присвоить себе все хозяйство. Такие дела уж не раз случались. Наскучит какому‑нибудь черту сидеть в пекле, и вздумает он зажить на земле своим домком. Ну, и купит у мужика землю или выслужит чем‑нибудь – где мужику с чертом тягаться? А иной раз черт его либо застращает, либо разными хитростями доведет до разорения, а хозяйство возьмет себе. Иной раз и обманом выманит. И женились такие черти, что жили в деревне. После одного нечистого духа остались под Черным Дунайцем его дети, Духи. Да и Покусы[23], большой род, расселившийся от Людзимежа до самых Полян, тоже от нечистого пошли. Кто знает, может быть, эта панна подослана дьяволом, и может, она его любовница?
– Да ведь никто не видел, чтобы кто‑нибудь к ней ходил…
– Во‑первых, они на время могли расстаться, а во‑вторых, – дьяволу ни дверей искать не надо, ни в окошко стучаться. Он во всякую щель пролезет, в замочную скважину или под дверью и людей усыпит.
– Еще бы! На то он и дьявол.
Старый Топор из Мура долго молчал. Наконец он заговорил:
– В чем тут дело, я не знаю, а что она хочет Собеково да Маринино добро к рукам прибрать – это может быть. Слышал я от старых людей про карлу, который нанялся к мужику в работники, и мужик при нем до такой нужды дошел, что хотел повеситься. Не знали, чем ему помочь. Наконец нашелся умный человек и посоветовал карлу выгнать. Ну, собралась вся округа и выгнала карлу вон, за границу. А мужик опять разбогател, как прежде. Было это где‑то на Ораве.
– Вот, вот видите? – затараторила Железная.
– Так и тут будет, – подхватила Лесная.
А Собек между тем ходил как помешанный. Посягнуть на Беату он не решался, не научился даже свободно говорить с ней, да и не пробовал.
Сколько раз подходил он ночью к ее двери – и всякий раз отступал, не смея открыть ее. Он так одичал, что рад был исчезновению Марины: при ней нельзя было бы лежать на чердаке, над просверленной в полу дырой, или по ночам подслушивать в сенях у дверей Беаты. А он прислушивался к каждому ее движению, к каждому вздоху, к дыханию.
Когда она ворочалась на постели, его пронизывала горячая дрожь, словно он выпил расплавленного железа. Иногда ему приходила мысль вырыть из‑под явора позади дома медный котелок с дукатами и высыпать золото к ногам панны, но тотчас же он смеялся над этой мыслью: и не столько золота видела она в отцовском замке. Может быть, в детстве давали ей больше золота, чтобы она им забавлялась!
Не раз Собек в конюшне бился головой о стену, а иногда, ошалев от муки, дергал лошадей за уздечки, пинал их ногами, без всякой причины бил кулаком по мордам, так что они уже дрожали, как только он входил в конюшню. А раньше они дружелюбно поворачивали к нему головы. Работник удивлялся, но когда однажды вздумал что‑то сказать, Собек захватил в кулак его рубаху у самого горла, рванул его к себе и взглянул на парня такими глазами, что тот решил молчать, даже если Собек станет живьем драть с лошади шкуру.
Беата ходила тихая, ничего не зная, ни о чем не догадываясь, в тревоге и беспокойстве за Марину и в страхе перед Сенявским. Тем не менее воздух, здоровая пища и работа сделали то, что она слегка пополнела и порозовела. Любовь и страшная судьба Костки, угрызения совести и горе сделали эту кроткую и спокойную девушку печальной и задумчивой. Постоянная меланхолия омрачала ее лицо и глаза. Она жила, как человек не от мира сего, и трепетала перед действительностью.
В Собеке она не замечала ничего. Ей и в голову не приходили никакие подозрения. То, что он похудел и опустился, приписывала она отчаянию, которое имело так много оснований; заброшенное Им хозяйство она, насколько могла, старалась наладить своим трудом. Что могло случиться с Мариной? Беата терялась в догадках.








