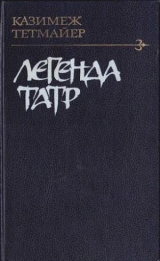
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
– Вспоминала.
Яносику хотелось схватить ее в объятья, прижать к себе, целовать, но он боялся обидеть ее чрезмерной смелостью. Они сели на скамью перед домом. Здесь было совсем темно.
– Веронка, – начал Яносик, – я всегда приказывал петь себе твою песню! Ты помнишь ее?
И он тихонько стал насвистывать.
– Помню, – отвечала Веронка.
– Да… Звезды в ту ночь светили так же, как нынче.
– Так же.
Все сильней билось у Яносика сердце.
– Веронка, – сказал он, – я иной раз так сильно по тебе тосковал, что и не поверишь! Так и полетел бы сюда ветром через горы…
– Почему же не пришел?
– Почему?
Яносик замолчал и опять стал тихо насвистывать, мысленно произнося слова песни:
Эх, зачем, зачем ты
Ко мне не пришел,
Когда месяц ясный
На небо взошел?
– Десять лет – время долгое, – сказала Веронка.
– А ты ждала меня?
– Сначала ждала, а потом уж нет.
– Веронка, – тихо заговорил Яносик, – Веронка, ты помнишь ту ночь?..
Девушка опустила голову.
– Помнишь?
Из глаз Веронки потекли слезы.
– О чем ты плачешь? Я здесь! – сказал Яносик.
– А молодость моя, где она? – сквозь слезы шепнула Веронка.
Сердце растаяло в груди Яносика. Он обнял девушку, прижал к себе и стал целовать ее щеки.
– Я здесь, Веронка, вернулся, – говорил он.
Девушка отерла слезы.
– Что старое поминать? – сказала она. – Как суждено, так и сталось. Ты завтра уходишь? Дальше?
– А как бы ты хотела?
Тогда Веронка взяла Яносика за обе руки и сказала:
– К чему спрашивать?
Проходила тихая ночь, а они сидели на лавке перед домом, в глубине дремучего леса, высоко в горах, над миром, далеко от жизни. И Веронка запела вполголоса по‑словацки:
У зеленой ракиты
Лежит Ян убитый.
Кто убил его? За что?
Мы не знаем.
Яна бедного мы, девушки,
Похороним.
Где же мы его положим?
Где же похороним?
Во лесочке, во лесочке
Во зеленом.
Там споет ему соловушка
Над могилой.
Плакала над Яником
Верная Марика:
«Ах, попомните вы, люди,
Что умру я,
Что умру я скоро
От тоски великой!»
А когда пришли в лесочек,
Она побелела.
Ах, и рожь еще не сжали
В чистом поле,
А уже Марике бедной
Могилу копали…
А над общей могилой
Посадили розы.
А на кустиках сплетаются
Ветки с ветками,
Точно друг с подружкой
Обнимаются…
Слушал Яносик, как тихонько напевала она бесконечно сладостную, бесконечно унылую, печальную словацкую песню.
– Эх, боже мой! – сказал он. – И что это такое творится на свете!
Веронка припала лицом к его плечу и шепнула так тихо, словно это пролетел ночной мотылек:
– А ты хочешь туда сходить?
– Куда?
– На могилу.
– На какую могилу?
– Ох, Яносик! В долине, высоко, в Батыжовецкой долине…
– Да кто ж там лежит?
– Кто?
Она встала и потянула его за собой. Они вышли через боковую калитку за домом прямо в лес, на лесную дорогу. Веронка шла впереди.
Шагали медленно в темноте, поднимаясь на гору, а когда миновали непроходимый еловый бор и вышли в мелколесье, над головами их засияли звезды.
Кое‑где, точно тени, виднелись одиночные высокие пихты.
Они долго шли мелколесьем, отстраняя загораживавшие дорогу ветви, и уже перед самым рассветом добрались до валунов.
– Батыжовецкая долина, – сказала Веронка.
– Каменная гряда, – отозвался Яносик.
С камня на камень, по уступам взбирались они наверх, а скалы стояли над ними темные, мрачные, лишь кое‑где верхушки их серебрил свет звезд. Шумел холодный предутренний ветер.
– Я хотела хоть раз привести тебя сюда, – шепнула Веронка.
– В эту долину?
– К озеру.
Понемногу светало. Посветлели горы, вставая серыми громадами, и в сумрачные ущелья между скал вливался уже бледный свет зари. Показалось угрюмое, черное Батыжовецкое озеро. Над ним висела туча, почти касаясь воды своими растрепанными краями.
– Направо, – сказала Веронка.
Резкий, пронзительный, протяжный свист прервал тишину.
– Козел, – сказал Яносик, поднимая голову.
Загремели камни, летевшие вниз по склону, прокатилось эхо; козел, видимо, проскакал мимо.
Они прошли по плоским влажным камням.
– Здесь, – сказала Веронка.
Яносик увидел маленький холмик, сложенный из камней.
– Что это? – спросил он.
Веронка молча опустилась на колени, сложив руки.
Стоя возле нее, Яносик смотрел на серую кучку камней, над которой темнели скалы. Вечно недвижные, они, казалось, двигались в этом предрассветном сумраке.
Веронка перекрестила могилку и сказала, вставая:
– Яносик, здесь лежит твой сын.
Яносик вздрогнул.
– Я его здесь похоронила. Всего один день он прожил. Не отдала я его ни людям, ни земляным червям. Здесь, где никто его не тронет, лежит он в деревянном гробике под камнями, и ветер его баюкает, как мать…
– Я не знал, – проговорил Яносик.
– Я сама отнесла его сюда. Здесь лежит наш сын… Ты его никогда не видел.
– Эх, боже! – вздохнул Яносик. – Вот что бывает на свете…
А Веронка рассказывала:
– Каждую весну ходила я сюда… Когда снег таял. На озере еще лед лежал. Ветер поет колыбельные песни моему дитятку: «Баю‑бай, маленький»… Стены Герляховской горы – дом его…
– Эх, – сказал Яносик, – лежит он здесь, как орленок в гнезде. Высоко.
– Вот что случилось после той ночи, когда ты говорил мне: «Я беру с тебя мед, как пчела с сирени»…
– А ты мне сказала, что я для тебя – точно лес…
Веронка обвила руками шею Яносика.
– Показала я его тебе – и сердцу легче. И он отца своего теперь узнал. А то ночью приходил меня спрашивать: «Кто мой отец? Откуда? Из Польши?»
Яносик гордо встал на камень, поднял голову и сказал:
– Яносик Нендза Литмановский, разбойничий гетман.
– Иисусе, Мария! – пронзительно вскрикнула Веронка и отступила в страхе.
Но Яносик взял ее за руку и сказал:
– Не бойся. Ты будешь моя, станешь хозяйкой Липтова. Мы будем жить в замке, а здесь я поставлю золотой крест.
– Так это ты разбойничал в Липтове? Из‑за тебя лились слезы? Тебя проклинали? За твою голову назначена награда? – восклицала Веронка.
– Никогда я не брал ничего у бедняка. Я брал только там, где было много добра. Я людей равнял. А мне самому не нужно было ничего. Веселый я был! И смелый. Нищий не станет разбойником, это может только мужик! Я любил радовать людей и с ними тягаться: кто лучше? Я этой чупагой прорубил себе путь от Дунайца к Дунаю! Да!
И он поднял чупагу над головой.
– Ты страшен, – сказала Веронка.
– Но славен, могуч и богат!
Веронка опустила голову.
– Как король! – шепнула она с невольным смирением.
– Как король!
Яносик обнял ее за плечи.
– Я вознагражу тебя за погибшую молодость… В золоте, в шелках будешь ходить… Ты всегда была в моем сердце. Я тебе благодарен. Песней своей ты меня словно околдовала, в ней было счастье. Гляди, как хорош свет божий!
Внизу простиралась светлая равнина Спижа, из‑за Татр брызнули солнечные лучи, и на черные вершины Герляховской горы набежал золотисто‑розовый свет, заиграл в изломах, как гирлянда цветов.
– Ребенок пусть спит, – сказал Яносик, обернувшись назад, к озеру. – Ему здесь хорошо, покойно. Никто не придет к нему, не нарушит покой. Тихо здесь. Горы, как стены, оградили его. Он лежит, как сын королевский в замке. Прощай, Веронка. Я отсюда сбегу прямо вниз – и воловьими тропками через лес…
– Куда же ты идешь?
– Меня война ждет.
– С кем?!
– С панами.
– Яносик! Пропадешь!
– Либо я, либо они. Кому‑нибудь из нас надо погибнуть. Если бы враги друг друга боялись, так не было бы и войн. Будь здорова! И жди меня.
Он обнял Веронку, привлек ее к себе, поцеловал и пошел прочь. А когда, бряцая чупагой, скрылся среди скал, Веронка в отчаянии крикнула:
– Яносик!
Но из чащи донеслась уже только его песня:
Не тужи, подружка,
О своей судьбе:
Исхожу всю землю,–
А вернусь к тебе!..
Веронка стояла среди пустыни. Ей казалось, что она видела сон. По кустам, позолоченным восходящим солнцем, пробегал ветер. Веронка откинула со лба волосы и перекрестила издали Яносика.
– Сгинешь! – прошептала она.
А Яносик спускался вниз, одинокий среди этой пустыни, и думал: «Ну, я теперь знаю, что меня туда тянуло. Суждено мне было увидеть могилу сына. Думал ли я когда‑нибудь, что у меня есть сын? А судьба о человеке думает! Небось приведет куда надо. И сам того не знаешь, а ее слушаешься! И что это за голос такой? Он в душе откликается. Власть над миром имеет…»
Сбежал Яносик, как весной горный ручей, к своим товарищам и удивился: вместо троих, лежавших под деревьями, на стоянке он увидел четырех.
– Кто здесь? – крикнул он еще издали.
– Бафия! – отвечали ему.
В их голосах было что‑то, встревожившее Яносика; несколькими прыжками он спустился вниз.
– Зачем он пришел?
– Всему конец! – ответил Бафия.
– Как?! – крикнул Яносик.
– Всему конец. Ночью откуда‑то пришло императорское войско, Градек заняли.
– А мужики?
– Кто не убит, тот бежал.
Яносик зашатался и прислонился к дереву.
– Все убежали?
– Все, не бежали только те, что убиты или взяты в плен. Их за среднее ребро повесят. А вы где были, разбойничий гетман?!
Взмахнул чупагой Яносик, но удержал ее в воздухе и только глянул в лицо Бафии такими страшными глазами, что Бафия побелел. Одно слово прогремело из уст Яносика:
– Ступай!
Бафия повернулся и, съежившись, пошел прочь.
– Что он говорил? – спросил Яносик.
– Да то же, что тебе! – ответил Гадея. – Ночью пришло войско, окружило замок, наши защищались. Их не застали врасплох: Саблик караульных поставил. Да у солдат пушки были, много пушек, и мужики бросились бежать. Бафия тоже убежал и попал сюда.
– Саблик погиб?
– Нет. Вывел мужиков.
– Много погибло?
Гадея ничего не ответил.
– Саблик сразу увидел, что песня наша спета. Он бежал, а мужики за ним, – сказал Матея.
– Примерно половина, – вставил Гадея.
– Эх, если бы ты был там! – сказал Яносику Моцарный.
– Слава богу, что его там не было, – возразил Гадея. – И сам бы погиб, и другим бы не дал убежать.
– Там ничего нельзя было сделать! – сказал Матея. – Солдат было тысячи две, и с пушками.
– Так и Бафия говорил: «И слава богу, что Яносика не было! Он бы нас всех погубил. Там надо было не биться, а бежать». Говорил он еще, что с деньгами некоторые мужики убежали. Одни успели бежать, другие – нет. Бафия нам тут все рассказал до твоего прихода. Долго, долго тебя не было!
– Прямо скажу – людям тебя проклинать не за что, – сказал Гадея. – Всякий знает, что ты людям добра хотел. А если не вышло, так что же. Ты ведь не господь бог! Правда, тьма народу не вернется домой. Но они же знали, что не на свадьбу идут. Никто их силой за Татры не тащил!
– Правда, – сказал и Моцарный. – Знали, что либо пан, либо пропал.
– Бог тебя хранил, что ты в лесной сторожке замешкался, – сказал Матея, – сам знаешь, каков ты! Тебе море по колено, смел ты больно. И ты бы сгинул, и мы бы все трое сгинули, и ни единого свидетеля не осталось бы. Не удался поход, что ж тут поделаешь!
– Бог тебя уберег! – повторили Гадея и Моцарный.
– Точно нарочно тебя услал, – сказал Матея.
– Пути господни неисповедимы, – начал, помолчав, Гадея. – Кто ж знает, чего ему еще от тебя надо. Может, он тебя к тому ведет, чтобы ты на добытые разбоем деньги костел построил, как когда‑то разбойники в Новом Тарге поставили костел святой Анне. Пути господни неисповедимы, и постигнуть их не пытайся.
Так говорили они, глядя на Яносика, а у него в лице краска сменялась бледностью, глаза то сверкали, то меркли.
Он слушал, но как будто не слышал ничего. И только после долгого молчания шепнул куда‑то в пространство: «Ты меня с пути сбила, дивчина. Ты одна в сердце у меня. Всему конец. И мне и жизни моей». Потом сказал громко и уверенно:
– Пойдемте, поднимемся выше. Там есть полянка в лесу.
– А зачем туда идти? Надо удирать за Татры. К Кончистой горе, через Железные Ворота, – сказал Моцарный.
Яносик рассмеялся.
– Через Железные Ворота? Где мы проходили, когда с золотом и серебром возвращались с Дуная в Польшу?
– Да ведь так ближе всего, – заметил Моцарный.
– У тебя времени хватит бежать, не бойся!
– А оно бы пора. Ведь нас искать будут! – сказал Матея.
– Убежишь, убежишь и ты! Еще есть время!
– Яносик… – начал Гадея и не договорил.
Они поднимались по той горе, по которой сбежал Яносик. Прошли лес и вышли на поляну, окруженную густым кустарником в рост человека.
– Ребята! – сказал Яносик, – Дайте мне мое оружие.
Он взял у них ружье, пистолеты и разбойничьи ножи.
– А теперь делайте, что я скажу.
– Что ты затеял? – спросил Гадея.
– Подожгите кусты с трех сторон.
– Зачем?
– Увидите. Живо!
– Хочешь дымом дать знак, что мы здесь? Кому? Солдатам, что ли?
– Покуда придут, успеете убежать.
– А ты?
– Увидите. Живей поджигайте! Кругом!
Три товарища Яносика высекли огонь и подожгли можжевеловые кусты, а Яносик стал посередине.
– Беги! Огонь тебя охватит! – крикнул Гадея.
Но Яносик сказал:
– Еще есть время! Идите сюда! Подайте руки!
Они пожали ему руки и, удивленные, стояли, ничего не понимая. Наконец Гадея, глядя Яносику в лицо, медленно проговорил:
– Господи Иисусе Христе! Яносик! Что ты задумал? Заживо сгореть хочешь?
– Спасайтесь от огня, уходите с поляны, – сказал Яносик.
Они отошли, и он продолжал:
– Вы должны меня слушаться до конца! Вы присягнули. Покуда я жив, я атаман, а вы только мои товарищи. Ступайте!
– Яносик! – взмолился Гадея с острой болью в сердце.
А Яносик говорил:
– Ребята! Не может того быть, чтобы я дал одолеть себя. Покорюсь лишь одной смерти, а больше никому во всем мире. Ни князю, ни графу, ни епископу, ни королю. Мне домой вернуться опозоренным!.. Чтоб бабы кричали мне прямо в глаза: «А когда же мы в Липтов переселяться будем? Только мужиков наших ни за что сгубил!» Чтобы враг хвастать мог, что я от него сбежал? Я, Яносик Нендза Литмановский, разбойничий гетман, о котором слава на сто миль кругом идет? Мне жить, коли я не сделал того, за что брался? Коли я дал перебить столько добрых людей и не погиб с ними вместе? У меня слово – как гром. Коли уж гремит – так гремит! Прощайте! Жалко, Саблика нет. Сыграл бы он мне напоследок! Умирать мне не жаль, я там не один буду. Высоко у озера сын мой лежит в могиле.
Онемев, глядели товарищи Яносика на то, что происходило. Из глаз их по суровым лицам катились слезы, но противиться Яносику они не смели. Он был всех выше, он всем повелевал и делал, что хотел.
Огонь и дым поднимались и охватывали Яносика. Страшная боль и ужас сжимали сердца его товарищей, но вытащить его из огня они не смели: такую смерть он выбрал себе сам. Дым уже почти закрывал его от них. А он стоял спокойно, опершись на чупагу.
– Яносик, сгоришь! – крикнул Гадея, в отчаянии ломая руки.
Вдруг Матея и Моцарный рванулись, словно желая прыгнуть в огонь, но Яносик крикнул:
– Я должен умереть, иначе быть не может! Убью всякого, кто подойдет! Храни вас бог, братья дорогие!
– Эй, Томек! – закричал он еще Гадее. – Как будет время, сходи в старый домик лесника. Расскажи там панне, Веронкой ее звать, почему я к ней не вернулся! И отцу с матерью скажи! Эй! Руки у них поцелуй! Прощайте, товарищи!
Остолбенев, стояли поодаль три друга Яносика; пламя поднималось все выше, дым застилал Яносика. Они тряслись от ужаса и плакали, но не могли двинуться с места. А когда услышали стон среди треска огня, который вдруг вспыхнул огромным столбом, они с криками упали лицами на землю, потом в леденящем страхе побежали, как козлы, обезумевшие от грома. Долго бежали, пока не очутились в незнакомом лесу и настолько успокоились, что могли заговорить.
– Так он и должен был умереть, – сказал Гадея. – Я это понял.
– Никогда.
– Чупага при нем и все оружие.
– Хорошо!
– А пепел разнесут ветры.
– Страшную себе смерть выбрал. Не мог стерпеть…
– Не хотел позора. Тисом печь топить не будешь, потому что не стащишь его с вершины.
– Не будешь.
– Нет.
– Помолиться надо!
Они стали на колени среди черных елей и валунов лесных, помолились, как умели, потом Гадея, самый старший их них, сказал:
– Пойдемте, ребята, в Польшу. Что нам еще тут делать? Яносика нет больше.
– Погиб.
– Кончился.
– Аминь.
Они двинулись вперед, ища просвета в лесу. А когда вышли из леса, уже ночью, в каких‑то незнакомых местах и увидели отвесные скалы и звезды над ними, они вздохнули свободно и, с тоской и восторгом думая об Яносике, запели:
Скоро ты, Яносик, белыми руками
Сундуки купецкие станешь отпирать!
Золото купецкое, деньги королевские
Белыми руками станешь ты считать!..
Они шли в горы без хлеба и воды, блуждая во мраке среди грозящих смертью отвесных каменных стен и обрывов, под которыми царила черная ночь, закрывая от их испуганных глаз мертвую пустыню бездонной глубины Татр.
Туман застилал окрестность. Осенний, непроницаемый, унылый туман, в котором нельзя было разглядеть ближайших деревьев, ближайших домов. Горы и долины потонули в сумраке; казалось, что солнце скрылось в нем навсегда.
Ворота скрипнули, собаки подняли лай, но сразу утихли.
– Какой‑нибудь знакомый мужик идет, – сказал старик Нендза жене, которая тонкой иглой искусно вышивала мужскую рубаху.
Три товарища Яносика, Гадея, Матея и Моцарный, лица которых потемнели от тягостей пути, остановились на пороге сеней, в дверях, полуоткрытых, как водится у хозяев, у которых много работников и то один, то другой приходят по какому‑нибудь делу.
– Иди вперед, – сказали Матея и Моцарный Гадее, которого Яносик любил и ценил больше всех и старики Нендзы тоже всех больше жаловали.
Гадея, пригнув голову, чтобы не задеть о притолоку, переступил высокий порог и, отворив дверь, вошел в комнату со словами:
– Слава Иисусу Христу.
– Аминь. Здравствуй! – отвечали старики Нендзы.
Три мужика вошли и стали рядом, закрыв за собою дверь.
Нендзы поглядели на них.
– Трое вас, – сказал старик Нендза.
– Трое.
У друзей Яносика слова застряли в горле. Наступило молчание.
Все четверо мужчин опустили головы, только старуха Нендзова не переставала тонкой иглой вышивать узор на рубахе.
– Где Яносик? – спросила она у Гадеи.
– Остался.
– Где?
– В Батыжовецкой долине.
– Когда придет?
– Не придет.
Замолчала старуха, а через минуту промолвила:
– Принесите его.
– Пепел.
Она вскочила со скамьи, бросила рубаху на стол и вскрикнула:
– Как?
А старик Нендза сказал глухим голосом:
– Я знал. Юро Смелый недаром приходил. Рассказывайте.
Но все три друга Яносика заплакали, заплакал и старик, хотя ничего еще не знал о несчастье. А старуха стояла, опираясь на стол, положив руку на рубаху. И сказала, как будто про себя:
– Я ее вышивала ему живому, я ее вышила мертвому… Пепел… пепел… пепел…
Тихонько, осторожно скользнули в комнату девушки, Кристка и Ядвига, а за ними Войтек. Они увидели из своей хаты, как шли три друга Яносика. Войдя, они тоже заплакали.
Плакали долго и молча. Наконец старик Нендза сказал:
– Говорите, как было.
Гадея ответил:
– Он погиб, как орел, когда в него ударяет молния. Высоко в Татрах.
– Стрелой убил его господь бог? – спросил Нендза.
– Нет.
И Гадея рассказал о смерти Яносика, о разгроме его отрядов, свидетели которого не возвратились еще, видно, по домам.
Слушали старики мрачную повесть геройских подвигов Яносика, – так, бывало, рассказывал он им все, вернувшись из разбойничьего похода. Золотилось тогда в кубках вино, сверкали на столе дукаты, уютно, тепло было беседующим в комнате за наглухо запертыми дверями. Гадея кончил и закрыл лицо рукой.
Старуха, у которой глаза были сухи, разорвала пополам вышитую рубаху, вышла из комнаты и села на скамью перед домом.
– Отсюда Яносик в путь отправлялся… Отсюда пошел он в последний раз… Пепел… пепел… пепел…
Старый Нендза долго рыдал, обхватив голову руками, но потом овладел собой и сказал:
– Много было настоящих людей на Подгалье, много было их и в нашем роду: Валигора был, Вырвидуб, Пентожек, Водопуст, Ломискала и Валилес – Топоры из Грубого… Были в нашем роду Ян из Гроня, который у ментусян семьсот коров угнал и до нищеты их довел, и Юро Смелый, мой прадед, и другие, и дед мой, и отец, и братья их, и мои братья, и сам я, – все мы были мужики что надо, не какие‑нибудь, но такого, как мое дитя, еще не было.
– И не будет, – сказал Матея.
– Все лучшее забирают у нас боги – так когда‑то в старину говорили люди… исчезает человек, как тьма, когда утром солнце всходит.
– Века пройдут, – сказал Гадея, – покуда найдется такой человек, который расскажет про него всему миру…
– Расскажет, каков был Яносик, – добавил Матея.
– И как он жизнь кончил, – сказал Моцарный.
– Эх‑эх‑эх! – вздохнул старик Нендза. – Бог дал, бог и взял. Что поделаешь? Один пепел остался… В Батыжовецкой долине… Далеко… Высоко в Татрах… Может, и ветер не принесет его через горы… Никогда… В пепел мой сын обратился, такой сын, такой береженый… Только и всего…
Когда девушки вышли из хаты к тетке, они застали ее неподвижно сидящей на скамье; прислонившись к стене головой и плечами, застывшим взглядом смотрела она в туман, за которым виднелись Красные вершины. На них любил в теплые дни смотреть Яносик, лежа на траве под лиственницами либо сидя на скамье с пальцами, засунутыми в карманы штанов, и с вытянутыми вперед ногами.
Не посмели они подойти к ней и ушли.
Встретился им Мацек, шедший из конюшни.
– Знаешь, брат Яносик велел себя сжечь в Батыжовецкой долине, – сказала ему Кристка.
Мацек побледнел.
– Господи Иисусе Христе! Правду ты говоришь?
– Правду. Товарищи пришли.
– Зачем же я не пошел с ними! Хоть один бы раз еще!
– Мацек, – сказала Кристка, – возьми скрипку, сыграй дяде с тетей песню Яносика.
И Мацек тихонько пошел на чердак, принес скрипку, сел за домом и в непроглядном тумане заиграл любимую песню Яносика:
Эх, Яносик польский, ничего не бойся;
Ни тюрьмы оравской, ни петли тугой,
Ни мадьярских ружей, ни панов богатых,–
Эх, Яносик польский, ветер удалой!..
Он играл долго, до самого обеда, на который остались друзья Яносика. Все слушали молча. Душа Яносика, казалось, говорила с ними.
Она пришла из‑за гор, из‑за Татр, и слушала этот веселый плясовой мотив. Казалось, еще мгновение – и все услышат его голос:
Эх, Яносик польский, ничего не бойся:
Ни тюрьмы оравской, ни петли тугой!..
«Он тут, с нами, – думали все, – пришел поглядеть на дом, на хозяйство свое, на отца с матерью, на сестер и брата двоюродного, расспросить их, все разузнать… Эх, господи! »
А когда пообедали, старики Нендзы легли, утомленные скорбью своей и старостью, а трое друзей Яносика отправились по домам. Войтек остался в избе и что‑то строгал из березы, а Кристка и Ядвига вышли вместе с Мацеком и направились к своему дому.
Кристка шла впереди, а Ядвига прильнула прекрасным, юным лицом к плечу Мацека и зашептала:
– Знаешь, Мацусь, так меня разобрало, что не могу ни идти, ни думать. Милый ты мой! Сама не знаю, что сильнее: жалею Яносика или люблю тебя?
Он обнял ее за талию, а она откинулась на обнимавшую ее руку, грудь ее поднялась из‑за корсажа и белой сорочки, и алые губки раскрылись, обнажая мелкие белые зубы.
Девушки вошли в дом. Ядвига села за станок, на котором ткала прекрасное тонкое полотно, а Кристка растянула на чисто вымытом полу разглаженную деревянным валиком темно‑синюю праздничную юбку, затканную белым узором. Мацек сел на низенькую трехногую табуретку и перебирал пальцами струны.
– Больше не будем мы петь Яносику, – сказала Кристка.
– Нет.
– Кончились его песни.
– Навек.
– Ничего уж он не задумает.
– И даже ветер не прошумит ему песню о разбойнике Яне, – сказал Мацек.
Кристка и Ядвига оставили работу, станок перестал стучать. Кристка, разложив юбку на столе, села на скамью рядом с Ядвигой и, обняв ее одной рукой за шею, запела, а сестра тотчас подхватила любимую песню Яносика:
На черных волах пашет Ганка,
И полполя еще не вспахала,
А уж мать зовет: «Возвращайся,
Я хочу тебя выдать замуж,
Хочу выдать за Яна,
За грозного разбойника Яна…»
Прошло три недели с тех пор, как Мардула и Кшись возвратились в Ольчу. Убежав из Градка, они скитались по лесам, томясь от голода и жажды, и наконец пришли к какому‑то женскому монастырю. Там монахини приютили их, накормили, но не выпускали даже за ворота.
– Ни за что на свете не хотели нас отпускать, – рассказывал потом Кшись. – Разбойники вы, мол, да разбойники. Хотели, чтобы мы покаялись и от грехов очистились.
– Толкуй, – возражал Мардула. – Тебя‑то очистили потому, что стар! А я там окреп маленько, отъелся, ну и того, значит…
– А хуже всего, – говорил Кшись, – что нас прясть заставляли. Шерсть. Я‑то еще туда‑сюда, прял, а уж Мардулу они поедом ели: не умел он.
– Ходили за нами славно, – говорил Мардула, – есть, пить – всего вволю, только вот с прялкой этой никак я не мог справиться. Это, чай, не коса, не цеп, я к ней с малолетства не приучен. Много я из‑за этого с ними спорил. «Ай, нитку упустил! Ай, упустил!» Эх, чтоб тебя!.. Все вокруг меня толкутся да понукают: поскорей! поскорей!
– Настоятельница у них была здоровенная, – говорил Кшись. – Чтобы такую тушу носить, бедра надо иметь крепкие. Баба – как копна!
– Да, знатная была баба! Крепкая. Чтоб ей лопнуть! Шла, бывало, так земля под ней гудела! И сколько раз пройдет мимо меня, непременно что‑нибудь шепнет, – рассказывал Мардула.
– А меня ключница полюбила, – говорил Кшись. – Столько вина мне давала, что я боялся отсыреть, как на дожде капуста. Мне там хорошо было. Сноровка у меня была, – шерсть эту самую я быстро научился прясть. Хвалили меня. На Мардулу то одна, то другая шипит, а на меня никогда.
– Э, гречневая каша сама себя хвалит! – обрезал его Мардула.
– Ничего у них не пропадет! Крошку хлеба – и ту подыми да на стол положи. А нет – живо палкой треснут. Над Мардулой, если не напрядет, сколько надо, страх как измывались. Молока ему не давали в наказание – или только снятое.
– Я зато кое‑что другое получал, – возразил обиженный Мардула. – Даже больше, чем нужно. Все, бывало, мне говорят: «Вот на это ты мужик способный. Кабы ты так шерсть прял!» Да. Столько из‑за меня свар было, не дай бог!
– Одно было плохо, – продолжал Кшись, – ни разу я там не выспался. Каждый день к заутрене вставай. Разве только одни черти так господу богу надоедают, как эти монашки! А ксендз ихний все спасти нас хотел, да мы удрали. Спасайся сам, коли это тебе так нужно!.. Не спи! Лучше синица в руках, чем журавель в небе. Спасения‑то я что‑то не видел, а спать мне хотелось.
Так они рассказывали. И дивились вместе с другими людьми, как далеко шла про Яносика молва, хоть и не завоевал он Липтова. По всем городам и деревням, по самым глухим углам и безлюдным степям шла о нем слава. Ваг и Орава, Попрад и Дунаец разносили его имя. Вся его жизнь смолоду и до смертного часа была как жизнь орла в Татрах.
«Эх, кабы ты такой был! – говорили матери сыновьям, сестры братьям, любовницы любовникам, молодые жены мужьям. – Кабы ты был такой, как Яносик, разбойничий атаман!..»
В горах сильно порошил снег, и Саблик думал, что дикие козы уже сходят с высот в долины; стоял ноябрь – время, когда козлы гоняются за козами и яростно дерутся между собой, а тогда к ним можно подойти на ружейный выстрел. И в один прекрасный день Саблик, как обыкновенно, насыпал в мешочек немного муки, положил бутылку водки в свою охотничью сумку, повесил через плечо и лук, запрятал гусли в рукав чухи и, надев теплые бахилы белого сукна, взял чупагу и двинулся в Татры.
Он вышел один. Все лучшие его товарищи – братья Ендрек и Юзек, знаменитые охотники – Мацек Сечка, Самек, Собчак, Татар – либо умерли, либо уже сидели дома, старые и дряхлые. Скучно было Саблику. Без Яносика Нендзы постыл ему белый свет. Словно солнца не стало на небе. Так люди повесили головы и затосковали, когда последний зубр, последний лось и последний бобр, загнанные в горы из вырубленных лесов, пропали, и здесь на Подгалье осталась только память о них – названия мест: Бобровец, Зуберец, Лосевка… Память о чудесах природы… И такого человека, как Яносик, тоже не было больше.
Саблик знал, что юрговяне, буковяне, бялчане и поронинские охотники будут охотиться на Широкой, в Яворовых Садах, под Высокой, на Волошине, на Кошистой, в Пятиозёрье, в Закопане, на Козьем Верхе и на ближайших горах. Знал, что, хотя повсюду считают его отцом охоты, все же не может он тягаться с молодыми. И потому он решил пройти через Ваксмундскую, под Волошин, к Ростоке и мимо Рыбьего через ущелье выбраться к Гинчову озеру. Там было безлюдье: липтовские охотники отправлялись в Кривань или в Цваловскую долину: нога человеческая не ступала на эти широкие просторы вдали от жилья, поросшие дремучим лесом. Да и не любил Саблик охотиться близко от дома: там, по ту сторону Татр, он вступал в другой мир, широко раскинувшийся перед глазами, а когда он играл, стоя где‑нибудь на вершине скалы, ему казалось, что его слышно всюду в долинах Венгрии.
Он вошел в бор, и душу его охватило желание повиснуть где‑нибудь на уже шаткой скале над темной, глубокой пропастью, чтобы овеял его ветер гор, который никогда грудью не касался земли.
Он вошел в громадный лес и пошел тропкой над теплым ключом, где водятся удивительные ящерицы и жабы, зловещие змеи; потом он стал подниматься вверх, где над головой видно только небо, – сюда выгоняли весной мужики из Дембна и Островска рогатый скот и овец; миновал потоки и сухие болота и по склонам Волошина подошел к лесу карликовых деревьев под Опаленным и увидал вокруг себя и над собой горы.
Спрашивают горы,
Реки и леса:
Куда вы девались,
Былые времена?
Белый снег покрывал уже вершины и склоны Медной горы, искрился на солнце, как расплавленное серебро и золото.
Холодные ветры
Подули с Оравы…
Снежок закружился,
Побелели Татры…
Остро пахло снегом, влажный воздух проникал в рот и легкие.
Саблик остановился и крикнул:
– Э‑ге‑ге‑ге!..
– Э‑ге‑ге!.. – ответило эхо в ущельях, где сверкали покрытые инеем карликовые сосны.
Саблик был один. Как король.
Он был один среди громадных гор, среди подоблачных вершин, среди черных шумящих лесов и вод, журчащих или тихих и глубоких, как сон великой души, души храбреца и охотника на медведей.
Саблик был один в горах, среди горной зимы, всей грудью вбирал он в себя могучее дыхание гор, ни с кем не делясь. Свет солнца, игравший на снегу, сиял только ему. Саблик точно крепкого токайского вина выпил, – казалось, у него выросли крылья.
Он не боялся идти один. Он был охотник.
И он бодро шагал под вечер к Рыбьему озеру.
Оно лежало за цепью скал, уединенное и большое.
Саблик шел пастушьими тропами среди мелколесья. Вот он поднялся на вершины и поглядел вниз.
Там, под темными, отвесными, покрытыми снегом стенами Менгушовского Верха, в котловине, в венке темнозеленых кустов, черных елей и зеленых пихт, лежало безмолвное Рыбье озеро, наполовину кроваво‑красное от заходящего солнца, наполовину темно‑синее, с металлическим блеском – там, где прибрежные скалы отражались в нем.
Гонялись за Сабликом
В зеленых лесах,
Да не страшно Саблику
С чупагой в руках!








