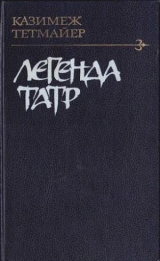
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– Господи боже! – прошептал Кшись в страхе при виде этих нечеловеческих усилий.
Галайда взглянул на невредимую решетку окна, на разорванную пополам рубаху, губы его искривились, слезы потекли из глаз, грудь поднималась от частых, прерывистых рыданий. Он плакал, как беспомощный ребенок.
Кшисю стало его жалко.
– Бартек, ну чего ты плачешь? – сказал он, чтобы его утешить, – Рубахи жалко? Да ведь она тебе не нужна, потому что тебя повесят. А как поведут тебя к виселице, так рубаху тебе дадут, не бойся.
– Посовестятся они голого вешать, – с покорностью судьбе прибавил Мардула.
Галайда рыдал и глядел на решетку, глаза его становились все больше, – казалось, они выкатывались из орбит. Испугался за него Кшись.
– Галайда! Не сходи с ума! – крикнул он.
А Галайда опять, как безумный, стал водить руками вокруг, проделывая какие‑то странные движения, подносить их к голове и снова вытягивать вперед.
– Ишь, – печально сказал Мардула, – медведя на волю из капкана выпустил, а сам в неволю попал…
– Да! – вздохнул Кшись, – Уж не даст мне Бырка на завтрак холодной капусты без масла… Что делать… Всемогущий боже…
– Кабы пришел я домой, так какое бы я хозяйство развел на те пятьдесят дукатов, что мне господь послал! – горевал Мардула.
– Иисусе! Сколько раз мы на эти дукаты выпили бы! – вздохнул Кшись.
– Ох, выпили бы!
– И Галайду женили бы! Я ему всегда говорил, что ему жена нужна. И нашел бы ему бабенку как следует, не общипанную, не кривляку какую‑нибудь, а хозяйскую дочку, не перезрелую, работящую, видную, красивую… Потому что он – человек!
– Да, человек! – повторил Мардула.
– Ему баба нужна была, – продолжал Кшись. – Я ему советовал. Такая, чтобы душа у нее была – как вода, сердце золотое, ум долог, как волосы, а от бедра до бедра сзади – сажень. Настоящая чтоб была!
– Да, настоящая! – с сожалением вздохнул Мардула.
– Я ему советовал. Потому что мне его жалко было.
– Эх, эх, – вздыхал Мардула.
– А теперь все ни к чему.
– Ни к чему.
– И с Быркой я жить не буду, и Галайда не женится, и повесят нас.
– О, раны Христовы! – расчувствовавшись, зарыдал Мардула.
– Из тебя, Франек, тоже ничего не выйдет. А ведь какой красавец!
– Да, – стонал Мардула сквозь слезы, – другого такого не было.
– Не было.
– Я всегда знал, что не было!
И Мардула бросился в объятия Кшися.
– Шимон! – тихим, дрожащим голосом окликнул Кшися Галайда, сидевший в углу.
– Чего?
– Значит, уж не пойду я боьше с волами в горы?
– Нет.
– Когда все зазеленеет?
– Нет.
– Когда в лесу птицы засвистят?
– Нет.
– Когда дятел застучит по сосне?
– Нет.
– И бела по ветвям запрыгает?
– Нет.
– Когда по небу пойдут белые облака, а овцы зазвенят в загонах колокольчиками?
– Нет.
– Когда пастухи будут играть в горах на свирелях, а пастушки петь песни?
– Нет.
– И костра разводить не буду?
– Нет.
– И не буду больше никогда в траве лежать среди желтых лилий и щавель жевать?
– Нет.
– И черники да брусники не буду есть?
– Нет.
– И на небо не буду больше глядеть лежа на спине да солнышке греясь?
– Нет.
– И не пойду больше куда хочу, когда захочу?
– Нет.
– Меня, значит, что‑то держит?
– Да.
– Меня?
– Тебя.
Галайда, до тех пор говоривший жалобно, как дитя, вдруг зарычал и кинулся к гладкой железной двери, у которой изнутри не было даже засова. Не за что было ухватиться, чтобы попробовать открыть, – и после нескольких тщетных попыток Галайда стал биться об нее огромным своим телом. Загудела вся камера, но дверь даже не дрогнула. А Кшись кричал:
– Бартек, да сядь ты, перестань, ведь ты себе нутро повредишь!
– Бартек, сядь! – кричал в свою очередь Мардула. – Все это ни к чему! Я знаю!
Галайда колотил в дверь плечами, грудью, коленями и, наконец, отошел от нее, бормоча:
– Сильнее…
– Бедняга, – сказал Кшись. – Думал, что сильнее его на свете ничего нет. А глядь – есть. Нашлось. Железная дверь.
– Сильнее меня, – повторил Галайда.
Он смотрел на дверь с каким‑то почтительным удивлением.
– Видишь, Галайда, – сказал Мардула, – так, должно быть, и тот медведь шептал под Криванем, которого ты из капкана высвободил. Капкан тоже сильнее его был. Ты ему сказал: «Страшна неволя», – а и не думал, что сам в нее попадешь.
– Не думал, – прохрипел Галайда.
– И сжалился ты над ним, хоть был это всего‑навсего глупый зверь. А над нами никто не сжалится… Ох, не сжалится…
– Да, не чаяли мы, что сюда попадем, – горевал Кшись.
А Мардула воскликнул:
– Видишь, Бартек? Скачет медведь твой по лесу, вспоминает тебя… и неволю свою…
– Неволя! – прохрипел Галайда.
И вдруг он отскочил от стены, у которой стоял, нагнулся, наклонил голову, разбежался, сделал огромный прыжок и, с треском выломав решетку, половиною тела застрял в окне.
Кшись с Мардулой сначала остолбенели. Наконец Кшись, видя, что произошло, весело крикнул:
– Бартек!
Галайда не отвечал. Кшись окликнул его еще раз:
– Бартек! Ну и молодец! Еще такого молодца не бывало! Высоко там?
Галайда молчал.
– Обеспамятел! – сказал Мардула.
– Не диво! Давай стащим его.
Они вытащили Галайду из окна, он бессильно повис у них на руках.
– Бартек! – крикнул Мардула.
Из‑под волос Галайды текла кровь.
– Голову разбил! – с ужасом воскликнул Кшись.
– Нет, башка цела, – сказал Мардула, ощупав голову Галайды под волосами. – Только кожу рассек.
Они положили его на пол. Галайда лежал неподвижно.
– Помер, – сказал Мардула. – Убился!
– Убился, – сказал и Кшись, кивая головой. – Такой сильный мужик!
– Смерть сильнее.
– Бартек! – вдруг завопил Кшись, тряся Галайду.
Но Галайда был недвижим.
– Убился, – повторил Кшись с бессильной тревогой. – Насмерть…
– Жалко его! Я его страсть как любил, – вздохнул Мардула.
– И я! – Кшись разрыдался. Заплакал и Мардула над огромным трупом.
– Бартусь, Бартусь! Кабы чуял я наперед, что убьешься, не звал бы тебя с собою! – рыдал Мардула.
Кшись скоро перестал плакать и сказал:
– А решетку он выломал.
В один миг перестал плакать и Мардула.
– Верно, – сказал он, – выломал.
– Можем бежать.
– Можем…
– Солнце только восходит. Все еще спят.
– Так мы, значит, здесь со вчерашнего полудня?
– Ну да, спали, потому что пьяны были.
Мардула рванулся, как кабан.
– Бежим!
Кшись подошел к окну и выглянул наружу.
– Никого нет. Под стеной вода. Это река Ваг. Кажись, она не больно глубока. Только высоко прыгать. Сажени три будет.
– Хоть бы десять!
– Положим его как следует, – сказал Кшись, – чтобы знали, что он был человек крещеный и что его здесь никто не убил, а он сам.
– Живей! Живей! – торопил его Мардула.
Кшись сложил руки Галайды на огромной груди и закрыл ему глаза.
– Будь здоров, брат! – сказал он, пожимая ему руку.
А Мардула высунулся уже в окно, спустил ноги и прыгнул.
Кшись поглядел ему вслед: он упал в реку, погрузился в воду по шею и стал на ноги.
Кшися охватил страх, но Мардула подавал руками знаки, чтобы он поторопился. И вот он вылез в окно, помянул матерь божию да Бырку – и прыгнул.
Он шлепнулся в воду рядом с Мардулой, погрузился в нее с головой, но Мардула, схватив его за ворот, потащил к берегу. Они кинулись в лес за рекой и побежали.
Бежали долго, наконец Кшись запыхался и проворчал:
– Легче, а то я так не могу.
Мардула немного замедлил свой бешеный бег, а Кшись бормотал:
– Славная бы из тебя блоха вышла, Франек… Либо козел… Когда помрешь, будешь с чертями на досуге по воскресеньям взапуски бегать по пеклу… Ведь ты туда попадешь за солтыса из Кальварии.
Они опять побежали, пока Кшись не запротестовал:
– Стой! Мы и так далеко убежали! Ты меня уморишь!
Остановились. Кшись тотчас уселся на корни бука. Он помолчал, посопел, а потом сказал:
– Жаль Бартека! Настоящий человек был! И добрый.
– Жаль, – отвечал Мардула. – Мне его до конца жизни жаль будет.
– И мне. Только знаешь, кабы не он, мы бы оттуда не вышли.
– Да как же выйти? Ни за что на свете! Этой решетки трем здоровенным мужикам не выломать. Я как за нее схватился, сразу это понял.
– Висели бы мы…
– Еще бы! А сначала нас бы избили! Чуть живых повесили бы!
Кшись вздрогнул и повел плечами.
– Хорошо, что он с нами был.
– Истинно, милость божья! Нам отца родного послал господь в этом Бартеке.
– Да. Бога надо благодарить, что его вместе с нами заперли.
– И что башка у него была, крепкая. Дерьмом не выбил бы решетку.
– Да. Слава богу, что мы здесь!
– Освободились.
– Э, – весело сказал Кшись, помолчав, – и подивятся же они, когда его одного найдут!
– Верно, что подивятся, сукины дети! Ведь три виселицы готовили!
– Пускай меня ищут теперь, когда я тут! А куда же мы теперь пойдем?
– К Яносику. Отыщем его! Он мужиков по дороге не сеет: все вместе идут. Вернемся за реку, да только подальше. У меня словно крылья выросли.
– Черти тебя из штанов вытряхнули! А я вчера в корчме так нализался, что еще не в себе. Посидим маленько. Гнаться за нами никто не будет, потому что мы следов не оставили. Подумают, что в реке потонули, когда из окна выскочили. Да и труп Галайды их хоть на четверть часа займет, когда его найдут: гадать будут, что случилось.
– Надо прямо сказать, Шимон, нас господь бог хранит, – заметил Мардула. – Кабы не сотворил он Галайды, не быть бы нам здесь – нас бы обязательно повесили.
– А то как же!
– Просто чудо, до чего мне везет! – продолжал Мардула. – Никому так не везет! И денег добыл и из беды вышел. И дукатов этих с собой не взял, только два. Два истратил, а штук сорок оставил у матери, в Ольче. Красивого человека и господь любит. Только знаете, Кшись, не сказывайте людям, что Галайда меня ручищей своей опрокинул. Ведь этого и не было. Я сам споткнулся, вот и все. Я бы ему не дал наземь себя повалить.
– Э, – сказал Кшись, – жалко его. Я бы его женил. Ей‑богу! Играл бы у него на свадьбе, и выпили бы мы…
А Мардула ораторствовал:
– Не беспокойтесь, господь бог знает, что делает! Ведь ему до судного дня стыдно было бы, кабы он позволил меня повесить каким‑то липтовским оборванцам! Это раз. А другое – любо ему глядеть на меня, все равно как на цветок. Ну, однако, побежим дальше.
– Только не так быстро. Очень уж печет! Этакая жарища! – отвечал Кшись.
Яносик Нендза Литмановский, засунув руки в разрезы штанов и вытянув вперед ноги, сидел в золоченой зале каштелянского замка в Градке на кресле, обитом красным бархатом, за ним, опершись на чупаги, стояли его друзья: Гадея, Матея, Войтек Моцарный и старый седой Саблик. А перед ним стоял бледный, испуганный каштелян, барон Иво Саланьи; от ужаса руки его бессильно повисли.
– Ваша милость, вельможный пан граф, попрошу дать ключи от казны, – вежливо сказал каштеляну Яносик.
– Казна императорская.
– Теперь я здесь хозяин! Пишите императору: Яносик Нендза Литмановский из Польши, из Нендзова Гроника в Полянах, был здесь и захватил казну… Томек! – обратился он к Гадее. – Бери мужиков и ступай с паном графом за казной.
И, протянув вперед руку, он движением пальца приказал барону повиноваться. Потом он обернулся к сидевшему у стены, красному от бешенства канонику, замковому ксендзу:
– Прошу, ваше преподобие, похоронить Галайду, того мужика, которого нашли в тюрьме мертвым, прежде чем я пришел сюда и взял Градек. Прошу похоронить его, как ваших генералов хоронят.
Надменный, самоуверенный ксендз так и шарахнулся назад и крикнул вне себя от возмущения:
– Ты с ума спятил, хам?
Яносик встал с обитого красным бархатом кресла, подошел к ксендзу, вынул из‑за пояса пистолет и, приставив его чуть не к самому носу каноника, поцеловал у него рукав сутаны и сказал спокойно:
– Как вам угодно, ваше преподобие. Я вас насильно заставлять не буду. А все‑таки ведь сделаете по‑моему?
И он еще ближе поднес дуло к носу ксендза.
– Ну, как же?
Ксендз выругался по‑венгерски, вскочил и крикнул:
– Разбойник!
– Ну, это не беда, – спокойно ответил Яносик и пистолетом коснулся его носа.
– Будет по‑моему?
– Будет! – крикнул, дрожа от ярости, ксендз.
Яносик снова поцеловал его в рукав и сказал:
– И чтобы скоро было, ваше преподобие, мигом, потому что нам некогда здесь сидеть. А что мы маленько повздорили, это ничего. Мы сердиться друг на друга не будем. Бери мужиков, Матея, и ступай с его преподобием. Похороны Галайде справить, как генералу! Я туда приду. А сотники и десятники пусть следят: купцов, жидов, панов грабить можно. У мужиков, у бедных, у сапожников, у портных, у ремесленников не брать ничего, а еще им дать, если они нуждаются. Разбойник равняет людей!
– Вот видите, крестный, – обратился затем Яносик к Саблику, – мы не позже как через два часа после рассвета сюда пришли, а Галайда был уже мертвый.
– Да.
– А Мардулу с Кшисем никто не видел?
– Никто.
– Это они вдвоем что‑нибудь намудрили, а Галайда поплатился. Жаль мужика. Хотел я его показать императору, когда буду с ним в Пеште землю делить. Сильнее его между нами не было. Здоровенного вола поднимал. Хотел я похвалиться, какие в Польше у нас мужики… Есть мне хочется. Эй, гайдук, приведи сюда барана! Жирного!
– Сюда? – спросил испуганный бургграф, которого Яносик принял за гайдука.
– Не болтай языком, а делай, что приказывают! – крикнул Яносик.
Когда барана привели в залу, Яносик подошел к нему, разбойничьим ножом на багдадском ковре перерезал ему горло и сказал:
– А где кухня? Сварите его в молоке, по‑пастушески. А мужикам – волов, сколько надо будет. Чтобы вволю мяса было! И нищим дать, да странникам, да всем беднякам. Только пейте поменьше. Кто напьется – двадцать пять раз обухом по шее!
Яносик с тысячью мужиков подошел к Градку так быстро и неожиданно, что сразу взял его. Занял Градек и раздумывал, что делать дальше.
Потом, как подобает владыке, сел Яносик посреди рынка суд вершить. По городу и за городом приказал он объявить, что, если кто имеет на кого жалобу, пусть придет на суд правый.
И вот потянулись словацкие мужики жаловаться на своих панов‑мадьяров, а Яносик слушал и запоминал, а тем, кто жаловался на бедность, приказывал давать награбленное золото.
Но в этот же день, после полудня, приехали солдаты, спешно привезенные из Микулаша на телегах. Яносик напал на них, как охотничий сокол на ястребов. Чупага, звенящая кольцами, в его руках разила как молния. Схватился с ним самый могучий из воинов, цыган Франек Бела из Оравских замков, великан с ликом дьявола. Он сражался пеший, топором, которого не удержал бы в обеих руках ни один человек.
– Хам! – закричал он, обрушиваясь на Яносика, как камень с горы на бук, растущий внизу.
– Собака! – отвечал Яносик, бряцая чупагой.
Стали они рубиться, но каждый раз острие ударялось об острие. Цыган взял топор обеими руками, и топор завертелся, как вертятся спицы колеса при быстрой езде. У цыгана на губах выступила белая пена, и зловеще горели его голубые глаза. Как на току во время молотьбы ударяются цепы о твердую землю и отскакивают от нее, так топор отскакивал от топора. Ни Яносик, ни цыган не отступали ни на шаг: крепко упираясь ногами в землю, наступали они друг на друга. Так, когда налетит горный ветер, буки, растущие рядом, бешено бьют друг друга ветвями, так олени ударяют друг друга рогами. Оба метались, как пламя. Вдруг цыган левой рукой вытащил из‑за пояса длинный турецкий ятаган и ткнул им в Яносика. Но прежде чем острие достигло груди Яносика, он ударил Белу ногой по колену, и цыган повалился навзничь.
Засмеялся Яносик и сказал:
– Ну, как же теперь?
Цыган секунду лежал, столь же испуганный, сколь изумленный. Он ждал удара, но, не получив его, встал на колени и, бросая ятаган к ногам Яносика, а топор отдавая ему в руки, сказал по‑оравски:
– Ну, ей‑богу, и молодец же вы!
В эту минуту молодой пан Понграц в гусарском мундире наехал конем на Яносика, но Яносик отпихнул коня плечом с такой силой, что и конь и всадник упали. Пан, крикнув по‑французски: «О, mon Dieu!», треснулся о землю головой, сломав сверкающую саблю, и под ударами Гадеи расстался со своей молодой жизнью.
Венгры побежали от Яносика во все стороны, как вороны разлетаются от кобчика, когда он бьет их острым клювом. Где бы ни показывался Яносик, раздавался крик ужаса: «Янош! Янош!» – и толпы сражающихся отступали. А он бросался вперед, не думая о числе врагов, как медведь, не считающий на поляне собак, когда на них наткнется. Поле перед ним пустело, когда налетал он, подобно буре, ломающей лес.
Венгров гнали под Смерековицы, в липтовские горы, а когда последних рассеяли и перебили, уже настала ночь. Яносик велел трубить сбор в лесу.
Когда же мужики, упоенные победой и еще не остывшие после битвы, сошлись все, Яносик приказал срубить ель на лесной поляне и зажечь огромный костер. Взвился огонь, от смолистых ветвей повалил дым. Принялись все есть и пить, шум поднялся страшный, Яносик встал и крикнул:
– Разбойничью!
Тогда Саблик стал у костра, подняв над головой окровавленную чупагу, и откинул со лба длинные седые волосы; рядом с ним стали музыканты, братья Лушки из Котельницы, у которых были с собою свирели, и Юзек Гаврань из Юргова, умевший играть на Сабликовых гуслях; Саблик вынул гусли из рукава чухи и отдал их ему, – и зазвенела по лесу музыка.
Яносик, Гадея, Матея и Войтек Моцарный стали перед музыкантами и охрипшими в бою голосами затянули разбойничью песню.
Яносик первый пустился в пляс вокруг костра, а за ним его товарищи и несколько десятков подгалянских мужиков. В крови была их одежда, а они ударяли в воздухе чупагой о чупагу, высекая искры, и лес звенел от этих ударов.
Срывались испуганные птицы, далеко убегал лесной зверь. Старый Саблик был душой этой пляски. Плясали вокруг него, почитая его громкую славу. Мужики уважали собственную силу и силу предыдущих поколений. Знал это Саблик, он выпрямился, гордо поднял голову. Он чувствовал себя как бы памятником на кладбище героев, с которыми их сыновья и внуки жаждут сравняться в мужестве и добродетелях. И вспомнил он те пляски, которые сам когда‑то, в молодости плясал вокруг старцев. Вспоминал, как плясал он один в горах или в лесных чащах: его точно носила и поднимала в воздух волна горячей крови, и он скакал и качался на крепких ногах от избытка жизненных сил.
Его седые длинные волосы развевались из‑под шляпы с узкими полями, похожей на монашеский клобук, порой он посвистывал тонкими губами и притопывал в такт дикой музыке еще легкими и сильными ногами, а на его морщинистом, худом лице, ястребином лице, изрезанном глубокими морщинами, сменялись свет и тени.
Он был похож на лесного бога убийства и разгула. Запах крови дразнил его ноздри.
Он любил бороться, сражаться, убивать. Он всю жизнь провел в кровопролитной борьбе.
И может, то была последняя великая пляска, такая, какой он никогда не видел и больше не увидит. Поток его жизни разливался в широкое озеро. Огонь его жизни вспыхнул заревом огромного пожара.
Яносик вел круг, а от дикого гиканья, свиста и криков словно гнулись верхушки деревьев, озаренных ярким огнем.
Плясуны делали дикие, бешеные прыжки, подбрасывали вверх свистящие чупаги и снова ловили их крепкими, как железные клещи, руками. Яносик остановился перед музыкантами, бросил чупагу на землю под ноги Саблику, подскочил вверх на высоту человеческого роста, потом опустился на скрещенные ноги и стал вихрем носиться над землей. За ним другие танцоры стали тоже со звоном и лязгом бросать чупаги к ногам Саблика и пошли за Яносиком вприсядку, подпрыгивая вверх, как горные козлы над обрывами. А седой Саблик на месте выколачивал дробь ногами, его чупага, поднятая над головой, сверкала, озаренная пламенем.
Долго плясал Яносик. Наконец остановился, поправил шапку, поднял с земли свою чупагу и, меняя мотив песни, зачастил бешеной скороговоркой:
Слух прошел, что убили разбойничка,
А разбойничек рыщет в лесу.
Тогда все танцоры, со звоном поднявши с земли чупаги, выпрямились и стали выколачивать дробь ногами; они свистели, кричали, напевали и, наконец, охваченные восторгом, стали обнимать друг друга и понеслись парами в головокружительном танце; чупаги, сталкиваясь, грохотали, как в кузнице.
Стой же, стой же, хитрый хлопче!
На вершине твои овцы,
Наверху, а не в долине,
А ты ходишь вкруг дивчины! –
пел Яносик, остановившись.
А когда запел еще веселей, еще забористей, когда все хором грянули:
То‑то рады будем мы
Целоваться до зари! –
тут уж прямо‑таки безумие охватило танцующих: они бросили друг друга и, как черти, стали бешеными прыжками скакать через костер. Какие‑то нечленораздельные, дикие, звериные крики стали вылетать из их ртов с белыми острыми зубами. Ударяли чупаги о чупаги, сталь о сталь, обухи скрещивались, и уже не танец, а водоворот мчался вокруг огня, а старик Саблик, стоя на месте с поднятой вверх чупагой, выколачивал дробь ногами, и волосы его серебрились.
Потом снова звучали более спокойные, разбойничьи песни, и, наконец, пляска кончилась; капли пота величиною с горох усеивали лица.
Когда круг разомкнулся, Саблик вышел из него словно в каком‑то забытьи. Долго еще не мог он выговорить ни слова и только недвижно смотрел куда‑то вдаль: в ушах его, видно, еще звучали топот и лязг, музыка разбойничьего танца.
– Эх, ребята, теперь и умирать не жалко! – сказал он наконец и, взяв у Гавраня гусли, провел пальцем по струнам, подумал немного и заговорил: – Да, ребята, много я помню разбойничьих плясок. Видел я их, когда еще из вас никого и на свете не было. Эх, какие тогда люди были! Не то что теперь. Я вам так скажу: стоит жить на свете. Очень хорош мир, надо только на самую высокую гору взойти, где ветры дуют и солнце вместе с месяцем светит. Все пустяки. Только вот та радость, какая душу тешит, когда стоишь где‑нибудь на Криване, над всей землей, – за нее держись. Радуется человек своей силе, и нет радости больше этой. Будет ли у человека любовница, либо хозяйство, либо деньги, либо добро всякое, жена ли умная, дети ли послушные, – все не так его радует, как его сила. Я вам так скажу: я бы хотел погибнуть здоровым и сильным, а не помирать от болезни. Я, как бывало, к девушке своей ходил, и то так не радовался, как тогда, когда по долинам с Грубого Верха в Черные Стены бегал. Точно орел меня нес! И знай, Яносик: будь что будет, пускай даже кровь прольется, но коли чуешь себя в силе, коли на вершине стоишь, пусть благословит тебя бог, значит, твой час настал. Пусть тешит тебя жизнь мужицкая, охотничья, разбойничья. А прочее все ни черта ни стоит. Не пристало мужику в постели помирать. Помирать надо тогда, когда ты на вершине!
Потом он учтиво улыбнулся, словно извиняясь, что долгою речью наскучил слушателям, которые, может быть, вовсе и не расположены были его слушать, и весело запел, играя на гуслях:
Эх, кабы да знал я
К Липтову дорогу,
Я б туда, ребята,
На разбой ходил!..
В избе старика Нендзы Литмановского, на Нендзовом Гронике, сидели после ужина на «чистой» половине хозяева и пришедшие их навестить девушки, Кристка и Ядвига, да брат их, Войтек. Мацек в углу перебирал пальцами струны скрипки.
Полумрак царил в комнате, слабо озаряемой лишь богато украшенным светильником, подвешенным на цепи к потолку. Вдруг старик Нендза заметил, что в полумраке на скамье сидит какой‑то мужчина.
Он удивился, но не сказал ни слова, только внимательней всмотрелся.
В избу никто не входил. Это было видение.
Вздрогнул старик Нендза и напряг зрение. Он узнал своего прадеда Юро Нендзу Смелого, которого он видел, когда был еще мальчиком.
Юро сидел на скамье и смотрел на него, седой, могучий; на груди у него висела большая медная бляха с крестом и пятнадцатью длинными цепочками. Он всегда ее носил, и с ней его похоронили, потому что это было его любимое украшение.
Он сидел неподвижно и смотрел на старого Нендзу.
Потом медленно, важно протянул к нему руку.
Больше никому не дано было его увидеть.
Через минуту призрак исчез.
Помрачнел старик Нендза, но он понимал, что это не был злой дух, так как он его не пугал. Это был прадед его, Юро. Он помолчал немного, а потом сказал:
– Мать!
– Что? – спросила старуха.
– Явился мне сейчас прадед, которого я еще мальчонкой видал, Юро Смелый.
– Да ну? – с тревогой воскликнула старуха.
– Верно. Я его так ясно видел, как вижу тебя. Руку ко мне протянул.
– И ничего не сказал?
– Ничего.
Нендзова опустила голову на грудь, а старик глубоко вздохнул.
Все молчали.
У обеих девушек, Войтека и Мацека мороз пробежал по коже.
– Тетя, – спросил Войтек тихо, – дядя Юро Смелого видал?
– Да.
– Может, пожара надо беречься либо вора? – шепотом продолжал Войтек, скрывая свой страх от себя самого.
Тихим ужасом повеяло в комнате.
– Он несчастье возвестил, – сказала старуха Нендзова.
– Или болезнь, вот как Буковскому его покойница мать.
Все притихли. Наконец Мацек сказал из угла:
– Слышал я от отца, что деды и прадеды живут с нами, в наших домах; любят они нас, потому что мы – их кровь и семя, и вот предсказывают…
– Юро попусту не пришел бы. Он был человек настоящий! – сказал старик Нендза. – Не сел бы он здесь на скамью только затем, чтобы подурачиться.
– Несчастье возвестить приходил, – вполголоса сказала старуха Нендзова. – А все‑таки Яносику идти надо было…
Тишина воцарилась в комнате. Девушки опустили головы, Войтек и Мацек сидели не двигаясь. Наступала ночь. Девушки прижались друг к другу, и Ядвига шепнула Кристке:
– Может, Яносика пытают…
– Может…
Вдруг все вздрогнули.
Старый, вековечный стол, вырубленный топором из цельного куска явора и отполированный руками многих поколений, покрытый резьбой, изображающей муки Христовы, солнце, месяц и звезды, а вокруг них, по углам, всякую утварь и деревья, стол, за которым едало не одно поколение, вдруг отозвался. Три раза что‑то в нем стукнуло.
Девушки обомлели, и Кристка шепнула Ядвиге:
– Может, убили Яносика…
– Может…
Медленно поднял старый Нендза глаза к потолку, к резной балке, которая его поддерживала и на которой вырезано было имя строителя, а посредине – звезда с расходящимися лучами: звезда рода, звезда, хранящая дом. Потом перевел он глаза на дверь, на которой расходящиеся во все стороны резные дощечки изображали восходящее солнце, радость жизни, благословение бытия, долголетие. Отсюда, с потолка и из резных дверей, в ясные дни падал свет на гладко обстроганные, блестящие, золотисто‑желтые стены, наполняя сердце весельем в этом жилище предков, где все свидетельствовало о достатке. Но сегодня верные, всеведущие и всегда бодрствующие духи предков вещали этому дому несчастие. И мертвою показалась старику Нендзе звезда, лучи которой расходились над его головой.
А мысли Яносика летели туда, где когда‑то, много лет тому назад, еще совсем молодым, побывал он с великими охотниками: с дядей своим, Вавжеком Нендзой (которому медведь проломил нос), и с Ясеком Яжомбеком, его приятелем (которому нос проломила Кунда Гарендская, во время танца ударив его локтем), которые говорили так, что их никто не понимал, кроме них самих. Жива ли еще Веронка, дочь лесника? От нее услышал он впервые ту песню, под которую с тех пор мечтал и обдумывал планы походов.
На черных волах пашет Ганка,
И полполя еще не вспахала,
А уж мать зовет: «Возвращайся,
Я хочу тебя выдать замуж,
Хочу тебя выдать за Яна,
За грозного разбойника Яна!..»
Живут ли еще в избе лесничего близ Батыжовецкой долины она и ее сестры, Ирма и Ючи, и хромой брат их, Андриш, который играл на гармонике?
Жива ли еще она?
Он не знал о ней ничего. Трудно ходить в гости на Спиж да в Липтов, когда за твою голову обещана награда.
Но с неодолимой силой влекла туда Яносика мысль о Веронке. Такая тоска охватила его, что замирало сердце в груди. Никогда, никогда не бывало больше в его жизни такой ночи, как та. Никогда… И что‑то несло его, как поток уносит ветку, которая, попав в него, кружится и несется все дальше, все дальше, увлекаемая течением.
«Что это меня манит? – думал Яносик. – Что меня туда зовет?»
И так как кругом ширилось смятение, а мужики устали, то Яносик решил дать им отдохнуть в Градке, а сам с товарищами, Гадеей, Матвей и Войтеком Моцарным, пошел лесами, расположенными у подножия Татр, в лесничество у Батыжовецкой долины.
Наступил вечер и уже всходили первые звезды, когда он остановился в лесу на небольшой поляне, где стоял домик лесника. Ручей шумел, и Яносик узнал этот шум; он остановился, закрыл глаза и прислушался. Казалось, ничего здесь не изменилось и между тем вечером и нынешним не пролегли долгие годы.
– Останьтесь здесь, – сказал он товарищам, – не то подумают, что мы идем грабить, и испугаются. Я оружие вам отдам, только чупагу возьму – от собак обороняться.
Три товарища легли в чаще, а Яносик направился к дому. Он подошел к калитке как раз в ту минуту, когда высокая, стройная женщина собиралась спустить с цепей дворовых псов.
– Эй! – крикнул Яносик через калитку.
– Кто там? – спросила женщина.
– Свой!
– А кто?
– Из Польши. Я здесь на охоте был когда‑то, лет десять тому назад.
Статная женщина остановилась и выпустила из рук цепь. Спросила дрогнувшим голосом:
– Кто такой?
Яносик узнал ее и сказал громким шепотом:
– Яносик.
Женщина быстро подошла к калитке.
– Это вы, Яносик? Из Польши?
– Да, Веронка, это я.
Тише стало в темном лесу. Женщина перегнулась через ограду.
– Яносик. – Губы у нее дрожали. – Это вы? Вы?
– Отец жив? – спросил он быстро.
– Помер.
– А мать?
– Померла.
– А сестры?
– Замуж вышли. Нет их здесь.
– Андриш? Брат?
– Он здесь со мной. Одни с ним живем.
– А вы замужем?
– Нет.
– Кто же здесь лесник?
– Другой. Он не здесь живет. Здесь только мы с Андришем. И слугами. Откуда вы?
– Из Польши.
– Переночевать хотите?
– А пустите?
– Охотно.
– Не боитесь?
– Чего?
– Разве вы не слыхали от людей, что я разбойник?
– Все вы в Польше разбойники, – усмехнулась Веронка.
Яносик сейчас же понял, что весть о нападении на Градек не дошла еще сюда через леса. Значит, Веронка и не догадывается, что страшный Яносик Нендза Литмановский, разбойничий гетман, – это он.
– Куда вы идете?
– На работу. В Пешт. На железные рудники.
Веронка открыла калитку.
– Войдите, – сказала она. – Вы голодны?
– Нет. Только хотел бы поговорить с вами.
– За этим вы и пришли?
– За этим.
Веронка остановилась.
– Яносик, – сказала она, – ведь десять лет…
– А так же пахнет этот лес и шумит ручей, – отозвался Яносик. – Я как стал над ним, так мне показалось, что я никогда отсюда не уходил.
– А ведь десять лет вы его не слышали.
У Яносика забилось сердце.
– Веронка, – сказал он, – ты помнишь?
Женщина отвернулась.
– Помнишь?
Голос Яносика, разбойничьего гетмана, слегка дрогнул.
– Сколько небось перенесли вы за это время? – вполголоса сказала Веронка.
– Но я обещал вернуться и вот вернулся.
Голова Веронки невольно склонилась на плечо Яносика.
– Я старая уже, – сказала она.
– Тебе не больше двадцати семи.
– Это много.
– Я помню… Эх, девушка, – сказал Яносик, обнимая Веронку за талию, – я о тебе никогда не забывал. А ты меня вспоминала?








