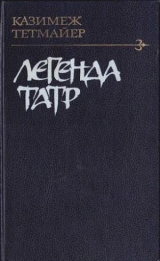
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Звенели и гремели в ушах тынецкого аббата слова Костки: «Встань, возьми крест, своим жезлом епископским пробуди новую Польшу!»
И вот в келье своей, в Тыньце, глядя на занесенные снегом поля, размышлял аббат о том, что он может сделать для Польши. И, думая о чудесной обороне Ясногорского монастыря, он предчувствовал, что оттуда придет избавление. Он понимал: для того чтобы Речь Посполитая снова воспрянула, ей нужен глава.
Глава этот был в Силезии за границей, и надо было вернуть его на родину.
Но как? Шляхетские отряды не приведут короля, ибо их не стало.
Снова припомнились аббату речи Костки:
«Услышим одно ваше слово, епископы, увидим крест в ваших руках – и мы станем победителями».
И епископ Пстроконский решил: если кто может вернуть короля из Силезии в Польшу, то разве только одни мужики, бескидские горцы. Без их помощи по горам и ущельям не проведет его из Силезии никто.
Если глава Речи Посполитой – король, если руки ее – магнаты и духовенство, а грудь – шляхта, то желудок, дающий силу членам, и ноги, на которых держится Речь Посполитая, – это мужики. Так думал епископ.
Доходили до него вести, что король, под впечатлением мужественной обороны Ясногорского монастыря, хочет вернуться в Польшу, что он в нее рвется и говорит: «Лучше лягу костьми на родине, но никогда больше ее не покину». Знал также епископ, что королевская грамота, которую Ян Казимир по совету жены своей и великого маршала коронного, Любомирского, прислал в Польшу 20 ноября из Ополья в Силезии, произвела огромное впечатление.
В грамоте этой король, между прочим, писал:
«Один с другим, двое с третьим, трое с четвертым и рer consequens[29] объединяйтесь между собой и каждый с подданными своими и, где можно, оказывайте всяческое сопротивление. Изберите себе вождя. Отряд пусть соединяется с отрядом, и, образовав таким образом изрядное войско, выбрав вождя, ждите особу нашу».
Местами мужики уже даже поднимались и рассеивали небольшие шведские отряды; в стране начиналось движение; нужен был лишь толчок, чтобы она поднялась вся, от края до края, и этим могучим толчком должно было быть возвращение Яна Казимира.
Много раз спрашивал себя епископ Пстроконский, хорошо ли он поступил, отказав в помощи сыну Владислава IV, Леону Костке. Не было ли бы для страны спасением, если бы какой‑нибудь мужицкий король вроде того, каким хотел стать и объявлял себя Костка, сел на ее престоле? Не было ли бы для страны спасением, если бы переменилась тяжелая, чуть ли не самая ужасная в Европе участь польского мужика? Несомненно было, что огромные крестьянские массы, взбунтовавшись против шляхты, несмотря на ее силу и боевую готовность, победили бы ее, как Хмельницкий на Украине. Несомненно было и то, что, встав за короля, который был бы для них родным отцом, избавившись от ужасного гнета шляхты, крестьяне не дали бы Хмельницкому урвать ни пяди земли в Речи Посполитой и стали бы несокрушимой охраной ее границ. И ксендз Пстроконский спрашивал себя, хорошо ли он поступил в тот памятный весенний день, не захотев даже выслушать Костку; не было ли какого‑нибудь способа сочетать повиновение Риму с неслыханным, но, быть может, спасительным для Польши политическим новаторством?.. Не был ли этот Костка, этот незаконный сын покойного короля, столь расположенного к крестьянству, послан самим провидением? А ему дали так бесславно погибнуть!
Как бы то ни было, королем польским был Ян Казимир.
И вот епископу пришла в голову смелая мысль отыскать в Бескидах Яносика Нендзу, чтобы он привел короля в пределы польской земли.
Впоследствии епископ почитал эту мысль за ниспосланное богом откровение и говорил, что Савл стал Павлом и даже святые деяния могут совершаться при помощи разбойников.
И вот, не мешкая более, сей благочестивый муж, до такой степени горевавший о судьбе родины, что слезы текли по лицу его, «подобно Висле», в один прекрасный декабрьский день приказал заложить сани, управление монастырем поручил на время ксендзу Сильве, родом испанцу, и втроем с возницей да лесным объездчиком, захватив с собой ружья против волков, а то и людей, двинулся в путь к Бескидам.
Трудно было разузнать, где Яносик; известно было лишь то, что он выходил из лесов, но где именно он скрывается – этого он не сообщал никому; кроме того, мужики не хотели указать его местопребывание даже ксендзу.
Лесничий пана Зебжидовского из Завой проводил ксендза Пстроконского и указал направление, в котором надо ехать, чтобы добраться до лагеря Яносика на поляне.
– Помоги вам бог! – сказал лесничий. – По этой дороге доедете, отсюда всего с полмили. Только вы не то что волку – дьяволу в пасть лезете!
– По воле господа бога Иона из чрева китова, а Даниил из львиного рва вышли, – отвечал ему епископ Пстроконский и приказал ехать в гору.
Дорога шла лесом; мужики зимой возили по ней с пастбищ навоз в санях, потому что телеге здесь проехать было невозможно. Они спустились в овраг, и нередко приходилось проезжать под повалившимися деревьями, как под триумфальной аркой.
Возница шел по левой, лесник по правой стороне дороги; они утаптывали перед санями снег, потому что лошади не могли бы тащить сани по бездорожью. Их запрягли цугом, чтобы они не забирали слишком в сторону. Вожжей не надо было держать; дорога была одна, и лошади шли за людьми, а епископ подхлестывал их кнутом да покрикивал.
Страшный это был лес, и епископ безмерно дивился ому. Деревья‑гиганты росли здесь сплошною чащей, так что хвоя мешалась с листьями; больше всего было елей и буков. Попадались не только следы, но и стада кабанов и вепри‑одиночки, проходившие так близко, что не раз приходилось людям хватать испуганных лошадей под уздцы. Показывались и волки, но их отгоняли выстрелами из пистолетов.
Казалось, звери эти знали, как вести себя с людьми, что епископ объяснял близостью Яносиковой банды, которая, вероятно, с ними не шутила.
Медвежьих следов встречалось тоже множество, но следы эти обледенели, и это означало, что медведи давно спят в берлогах.
Ехали уже несколько часов, настал полдень, но епископ утешал себя тем, что здешних полмили стоят пяти миль краковских.
Вдруг дорогу саням преградил высокий, широкоплечий, но стройный мужик, а за ним – еще трое, все вооруженные чупагами, ножами, пистолетами и ружьями.
Епископ струсил, хотя он и ехал затем, чтобы повидаться с разбойниками.
– Куда едете? – спросил высокий, подходя ближе.
Что за грозный вид! Волосы до плеч, лицо огрубевшее от морозов и ветров, загорелое от дыма и жара костров. Шапка обшита барашком, с наушниками и с синим суконным верхом, с красной кистью и четырьмя золотыми галунами, нашитыми на сукно возле кисти крест‑накрест; полушубок нараспашку, а под ним пояс с набором; штаны короткие, из белого сукна, чудесно расшитые синим и красным; из белого же сукна «чулки». Рукавицы тоже белые, искусно разузоренные белой, красной и синей шерстью.
Все это резко выделялось на фоне снега и поражало епископа.
– Куда едете?
– К Яносику Нендзе.
Удивился мужик.
– Куда? – повторил он, словно ослышавшись.
– К гетману, Собек, сказывают, – отозвался горец, стоявший за его спиной.
– К гетману? К нему нельзя.
– Я настоятель Тынецкого монастыря, епископ, – сказал ксендз Пстроконский, – Едем мы, как видите, только втроем, а ежели вы меня не отпустите назад, хотя я и поклянусь, что не выдам, – воля ваша.
Мужики сняли шапки, переглянулись.
– А зачем едете?
– Просьба у меня.
– К нам одни мужики с просьбами приходят.
– А вот и у меня просьба есть.
Мужики опять переглянулись подозрительно и недоверчиво, но тот, который первым вступил в разговор, сказал:
– Пусть себе едут, Собек. Ведь какую даль лесом проехали, а сами‑то небось дальние. И всего‑то их трое. Да коли с просьбой и епископом себя называет…
– Ну, поезжайте, – сказал Собек, – Ступай, Куба, с ними, чтобы в шалаше знали, что мы их видели.
Мужик пошел впереди.
– Сторожите? – спросил его лесник.
– Гм… – буркнул мужик. Не к чему было и спрашивать.
«Порядки у них, как в войсках, – подумал епископ, – Хорошая стража. И пан Ян Хризостом Пасек из Гославиц[30] не сумел бы лучше вымуштровать ее».
Впереди стало светлее, и епископ увидел крыши.
«Здесь», – подумал он, и невольная дрожь пробежала по его телу.
Вскоре он увидел шалаши и большие сараи; над крышами вился дым. Поляна была большая, со всех сторон окруженная лесом.
Мужики в крайнем удивлении высыпали им навстречу.
– Слава господу Иисусу Христу! – поздоровался с ними епископ.
– Во веки веков! – ответили мужики. – Куба, это кто такой?
– Епископ.
Мужики обнажили головы, и в это время Яносик Нендза вышел из шалаша бацы.
– Эй, там! Кто едет? – спросил он.
– Епископ!
– Епископ? Какой? Откуда?
– Из Тыньца! – закричал ксендз Пстроконский. – Настоятель бенедиктинского Тынецкого монастыря.
– Здравствуйте. А чего надо?
– Яносика Нендзу Литмановского.
– Вот он я, – сказал Яносик.
Епископ подъехал уже к самому шалашу.
– Милости прошу, входите. Да осторожней, а то порог высокий, а притолока низкая, – приглашал Яносик, помогая епископу выйти из саней. И, обратившись к своим людям, велел епископских лошадей и слуг накормить, напоить и отвести в тепло.
Епископ вошел в шалаш и сказал: «Слава господу богу», – а из глубины старый Саблик, Кшись, Марина и сидевшие вкруг очага мужики отвечали ему: «Аминь».
– Милости прошу, садитесь, – пригласил Яносик, придвинув гостю самодельный табурет на трех ножках.
Перед епископом наставили всякой еды и питья: мясо, печень оленя, вино и мед, – таких не пили и в Тенчине у панов Тенчинских, которые в золотых стременах ездили.
«Из хороших погребов награблено», – подумал ксендз Пстроконский, смакуя эти напитки. Его гостеприимно и почтительно потчевали, а он пил, ел и озирался кругом. Шалаш был приспособлен к зиме, щели законопачены мхом, а на очаге горел жаркий огонь, и в самые трескучие морозы можно было возле него согреться. По стенам висело оружие, награбленное в шляхетских домах, и ковры, принесенные оттуда же. Люди, окружавшие ксендза, производили на него странное впечатление: дикость, соединенная с каким‑то величием, отличала их резко очерченные лица, а обхождение носило отпечаток врожденной учтивости, какой не встретишь у простолюдинов.
Ксендз Пстроконский смотрел на Яносика, а тот из деликатности не спрашивал, зачем он приехал, предоставляя епископу заговорить самому.
Наконец ксендз Пстроконский встал, сотворил над головами присутствующих крестное знамение и сказал громким голосом:
– Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Вы – разбойники!
В шалаше стало тихо. Затем Яносик сказал, не вставая со скамьи, на которой сидел он возле стены, протянув ноги к огню:
– Отче епископ, разве вы за этим приехали?
– Вы – разбойники, – взволнованно повторил ксендз Пстроконский, – грабители, поджигатели и убийцы!
Приехал он не затем, но не мог совладать с собой: возмущение против разбойников охватило его.
Но Яносик сказал:
– А паны Циковские, Ланцкоронские, Стадницкие, Былина, Лещ, которые с мужиков живьем шкуру драли, плетьми до смерти забивали и скотину мужицкую гончими затравливали, – они кто такие?
Смутился епископ: знал, что Яносик говорит правду. А Яносик поднялся во весь рост, касаясь головой потолка, и громким голосом заговорил:
– Я в Полянах сидел, на горах, а разбойничать ходил только в Венгрию. Я бедным помогал, потому что разбойник всех людей хочет сделать равными: затем господь бог его создал, затем его и хранит. Я в Польшу не хаживал. Но пришли ко мне с плачем и жалобами такие же мужики, как и я, и призывали отомстить панам. Я сюда пришел защищать мужиков от панов и мстить панам за мужицкие обиды. Вы меня называете грабителем, поджигателем и убийцей, – так берите же крест, станьте во главе мужиков и защищайте их! Да!
Яносик гремел на весь шалаш.
Ксендз Пстроконский поднял руки к небу и воскликнул:
– Как господь бог обратил Савла в Павла, так и я тебя, разбойничий атаман, хочу обратить в защитника короля!
Мужики переглянулись: они не понимали слов епископа.
А епископ Пстроконский продолжал:
– Господин и отец наш, король Ян Казимир, бежал от шведов в Силезию. Пресвятая дева Мария спасла Ясногорский монастырь, и народ воспрянул духом, надежда просыпается в сердцах. Кое‑где поднимаются даже бедняки, простые люди и колотят врагов во имя пресвятой девы. Король жаждет вернуться, стать во главе восстания против шведских насильников. Живет он в Ополье, в Силезии, недалеко отсюда, за горами. Горцы! Короля надо провести в Польшу через ваши горы!
На это Яносик, который было снова уселся и протянул ноги к очагу, сказал:
– А мне какое дело до этого?
– Как какое дело? – воскликнул ксендз Пстроконский. – Ведь ты же поляк, сын Польши, Речи Посполитой?
– Я поляк, а там, за Татрами, – липтовцы и венгры, а внизу – ляхи.
– Какие такие ляхи?
– А те, которые возле Кракова и в Кракове живут.
– Да ведь это‑то и есть поляки. Братья твои!
– Братья мои, гурали, ходят в лаптях. А ляхи – это другой народ.
– Да ведь речь у них та же самая!
– У рыб тоже один язык, а нешто форель щуке сестра? Или мурена – лососю?
– Постой! Ведь король один надо всеми?
– Медведь тоже в Татрах хозяин, а ведь ради этого коза с лисицей вместе воду не пьют?
– Вы короля своего не любите?
– Я его не видал.
– Не хотите помочь тому, кто нуждается в помощи?
– Да я с Полян спустился и четыре года людям помогаю.
Ксендз Пстроконский стал взволнованно рассказывать о короле. О том, как жил он в Варшаве в замке и владел и правил страной, как пришлось ему бежать и скитаться. Наконец Гадея, лежавший в углу на скамье, заметил:
– Выходит, словно, к примеру, хозяина из его избы выгнали.
В ответ на это Яносик, хозяйский сын, поднял голову и сказал:
– Хозяина из его избы никто выгнать не смеет.
На эти слова Яносика ксендз Пстроконский тотчас откликнулся.
– Ну, так оно и есть, так и есть! – вскричал он. – Шведы короля прогнали из Польши, как хозяина из избы!
– Это непорядок, – сказал Гадея. – Король – это король. Выгонять его никто не смеет. Это несправедливо.
– Об этом и речи быть не может, – сентенциозно вставил Кшись.
– Э! – подхватил и Яносик с живостью. – Я этого не позволю. Разбойник всех делает равными! Нельзя этого допускать.
– Ну вот видишь! – воскликнул епископ. – А так оно есть.
– В такой беде и мужику надо помогать, а уж королю и подавно, – сказал Гадея.
– Верно, – подтвердил Войтек Моцарный, очищая картофелину от кожуры.
Яносик окинул взглядом товарищей.
– Как думаете?
– Король – это король, – первым отозвался Гадея.
– Польский, – добавил Моцарный.
– Наш, – поддержал его Матея.
Яносик подумал минуту и сказал:
– Правильно. Хозяина выгонять нельзя. Кабы он ко мне обратился, я бы его защитил. Ястреб всегда станет защищать ястреба, когда у него филин птенцов отнимает. Коли бы до этого дошло, я, пожалуй, короля пошел бы защищать. И товарищи со мной.
Епископ Пстроконский бросился к нему и обнял.
– Ты еще спасешься! – вскричал он. – И память о тебе не сотрется! И король наградит тебя!
– Награда мне не нужна, – отвечал Яносик. – У меня своего довольно. Тут другое важно: права. Я четыре года мужицкие права отстаивал. Есть и у короля свои права.
– И куда бы к черту все годилось, кабы свет хозяевами не держался? – заметил Кшись.
– У одного больше, у другого меньше, – сказал Моцарный.
– Но что твое, то твое, – подхватил Матея.
– Люди должны быть заодно. Сегодня – тебя, а завтра – меня обидят! – сказал Гадея.
– Сегодня пан, завтра пропал, – певуче протянул Кшись.
– И то сказать, – вмешался Саблик, – хорошо бы всем людям сравняться.
Тут Яносик, выйдя из задумчивости, перебил их. Он встал и заговорил:
– Будь что будет! Завтра чуть свет идем на шведов. А нынче, раз у нас гость, да еще епископ, так пусть будет весело! Подкиньте‑ка дровец в огонь!
Когда пламя стало уже доходить до крыши и золотое, душистое вино из погреба пана Понграча, владельца Микулаша Липтовского, рекой полилось из серебряных, хрустальных, золотых и золоченых шляхетских кубков, а людей, как всегда перед походом, да еще таким необычным и опасным, охватило отчаянное веселье, пошли один за другим рассказы, и всех лучше рассказывали Саблик и Кшись.
А так как епископ был весел, то рассказчики выбирали истории, которые могли прийтись по вкусу.
Саблик начал:
– Когда Иисус Христос сотворил мир, огляделся он, усмехнулся и сказал себе так: «Очень хорошо я все это сделал. Как бы только Адаму не было скучно одному. Надо ему смастерить какую‑нибудь игрушку, чтобы он ею иной раз побаловался, тогда ему не будет скучно».
Так сказал Иисус и не долго думая крикнул:
– Адам! Поди‑ка сюда!
Адам пришел, только страсть как поджилки у него тряслись: очень он господа бога боялся.
– Ложись! – говорит ему Иисус.
Адам поскорее лег, но подумал: «Что‑то будет! Плохо мне придется».
И еще того пуще затряслись у него ноги.
А Иисус поводил над ним руками – и он сейчас же уснул. Вынул тогда Иисус из котомки складной нож и вырезал Адаму ребро. А как было оно очень уж грязное и сальное, то и положил он его на горку, чтобы просохло.
Но тут принесла нелегкая пса. Подкрался каналья, цап ребро и стал удирать с ним к вратам райским.
Схватил господь палку – и за ним.
Да пес‑то проворен, а господь стар, и не мог он пса догнать и отнять у него Адамово ребро.
Бегут это они, бегут, добежали до райских врат, а пес‑то уже в воротах. Только и успел господь бог, что поскорей захлопнуть ворота.
Захлопнулись ворота, хвост псу отхватили, а все‑таки пес удрал.
Что делать? Взял господь этот самый хвост, поглядел на него, осерчал, да и говорит:
– Постой, я тебе и так покажу, что кое‑чего стою!
Схватил хвост, да и создал из этого хвоста бабу, да!
Смеялся епископ Пстроконский, попивая вино среди лесных разбойников.
А Кшись, большой шутник, начал рассказывать так:
– Плохие настали годы, неурожайные, и везде был великий голод. Тогда жили‑были два кума. Вот один другому и говорит:
– Знаешь что, кум: у меня есть рожь, а у тебя земля стоит порожняя. Дай ты мне одну полосу, а я тебе дам зерна. Посеем – у нас и вырастет. Какого черта ему не вырасти?
Так и сделали.
Ходят это они, поглядывают, да ничего не растет, одна дрянь. Очень плохая рожь была. А у того кума, который дал зерно для посева, взошло еще хуже. Осерчал он и говорит:
– Чтоб ее черт побрал, эту рожь!
Пошел домой, а на душе у него очень горько. А когда пришел опять в поле поглядеть на рожь, она была уже высокая, выше, чем у кума. Побежал он скорее домой, наточил косу. Приходит в поле, размахнулся было косой, а тут откуда ни возьмись черт. Хвать за косу, да и говорит:
– Стой, не будешь косить!
– А почему?
– Потому что рожь моя.
– А почему твоя, коли я ее сеял?
– А потому, что ты сказал: «Чтоб ее черт побрал, эту рожь». Ну, я ее и взял. Велел ей расти и теперь буду ее косить, а ты не будешь!
Сцепились они.
Мужик был умный, дьявола не боялся. На ногах он держался крепко и лупил дьявола по морде. Наконец тот говорит ему:
– Знаешь что, мужик? Давай об заклад побьемся.
– Я не прочь.
– Приедем рожь косить. У кого кобыла лучше, тому достанется рожь.
Согласился мужик, – что ему было делать?
Пошел домой голову повесив. Как ему кобылу достать лучше чертовой, коли в хозяйстве никакой лошаденки нет?
Видит баба, что он пригорюнился, спрашивает, в чем дело.
– Так и так, – говорит мужик.
А баба на это:
– Брось! До завтра что‑нибудь надумаем. Время есть.
Ну, и вот что случилось.
Ранехонько, чуть свет, выехал черт косить рожь на серой кобыле в яблоках. И каждое пятно на ней другого цвета.
А мужик выехал на голой бабе.
Чуть его дьявол завидел издали, как закричит:
– Бери рожь! Коси рожь! Твоя рожь!
Потому что очень уж заметна была мужикова кобыла: там, где у нее должна была быть грива, у нее был хвост, а где быть хвосту, там была грива. Да.
Епископ Пстроконский, настоятель Тынецкого монастыря, жаждавший вернуть из изгнания Яна Казимира и спасти Польшу от шведов, так хохотал, что залил всю рясу золотистым вином пана Понграча.
А когда он ложился спать на награбленных мехах, Гадея прочел ему «Отче наш» по‑гуральски.
Епископ дал ему подзатыльник, а сам шелковым платком утирал выступившие от смеха слезы.
Мужики плясали, стоя на одном месте, потому что было тесно; они выколачивали ногами дробь и подскакивали, а епископ равно дивился как дикой, однообразной, исступленной музыке, так и этой однообразной, дикой пляске, для которой воистину надо было иметь «ноги из стали, которые черти дали». Дивился он также несравненной легкости, ловкости и энергии танцоров, а всего больше тому, как танцор, став на концы пальцев и выпрямив ноги, мог бесчисленное множество раз сдвигать и раздвигать пятки, не прикасаясь одной к другой, – это казалось епископу шуткой, достойной французского балета, о котором рассказывались чудеса.
Звали плясать Марину, но она не пошла. Она сидела в углу, мрачно задумавшись, а когда ее стали уговаривать, чтобы показала гостю и женский танец, она встала и ушла.
– Кто эта женщина? – спросил епископ Яносика.
– Вот этого мужика сестра, – отвечал Яносик, кивая на Собека Топора. – Орлица разбойничья, – прибавил он, – двоих мужиков стоит.
– И грабит?
– Грабить‑то она не грабит, а все же я ей ее долю даю, объедками не отделываюсь.
– Так что же она тут делает? Еду вам готовит да грехи плодит?
– Еду готовит, а греха не плодит никакого. Один хотел было попытаться, Юро из Ляска. Он уж помер, убили его стрелки епископа краковского. Попытался – да чуть богу душу не отдал. Она не грабит, но, когда надо, дерется так, что ни я, ни брат ее, ни другой кто‑нибудь лучше не сможет. Мстит она, потому что один шляхтич хотел украсть ее и в Чорштыне при пане Костке булавой так ударил, что она без чувств наземь свалилась.
А когда всех стало клонить ко сну и мужики разошлись спать, кто в сараях, кто в шалаше, ксендз‑епископ, шепча молитвы, стал смотреть на мир божий в дыру, оставленную в стене, между балок, для выхода дыма. Видел он звезды, сверкавшие так, как никогда не сверкают они для тех, кто глядит из долины, на таком чистом небе, что казалось оно стеклянным. Не захотелось ему сидеть в шалаше; он надел шубу и присел на пороге. Кругом стоял лес, спокойный и невыразимо тихий. Бесконечное, светлое, зеленовато‑голубое небо простиралось над ним, как огромное поле, покрытое звездами и родящее звезды. Белый снег на лежавшей перед епископом поляне был так же безмолвен, как лес и звезды. О такой тишине и глубоком покое ксендз Пстроконский до сих пор не имел представления. И еще приковывала его внимание мгла, похожая на столб дыма от костра, – это было облако над лесом, недвижное, словно одетое льдом. Торжественно и безмятежно было это затишье, грозное безмолвие пустыни.
«Воистину, – сказал самому себе епископ, – если бы я сейчас увидел летящего ангела, то не счел бы это за чудо: мне казалось бы это обычным явлением зимней ночи в горах».
Он вернулся в шалаш и лег на приготовленную ему постель возле очага, на котором то и дело поправлял огонь кто‑нибудь из лежащих вокруг горцев.
Скрипнула дверь, и вошла Марина. Она ночевала в чулане при шалаше, куда ставят обычно молоко в ведрах и складывают разный инвентарь.
– Еще не спишь? – спросил ксендз.
– Да вот иду, – отвечала Марина.
– Прекрасная ночь, – сказал епископ.
– Послал господь!
– Ангелы души благочестивые охраняют.
– Так отчего же грехи на свете?
– Так господь бог устроил нарочно, чтобы человек заботился о спасении души.
– А не лучше ли было совсем не создавать человека?
– Если бы человека не было, он не мог бы спастись.
– А зачем бы это ему нужно было? Ребенок, который не родился, сосков не ищет. Он не голоден.
– О мысли и воле божьей человеку судить нельзя.
– А страдать ему можно? Да?
– Человек затем и живет, чтобы страдать и небесный венец себе выстрадать.
– А без него он не обошелся бы? Без ада и без рая?
– Какая‑то мука в тебе говорит.
– Э, ваша милость, мука мукой, – душа человеческая говорит во мне; есть она у меня, как у всех.
– В костел ходишь?
– Раза два была. В Шафлярах.
– Что ты здесь делаешь?
– Ищу, чего не найти, теряю то, от чего не отделаться.
– Говори яснее.
– Э, ваша милость, чего уж девке ясней говорить, коли и господь бог ясно ничего не сказал!
– Кощунствуешь! Бог все сказал в Евангелии.
– Я его слышала в громах и молнии, да не понимала, что говорит.
– Хочешь идти со мной?
– Куда?
– Познать бога.
– Куда? В долины? Что ж, разве его там больше, чем здесь? Разве там больше звезд светит, гуще леса, больше речек? Разве там ярче молния сверкает, громче гром гремит? Разве сильнее там дуют вихри и лучше поют летом птицы в рощах? Разве там заря больше радует, а вечером больше покоя сходит в души человеческие?
– Кто научил тебя так думать?
– Кто? Да господь бог, о котором вы говорите. Коли он создал все – значит, и меня, а коли меня – значит, и то, что во мне.
Задумался епископ Пстроконский.
– Как тебя звать? – спросил он через некоторое время.
– Марина.
– Марина, – сказал епископ, – гляди, какая красота! На небе живет господь бог, вокруг него – ангелы, святые угодники хором поют ему. Правда, ведь хорошо и лучше не может быть?
– А на земле что?
– То есть как?
– Да здесь, на земле?
– Господь бог с ангелами смотрят на землю и охраняют ее.
– Страсть как хорошо они это делают! – сказала Марина. – То‑то опустела наша земля.
– Как опустела?
– Эх, кабы послушали вы, ваша милость, что рассказывают старые люди! Тогда еще здесь Святобор царствовал! Похож он был на медведя, большой и кудлатый, а на голове – оленьи рога. Стерег он леса с топором в руке. Когда на задних ногах шел по лесу, так земля гудела под ним… Но страшен он был только тому, кто лес портил… Красные глаза светились у него во лбу ночью… Дрожали перед ним те, кто рубил лес, топоры бросали да старались удрать… Еще была здесь Погода, владычица дня золотого и серебряной ночи… Крылья у нее были голубиные, и цвели на них анютины глазки… Тогда здесь была и богиня Весна… Жаворонки вылетали из ее рук, а улыбалась она, как солнце на листьях явора… Тогда Лели стерегли клады, спрятанные среди папоротника, тогда светлые Майки и лесные девы по лесам бегали… Тогда здесь цветы, и деревья, и птицы говорили с людьми… Идет человек лесом, а вокруг словно тысячи колокольчиков звенят… Каждое дерево, каждый цветок, каждая травка, каждая птица говорили по‑своему. Человек шел по лесу, разговаривал, шутил с ними, а не так, как теперь: поют одни птицы, да и то никак их язык не поймешь. Куда девались ночные огнецветы, что сидели на горах вокруг озер, словно лилии, и звездами играли в воде? Где Лунные девы, что во мгле ночной летали над горами? Где Зарницы, что сеяли и собирали росу? Где синеглазые Сны, скрывавшиеся, точно зайцы, в сени лесной, под сплетенными ветками? Где Заря с огнем на голове и красными крыльями? Где Великан, на плечах сносивший солнце с небес, как пастух сносит с кручи овец? Где водяные с трубами и свирелями, родившиеся когда‑то давно от козлов и пастушек, обросшие шерстью, с козлиными рогами, скачущие на двух ногах? Где Полуденницы, хватавшие девок за плечи и бросавшие на траву так, что каждый с ними делал что хотел? А Веснянки, на молниях летавшие по небу? Куда это все девалось? Пришли ксендзы да паны, стали рубить священные деревья, чтобы из них делать кресты, расставили эти кресты повсюду, и все пропало… Провалилось в озера, в щели и ямы подземные… Только откликнутся иной раз – словно бы плачут…
– Марина, – спросил епископ, – ты знаешь молитвы?
– Учили меня миссионеры, которые у нас в Грубом жили, когда я еще маленькая была, – отвечала Марина после некоторого молчания, как бы пробуждаясь от сна.
– Каждый день молишься? – продолжал спрашивать епископ.
– Молюсь, когда приходит ко мне молитва.
– Как это?
– Захочется – тогда и молюсь.
– Каждый день надо молиться.
– Все равно, хочется или нет? Да что ж это за молитва такая? За ноги, что ли, надо ее ловить?
– Я тебя не понимаю.
– Молитва, сдается мне, вроде голода. Когда мне хочется хлеба – я ем, а когда мне хочется бога – молюсь. Только душа не такая ненасытная, как тело, телу надо три‑четыре раза в день дать поесть.
– А душе утром и вечером нужен бог.
– Разве господь бог не похож на дождь? Идет – так идет, не идет – так не идет. Придет в душу – значит, молись, потому что чувствуешь его. Молитва, сдается мне, как цветы: не носи их за пазухой, а то завянут, – нюхай, когда они в саду цветут.
– Марина, – сказал в изумлении епископ Пстроконский, – Марина, жаль мне тебя!
– Эх, ваша милость, – ответила Марина, – опадет еще с леса иней, и будет тепло, весна. Доброй вам ночи.
– Покойной ночи и тебе. Молись, Марина, и перестань грешить.
– Да мне дьявола жалко! – рассмеялась Марина. – Что ему делать, если все мы в раю будем? Когда сотворил господь дьявола, сейчас же небось подумал: сотворю‑ка я и грехи, а то зачем было творить дьявола? Ведь говорится же: «Кого бог создает, того не изведет». Доброй ночи!
И она ушла за перегородку.
Епископ накрылся шубой. Чудно ему было… В чужом месте, в глуши, среди дремучих лесов, не только среди чужих, но среди разбойников, волков и медведей… Внушающие страх, сильные мужики храпели вокруг, накрывшись тулупами, попонами, награбленными мехами и коврами. Дым очага ел глаза, с одного бока было жарко, с другого холодно от морозной ночи. Как далеко была уютная монастырская келья в Тыньце, где мальчик‑послушник подкладывал в печку дрова, а постель была мягкая и удобная!
Но завтра должен был настать великий день… Королю польскому предстояло быть введенным мужиками в его государство…
«Ах, – думал епископ Пстроконский, впадая в дремоту, – не придется ли еще когда‑нибудь мужикам польским принести на руках в отчизну короля, более великого, чем этот, короля, изгнанного из страны еще более страшным неприятелем? Не придет ли пора, когда столь тяжелые испытания выпадут на долю Речи Посполитой, что мало будет для защиты ее одной шляхты и понадобятся все ее силы? Не будет ли шляхта в жестокую годину искать мужицкого гетмана, чтобы он шел спасать, ибо Речь Посполитая будет тонуть в море бедствий?
А бедствия эти и упадок предсказывал еще великий проповедник при отце Яна Казимира, ксендз Петр Скарга Повенский…»[31]
Яносик, оставив на поляне охрану при награбленной добыче, выступил на рассвете во главе своей банды. Среди них в санях, читая утренние молитвы и прося у бога успеха в предпринятом деле, ехал епископ Пстроконский; он удивлялся силе, ловкости и легкости, которые проявляли Яносиковы люди чуть не на каждом шагу трудного пути. Особенно привлекал его внимание Саблик, седой и старый, но до того стройный и легкий, что казалось – он не идет, а скользит по снегу. Засунув гусли в рукав чухи и опираясь на чупагу, шел он наравне с молодыми, задумчивый, похожий лицом на старого коршуна.








