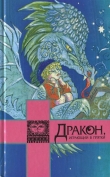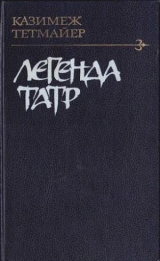
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Было это под вечер на безлюдной дороге. Марина слезла с лошади, сняла с нее уздечку и седло, отнесла их в лес, у дороги, а лошадь, похлопав по шее, отпустила на волю. Та тотчас принялась есть траву.
Сама Марина прилегла среди деревьев и прождала до утра.
На следующее утро, оставив топор в лесу, она пошла прямо к замку. Когда привратник остановил ее у ворот, она объяснила, что она бедная сирота, выгнанная из дому мачехой, ищет места. Ее впустили. Она поклонилась экономке в ноги и поцеловала у нее колени, прося, чтобы ее взяли мыть кастрюли, доить коров или хотя бы носить корм свиньям.
Ее красота, сила и сметливость расположили к ней экономку. Ее послали помогать на кухне. С этого дня Марина часто видела панну Жешовскую и старалась обратить на себя ее внимание. Панна Агнешка, кроткая, добрая, оценив ее ловкость и красоту, перевела ее из кухни в буфетную. Она даже хотела взять ее к себе в горничные, но Марина чем‑то отговорилась, опасаясь попасться на глаза воеводичу, которого ожидали в замке со дня на день.
Она не знала, что делать. Как раньше она решила помешать воеводичу напасть на Грубое, так теперь решила не допустить свадьбы его с панной Жешовской. Иногда ей приходила мысль схватить топор, которым рубили дрова, напасть на панну, когда та будет проходить по двору или гулять в саду, и размозжить ей голову, но стоило ей взглянуть на панну Жешовскую, как ей становилось жалко ее. О себе она не думала, смерти и пыток не боялась. У панны Жешовской глаза были карие, ласково смотревшие на всех. Они были похожи на темные, бархатные анютины глазки. Сравнение с цветами приходило на ум всякому, кто видел эти смеющиеся глаза. Лицо у нее было смуглое, с ярким румянцем, а волосы каштановые. В ее походке, движениях, во всей ее внешности было столько прелести, что она очаровывала людей. Женщины понимали, что обладать такой девушкой, прижать ее к сердцу – счастье невыразимое.
Марина не удивлялась, что Сенявский, влюбившись в эту девушку, забыл Беату Гербурт, а уж ее, простую девку, и подавно. Слышала она, как казак Сенявского, присланный с письмом, рассказывал, что господин его говорил своему двоюродному брату: красота панны Агнешки вознаградит его за неравенство их состояний и происхождения.
У Марины то сжимались кулаки от ревности к панне Жешовской, то опускались руки, а панна, как нарочно, искала ее общества, гладила по лицу, любила с ней разговаривать, называла Марыней или Марыхной, дарила ей старые платья, хотя они были коротки Марине. Прочих служанок брала зависть, но уважение окружающих к Марине росло.
Разные мысли приходили Марине в голову. Иногда ей хотелось стать горничной панны Жешовской и уехать с нею (добиться этого ей было нетрудно), чтобы хоть издали, хоть из кухни, из прачечной видеть иногда воеводича. Но она чувствовала, что это было бы для нее ужасной, невыносимой мукой. Любовь к воеводичу разгоралась в ней, как пламя на ветру. И чувствовала Марина, что все вокруг точно соломенные крыши на сараях и это пламя способно уничтожить все, что встретится ему на пути.
Одержимая этой силой, она чувствовала себя выше всех окружающих. Перемывая в буфетной столовую посуду, она казалась себе орлицей, парящей над павлинами и выбирающей минуту, чтобы ринуться на них. Она уже чуяла запах крови – она, которая с такой яростью бросалась в бой, когда ходила с Яносиком, что ее прозвали Кровавой Мариной. Она искала смерти.
Как безумие, неотвязно преследовала ее мысль спрятать куда‑нибудь панну Жешовскую, убрать ее с глаз Сенявского, подобно тому, как раньше неизвестно куда пропала Беата Гербурт.
Из окон замка Жешовских глядела она на широкую Вислу, протекавшую невдалеке, среди перелесков и зарослей.
Панна Агнешка любила ходить на берег Вислы. Собирала цветы, напевая песенки, светские и народные, которых она знала множество. Она просила петь и Марину, и когда та раз‑другой вполголоса спела ей на дворе протяжные песни горцев, панна нашла их чудесными. С тех пор не раз брала она Марину с собой на прогулки и приказывала ей петь. Странно звучали в долинах над Вислой эти песни:
Ты сама видала иль тебе сказали,
Что мои овечки по горе гуляли?
Я была в долине, я сама глядела,
Как твоя овечка на скале белела!..
Смеялась порою панна над странным, чуждым напевом, а порою училась ему и пела вместе с Мариной:
На горе – высокий замок,
Выше замка встали скалы.
Ты зачем взял мой веночек?
Ты сама его дала мне.
Ты зачем, веночек белый,
С головы моей свалился?
Ты прости‑прощай, веночек,
Уплывай по речке быстрой,–
Больше нам с тобою, милый,
Не видаться, не встречаться…
Иногда над водной глубиной нападало на Марину желание схватить панну Жешовскую и бросить в реку. А если она будет пытаться спастись, то бить ее камнем по голове до тех пор, пока она не пойдет ко дну и пока течение не унесет ее. Ей представлялось тело, плывущее по волне все дальше, дальше, навсегда уплывающее отсюда.
И она не то чтобы не смела этого сделать, – ведь она в шайке Яносика Нендзы целых четыре года в битвах сталкивалась лицом к лицу с помещичьей челядью, и самими панами, и королевскими латниками, и солдатами… Ей ничего не стоило стальными своими руками схватить панну и столкнуть ее с берега в воду…
Между тем в замке шли приготовления к пышной свадьбе. И наконец настал этот несчастный для Марины час.
Она видела из окна буфетной, как в золоченой карете, запряженной шестеркой турецких, серых в яблоках лошадей с гривами по грудь и хвостами до земли, приехал воеводич Сенявский с гайдуками в раззолоченных венгерках на козлах и на запятках. Видела она в окно, как он выходил из кареты, нарядный и прекрасный, в синей бархатной мантии, отороченной соболями, богато расшитой золотом.
Она увидела его из окна буфетной, из‑за решетки, и чуть не бросилась к нему, чтобы задушить, зацеловать до смерти.
С ним приехало триста человек свиты: его гусары и казаки, конюшие и стремянные, камердинеры, гайдуки, слуги и маршалы двора, сокольничьи с чудесными соколами и псари с целыми сворами великолепных борзых. Пришли даже два верблюда, покрытые златоткаными коврами.
Свита Сенявского расположилась лагерем позади замка, потому что в самом замке не могла бы поместиться. Но хотя жених был окружен таким многочисленным двором и таким могуществом, все же Марина из Грубого чувствовала себя сильнее его избранницы.
Съехалось множество гостей, магнатов и королевских сановников, родных жениха и невесты, съехалось много и менее знатной и могущественной, но благородной шляхты, приходившейся сродни обоим семействам. И в замке и в местечке близ замка стало шумно и людно, точно на ярмарке.
И среди этой толчеи, как звезда, сияя от счастья, ходила панна Агнешка Жешовская.
Видела Марина из окна буфетной господские забавы: как состязались в скачке верхом молодые люди, как копьями вышибали они друг друга из седел на импровизированных турнирах, как травили собаками прирученных медведей, как целые кавалькады мчались в поле с собаками и соколами, а жених с невестой ехали посередине.
Ныло сердце Маринино.
Она пряталась, чтобы Сенявский ее не увидел и чтобы не приставала к ней озорная шляхетская молодежь, которая перебирала всех девок из замка, соседнего местечка и окрестных деревень, как перебирают груши‑паданки. Марина не могла понять, как это девки отдавались, словно невольницы, на одну ночь, на один час, иногда на одну минуту. Не было в них никакого сопротивления, ни малейшего признака собственной воли. Кто позовет, кто поманит, к тому и шли. А когда Марина заговорила об этом с одной из них, та ответила:
– Бывает, что хочется, бывает, что и не хочется, да уж лучше по старинке, как матери наши делали, чем получить каблуком в живот или палкой по спине.
– Да нешто ты подневольная?
– Я господская. А ты нет?
– Нет!
– А чья же ты?
– Сама себе хозяйка, только смерти покорюсь.
– Смерти? Ну, это мы все. Первое – господь бог, второе – пан, третье – смерть. А ты что же, не такая, как я?
– Нет, – отвечала Марина и подумала, что она обнимала первого из здешних кавалеров и – увы! – жениха панны Жешовской!..
Когда же свадебный поезд отправился в костел и замок опустел, Марина схватила длинный отточенный нож, никем не замеченная выбежала с ним на лестницу и через все покои помчалась в спальню, где стояло под балдахином из голубого шелка, затканного золотыми звездами, приготовленное для молодых брачное ложе. Это была дубовая кровать, на которой испокон веков теряли невинность все панны Жешовские, за исключением одной, которая согрешила с придворным лекарем и была живою замурована в подземелье еще в царствование короля Сигизмунда.
Большие тяжелые занавеси, широкими складками падавшие до самого пола, скрывали это ложе. Одним прыжком очутилась Марина у стены за этими занавесями и спряталась там. Ее мог найти лишь тот, кто стал бы нарочно искать ее.
Она решила убить обоих новобрачных, когда они лягут на это ложе любви.
– Как, ты будешь с ним спать? – шептали ее до крови искусанные губы. – Ты будешь его? Ты? Погоди же! Я здесь!..
Долго глухая тишина царила в замке. Наконец за полуоткрытыми окнами услыхала Марина щелканье бичей, пальбу из мортир и клики – это все возвращались из костела.
Долго‑долго, до поздней ночи замок дрожал от пальбы из пушек, от песен и веселого говора, и яркие отсветы огней проникали в темную спальню молодых. Когда вечер сменился ночью, в комнату вошли два гайдука с зажженными канделябрами, а за ними воеводич Сенявский с женою, родители молодой и все гости: новобрачных провожали на ложе.
Марина слышала, как мальчики в нарядных белых одеждах забросали розами весь ковер и при звуках невидимой лютни хором запели:
Для сладких стрел Амура злого
На ложе нежное взойди,
Чтобы супруга молодого
Прижать к трепещущей груди.
Мы целый день с улыбкой ясной
Срывали пышные цветы,
Чтобы на ложе неги страстной
Дорогой роз вступила ты.
Пусть Венус, властная царица,
Тебе свой пояс подарит,
Чтобы казалась ты, девица,
Подругой сладостных Харит.
Когда настанет миг счастливый,
Откинь девичий нежный страх,
Своих красот не крой стыдливо
И не кричи: спасите!.. ах!..
Нет, мы спасать тебя не станем,
Счастливой не спугнем четы,
Когда же завтра утром встанем –
Глаза, смеясь, опустишь ты.
Не жаль нам твоего испуга,
Твоей тревоги показной,
Сама хотела ты супруга,–
Так вот бери его, он твой!
После этого мать, бабка, тетки, родственницы, дружки и подруги стали прощаться с плачущей невестой, гайдуки с канделябрами вышли, вышли все гости, и Сенявский с панной Жешовской остались одни.
– Моя! – вскричал воеводич, схватывая ее в объятия.
– Мой!..
Ад кипел в сердце Марины. Затаив дыхание и сжимая нож, прильнула она к стене за пологом кровати.
Огонь жег ей мозг и сердце. Ей казалось, что чувство, имени которому она не знала, разорвет ее на части. Она прислушивалась, и ей казалось, что она подобна одной из пушек, бомбардировавших Чорштын: чем больше в эту пушку насыпали пороху, тем с большей силой вылетало из нее ядро.
И вдруг раздался стон.
Вырвавшись из любовных объятий, Сенявский соскочил с ложа. С криком ужаса вскочила за ним и молодая.
– Что это? – крикнул воеводич. – Может, мне почудилось?
– О нет, нет! – воскликнула молодая. – Слушай! Там кто‑то есть! Боже мой! А вдруг это бес!
И с громким, отчаянным криком она хотела в одном белье выбежать за дверь, но Сенявский удержал ее за руку:
– Стой! Подожди!
И, надев шаровары и сапоги, он выхватил из ножен лежавшую возле ложа саблю и подошел к занавеси.
Держа в правой руке наготове саблю, Сенявский левой рукой раздвинул складки.
Яркая полная луна глядела в окно и озаряла комнату. Сенявский увидел фигуру женщины.
Пораженный этим неожиданным зрелищем, он отшатнулся.
– Всякое дыхание да хвалит господа! Кто здесь? Привидение? Рассыпься!
Но, сунув руку между складками, он нащупал живое тело. Тогда он схватил женщину за руку ниже локтя и сильно рванул к себе. При свете месяца он узнал Марину.
В левой стороне ее груди торчал нож.
– Иисусе! – воскликнул Сенявский. – Что это?
– Я, – глухо сказала Марина.
– Марина? Ты? Ранена?
Молодая тоже узнала ее и подбежала, крича:
– Марина?
– Ты ее знаешь? – спросил муж.
– Знаю. Она служила у нас.
– Она? Марина здесь? Каким образом?
– А ты ее знаешь? – с удивлением спросила Агнешка, уже пани Сенявская.
– Давно! Марина! Ранена?
– Да.
– Почему?
– Я пришла убить тебя, – сказала Марина.
– Меня?
– И ее! – Она указала головой на молодую.
– Ты с ума сошла? – с ужасом воскликнул Сенявский.
– Нет! Я только любила.
– Почему же этот нож в твоей груди? Боже мой!
– Я сама воткнула его.
Она пошатнулась. Сенявский подхватил ее и усадил и кресло у кровати недалеко от окна.
– Агнусь! – воскликнул он. – Надень что‑нибудь на себя. Беги, вели позвать моего лекаря Франкони!
Но Марина удержала Сенявскую, говоря:
– Погодите, пани. Не надо мне никаких Франконей. Никаких лекарей. Мне один лекарь: смерть.
– Боже! Маринка! – воскликнула пани Сенявская. – Маринка! Что ты наделала? Что ты хотела сделать?
– Убила себя. Так что ж?
Сенявские умолкли, какое‑то непонятное чувство стыда мучило их. Наконец пани Сенявская сказала:
– Маринка, бедная, подожди, с тобой ничего не случится. Мы позовем лекаря!
– Пани, – перебила ее Марина. – Не мешайте мне умереть. Смерть уже идет, ее не отгонишь. Подходит.
Оба Сенявские вздрогнули.
– Не мешайте моей смерти, никого не зовите… Дайте мне только воды.
Сенявская налила из хрустального кувшина воды в стакан и подала Марине.
– Маринка! – простонала она. – Этот нож!.. В твоей груди!..
– Выйдите, пани, из комнаты, – отвечала Марина, – не смотрите на кровь. Выйди и ты, если хочешь. Я умру одна. Я – простая девка с гор, мне в смертный час никого не нужно… Сделайте мне только такую милость – не зовите лекарей. Я не хочу жить, да уж больше и не могу, я это чувствую… Еще одна минута.
Сенявский упал на колени перед Мариной, обнял ее ноги и простонал:
– Марысь! Прости меня! Прости!
– Нечего мне прощать. Ты пан…
– Ты любил ее? – прошептала Сенявская, закрывая глаза рукой.
– Я его любила, – сказала Марина.
– А ты ее обольстил? – с ужасом спросила Сенявская.
– Я сама ему отдалась. Я тогда уже была не девушка. Пан Костка снял мой девичий венок в Чорштыне.
– Там, где я тебя булавой ударил, – отозвался Сенявский.
– Там.
Сенявская разрыдалась.
– Что я слышу! Что узнаю! – повторяла она рыдая.
– Не плачьте, пани… Он вам это когда‑нибудь расскажет… вечерком… Когда вдвоем будете. Расскажет, как мы сходились и как все было… Потом пан Костка пришел… мужиков спасать. Твой муж перебил горцев, которых Собек, мой брат, вел на помощь пану Костке… Потом он меня украсть хотел, солдат своих послал… Потом мы от его слуги, от Томека, узнали, что он в Заборне. Я пошла туда, чтобы задержать его, не пускать в Грубое… А Томека мой брат убил.
– А ты говорила, что его медведица разорвала!
– Мы с братом были эти медведи. Потом я с Яносиком Нендзой Литмановским пошла панов бить… тебя охранять.
– Как так?
– Я бы не дала волосу упасть с твоей головы.
Сенявский стал целовать колени Марины.
– Потом, как узнала я, что ты женишься, – приехала…
– Чтобы меня убить? – спросил Сенявский, оторвав губы от ног Марины.
– И жену твою. Ну что же? Вот она – я. А у тебя сабля. Убей меня либо палачу отдай: пусть домучает.
С громким, пронзительным криком упала Сенявская на турецкий диван и завыла в приступе судорожных рыданий.
– Тише! Замолчи! – унимал ее Сенявский. – Видишь, ей плохо…
Дыхание Марины становилось все отрывистее, все тяжелее, голова упала на плечо.
– Вот она, моя жизнь, – заговорила она вполголоса, словно уже в бреду. – Луга и зимы, леса, Черное озеро… Брат мой взял меня за плечо, когда я в него загляделась… Велел мне уйти, потому что там пропасть… Мне пятнадцати лет еще не было… Я загляделась – и упала… в пучину…
– Чего ж ты хотела? Скажи! – прошептал Сенявский.
– Я хотела убить вас обоих, потому что слишком любила тебя. Сколько я муки приняла, стоя за этой занавеской… Не высказать, не понять никому… Но когда увидела любовь вашу, не вас, а сердце свое я пробила этим ножом, который торчит у меня в груди…
Она бессильно поникла.
– Больно?
– Не очень, только в глазах… темно… Сейчас… кончусь…
– Беги за ксендзом! – крикнул жене Сенявский.
– Не успеет, да и на что он мне? Душе ваш ксендз не нужен, ветер ее унесет…
Сенявский вздрогнул.
– Марина! Ты кощунствуешь – может быть, в час смерти!
– Эх, – прошептала Марина, – пойди сюда, я хочу обнять твою голову, почувствовать, что ты возле меня… Знаешь, как в песне поется?
Загудели горы,
Зашумели воды…
Смерть – жених мой милый,
Я – его невеста…
Сенявский схватил ее за руку.
– Смотрела я раз в воду… в темную… В Черное озеро… Загляделась в него… Тянуло оно меня к себе… Чуял это брат мой Собек, когда взял меня за плечо и увел… Он боялся, что я упаду туда… А я и упала…
Вдруг она тяжело вздохнула, подняла руки и крикнула почти громко:
– Озеро! Озеро! Черное озеро!..
И голова ее упала на грудь.
– Господи! Она умирает! – воскликнул Сенявский. Он коснулся рукою лица Марины. Она уже была мертва.
В одном белье, с криком «люди! люди!» выбежала молодая из комнаты.
Сенявский остался один с Мариной. Он положил руку на ее холодеющий лоб, наклонился и поцеловал ее в губы, поцеловал обе руки ее, и ему показалось, что Марина шепнула: «Прощай!» Но он понял, что это ему только казалось. И, держа руку на лбу Марины, он вполголоса заговорил:
– Клянусь тебе, что, покуда я жив, ни один мой мужик не будет наказан ни мечом, ни колом, ни четвертованием. Это в память смерти твоей, Марина! Бог и святой крест мне свидетели!
Потом он осторожно вынул нож из мертвой уже груди, отер с него кровь и положил его на колени умершей, говоря:
– А этот нож будет священной реликвией, я повешу его над алтарем в бжежанском костеле. Спи!
В эту минуту вбежали со светильниками гости (те, которые были еще не окончательно пьяны) и перепуганные слуги.
– Пан каштелян! – сказал Сенявский каштеляну Жешовскому, отцу Агнешки. – Прикажите принести из часовни громницу[35] и позвать ксендзов, чтобы заупокойные молитвы читали. А для тела этой служанки, этой мужички, Марины из Грубого, прикажите сколотить четыре дубовых доски, я отвезу её в Бжежаны и велю похоронить в золоченом гробу. На похороны приглашаю всех вас, господа!
В это самое время в горах разнесся слух, что чья‑то грешная душа или какая‑то зачарованная панна бродит повсюду. С некоторых пор по горным лугам ходила молодая девушка, совершенно голая, прикрытая лишь травами, листьями, цветами и ветками, с длинными золотистыми волосами, покрывавшими ее, точно плащ; она подходила к шалашам, и собаки почему‑то не кидались на нее, они только лаяли и выли, завидев ее, лаяли и после ее ухода; она ела и пила все, что ей давали, и ничего не говорила, только улыбалась. Одежду, которую на нее пытались надеть, она сбрасывала.
С самой весны бродила она в Татрах по лесам и склонам, взбиралась на полонины. Знали ее под Гавранем, у Зеленого озера под Кезмарской вершиной, в долине Холодной реки и у Старолесной, в Большой долине, в Батыжовецкой, на всей южной стороне. Сперва пастухи ее боялись и убегали при ее приближении, потом страх перед нею испытывали уже только женщины. Она не причиняла никакого вреда, улыбалась каждому, как дитя.
Ее считали существом не от мира сего, и потому никто не смел ее тронуть, поведение злых, бросавшихся на всякого другого собак еще укрепляло веру в это.
Но когда она однажды забрела далеко на север, с венгерского склона Татр на польский, узнали ее там Франек Мардула, который пас баранов, и Терезя из Грубого, пасшая коров пониже.
Франек и Терезя разговаривали. Вдруг появилась эта девушка, и они в смертельном страхе спрятались за выступ скалы, когда же она подошла ближе, Терезя шепнула:
– Франек! А ведь это видение похоже на ту панну, которая у Топоров жила. Помнишь, – та, которую выгнали и камнями хотели убить? Еще она со старым Кротом ушла!
– Верно! И мне тоже сдается!
– Да, да! Это она! Та самая! Панна, которую Галайда в снегу нашел!
– Это небось только душа ее! – осторожно сказал Мардула.
– Какая там душа, коли у нее пятки стерты! Нешто душа сотрет пятки о камни?
Мардула быстро взглянул на ноги девушки.
– Правда, – сказал он не совсем уверенно.
– Я ее окликну, – решила Терезя и крикнула: – Панна!
Девушка остановилась. Оглянулась.
– По имени ее окликну. Ее Людмилой зовут. Панна Людмила!
Девушка прислушалась.
– Ишь слушает. Только помешалась она, видно. Несчастная! Я ее не боюсь, я подойду к ней.
Терезя вышла из‑за камня; Мардуле тоже стыдно стало трусить, коли не трусит девка. Однако он еще ни в чем не был уверен, и стертые пятки недостаточно убедили его в материальности этого видения.
Терезя смело приблизилась к девушке.
– Панна Людмила, – сказала она, – это вы?
«Видение» улыбнулось.
– Это вас Галайда нашел? Это вы жили у Топоров, у Собека с Мариной? В Грубом? Это вас хотели побить камнями?
Какой‑то отблеск мысли мелькнул в лице женщины, одетой листьями, ветками и травой. Она наморщила лоб, умственное напряжение отразилось в ее глазах, и вдруг, схватившись руками за голову, она с визгливым криком обиженного ребенка, втянув голову в плечи и словно спасаясь от ударов, бросилась бежать. Терезка пустилась за нею, не отставал и Мардула, все время крича: «Не бойся! стой!» Но когда они догнали ее, она упала и, как куропатка, когда налетит на нее ястреб, припала к земле головой, закрывая лицо руками.
– Панна Людмила, – ласково заговорила Терезя, – панна, это вы? Не пугайтесь! Пойдемте с нами в шалаш! Мы вам дадим молока, сыру.
Но когда она хотела взять ее за руку, полуголая женщина издала крик отчаяния.
– Сумасшедшая, – сказал Мардула. – Рехнулась. Оставь ее.
– Нельзя нам ее оставить. Волки ее съедят, либо замерзнет, либо умрет с голоду. Гляди, как исхудала‑то, бедная! Кожа до кости! Франек, отойди, – может, она со мной пойдет.
Мардула отошел и спрятался за большим деревом. Терезя села рядом с лежащей девушкой, но вся ее нежность и уговоры не помогли; когда же она хотела взять бедную сумасшедшую на руки, та завизжала так громко и с таким отчаянием, что у Терезки сжалось сердце.
Мардула вздрогнул и закричал:
– Оставь ее! Пусть делает, что хочет! Значит, так ей суждено! Это воля смерти.
Терезя в страхе отступила, а голое существо вскочило с земли и стало поспешно удаляться.
– Пропадет, – печально сказала Терезя.
Безумная уходила. Она быстро направлялась к скалам, нависшим над Каспровой долиной.
– Уйдем, – сказал Мардула. – Это воля духа. У меня даже волосы дыбом встали. Уйдем!
Они торопливо отошли. Беата скрылась среди валунов.
– Мне ее страсть как жалко, – сказала Терезя.
– Тсс! Не говори ничего. Над духом человек не властен.
– А почему ты знаешь, что это воля духа?
– Да холод меня пробрал сразу, никогда я еще такого ледяного холода не чувствовал. Мне отец рассказывал: когда старому Яжомбеку на охоте суждено было сорваться с горы, у всех у них вдруг мороз по коже пробежал и пальцы словно примерзли к лукам. Не успели две молитвы прочитать, как Яжомбек сорвался и грохнулся и пропасть, – там он и поныне лежит. Это воля смерти.
– А они не могли его удержать?
– Могли бы. Мой отец шел перед ним, а сын Яжомбека – за ним и даже руки к нему протянул. Но уже прилетел дух. Дух гонит перед собой человека, как мать – ребенка в хату. Дед Яжомбека говорил потом моему отцу: «Я уже за два года перед тем чуял, что вокруг сына моего дух ходит. Я знал».
Терезя содрогнулась.
– Раны Христовы! – прошептала она, – Иисусе, Мария, смилуйтесь над ней и над нами тоже! Крот уже наверное помер, вот она и бродит одна… Страшно… я бы с гор этих ушла…
– Э, везде одинаково, – возразил Мардула, – Не хватило у бога счастья для человека. Дал он счастье воде, земле, солнцу, дал звездам и месяцу… Горя человеческого не знает ни дерево, ни трава, ни корова, ни овца. А человека бог сотворил последним, и для него не хватило счастья, божьего дара. Так‑то…
– Ей уже, может, конец пришел…
– И то может быть… Сядем подальше.
Внезапно ужасный крик прорезал воздух. Франек и Терезя припали лицами к земле.
– Помилуйте нас, все боги! – твердил Франек. – Ей уже не было спасения… Помилуйте нас, все боги, небесные, земные и боги ада. Аминь!..
Всего недели две после троицына дня в горах было спокойно. Потом над озерами в Новотаргской долине стали кружиться громадные стаи белых чаек с длинными, узкими крыльями. Они прилетали всегда перед весенним разливом в Подгорье, но в таком множестве их еще не видывали. Мужики из этого заключали, что разлив будет сильный, сильнее, чем обыкновенно, потому что эти птицы чуют воду. И дрогнула Новотаргская равнина.
За неделю до праздника Ивана Купалы два дня шел сильный дождь, а на третий день, в три часа пополудни, все небо со стороны Оравских Татр покрылось черными тучами. Несколько раз прогремел гром, и туча разразилась дождем. Дождь не хлынул, а прямо‑таки обрушился на землю. В одну минуту реки стали вздуваться, точно нажравшиеся змеи. В Людзимеже разлились оба рукава Дунайца: и тот, который проходит возле костела, и тот, на берегу которого живут Гапка и Ветряный Куба, рыбак.
Между этими руслами, боковым и главным (под костелом), простирается широкая, в значительной своей части травянистая равнина, называемая Каменцем, она служит общим выгоном, по ней же скот возвращается с более отдаленных пастбищ, из Зардзавицы и других мест, и у самой деревни переходит реку вброд. Отсюда видны с одной стороны Марушинские и Рогожницкие горы и цепь Татр, а с другой – Горцы, Ключики, Бабья гора и Оравская возвышенность.
Скот пасли в Людзимеже дети; реку они знали хорошо, а волков летом бояться не приходилось, тем более что леса поблизости не было. Дожди их не смущали, но когда быстрые извилистые ручьи, текущие из Краушова, Длугополья и Черного Дунайца, из Косцелецкой и Хохоловской долин, стали вдруг прибывать и подниматься на глазах, заливая окрестную равнину, – дети всполошились и погнали скот к реке, пока еще можно было перейти ее вброд.
Однако прилив был так силен, что животные не могли бороться с ним, и первые же коровы из тех, что послабее, были опрокинуты волнами и понеслись по течению. При виде этого остальные бросились прочь от воды и от берега, пастушата кричали и плакали, а собравшиеся на другом берегу бабы вторили им.
Жители деревни стали сбегаться на берег. Мужики из ближайших домов побежали за лошадьми, – а лошади у них были рослые, издавна ездившие в Венгрию за вином и в Величку за солью, – и верхом въехали в реку, спеша на помощь. Но хотя несколько смельчаков на самых лучших лошадях добрались до противоположного берега, все же они не смогли взять на лошадей и спасти всех ребятишек. Оставшиеся в отчаянии хватались за штаны мужиков, за хвосты лошадей; несколько детей, со страху ли, или оттого, что некому было их взять, остались на острове. Мужики плетьми загоняли коров в реку, рассчитывая, что если окружить их лошадьми, то можно будет перегнать на другую сторону. Но коровы не слушались, а вода все прибывала. И мужики, захватив лишь детей, бросились назад; маленький Ясь Чайка, висевший на хвосте Бырнасова серого жеребца, упал, и его унесло течением.
Таким образом, мать его Ганка почти в один и тот же миг лишилась трех коров, которые утонули, первыми войдя в Дунаец, и сына; она каталась по земле, рвала на себе полосы и выла:
– Лучше бы у меня все дети потонули, только бы коровы остались. Лучше бы у меня все дети потонули, только бы коровы остались!
Ибо от детей один убыток, а от коров – польза.
У Ганки было еще трое детей, они с плачем бегали вокруг обезумевшей от отчаяния матери.
Скоро река выступила из берегов: с двух сторон хлынули бурные потоки, а остров, на котором осталось два‑три десятка коров и несколько пастушат, стало заливать. Шум волн уже заглушал мычание коров и вопли детей.
Вдруг прибежал Ендрек Фит и громко закричал:
– Где Зося? Где моя сестра Зося?
Он рубил в ближнем лесу дрова и, бросив топор, помчался на помощь, потому что знал, что Зося с коровами ушла за реку, а паводок ожидается грозный.
– Там она! – И войт Сопяж указал ему рукой за Дунаец, потому что Зосю некому было взять на лошадь.
Ендрек бросился в воду. Сильный, молодой парень спиной и руками боролся с течением до середины реки, но больше не хватило сил. Он поднял руку, согнулся, кинулся вперед, однако против волны не устоял, покачнулся, упал, и его унесло течением.
Увидав это, мать Зоси и Ендрека, вдова Михала Фита, помощника войта, стоявшая на берегу, безмолвно упала навзничь. Никто даже не поглядел, жива ли она, умерла ли. Не до того было людям.
Настала такая тьма, как будто затмилось солнце. Вода в реке уже не разливалась, но сильно поднялась; людям пришлось с берега уйти. Закат едва можно было различить за громадой туч, они лишь немного посветлели на западе. Дунаец хлынул на дорогу; мутный и грязный, он залил огороды Бартоломея Фита, Кружлей, Шимчиков, органиста. Мужики бросились в ближайшие к берегу хаты – спасать домашний скарб, грудных детей, стариков и больных. На волнах уже качались бревна из плотин и деревья, вывороченные из земли.
Тьма сгущалась, не унимался и ливень. За рекой во мраке можно было различить лишь маленький островок, где стояли коровы и несколько зажатых между ними детей. Люди, спасаясь от наводнения, уходили все дальше от берегов. Под вечер вода на большой дороге доходила уже лошадям до брюха. Стоя на крышах, хозяева звали коров и пастухов, словно это могло им помочь.
Лодки в деревне не было, потому что вода в реке обычно была здесь неглубока. Ни о каком плоте нечего было и думать: волны его разбили бы, раскидали по бревнам и унесли. Плавать в этой деревне, стоявшей над мелководной горной рекой, никто не умел.
Мужики, жившие на берегу, перебирались в поля, к лесу; тех, чьи хаты стояли подальше, почитали счастливцами. Но таких было немного, – ведь с другой стороны неслась Лепетница, в которой тоже вода сильно поднялась в Бескидах.
Когда наступил вечер, всякий, у кого за рекой оставался ребенок, повторял: «Увижу ли я его завтра утром?» Матери и сестры голосили.
Эта ночь, ночь разнузданных стихий, наводнения, дождя, урагана и непроглядной тьмы, увеличивала отчаяние, а когда занялся бледный день, перед глазами горцев пенилось ревущее море и по бешеным, рыжим от глины волнам его неслись дома, разрушенные водой выше по течению; это море на глазах у них разбивало их собственные дома и бесследно поглотило детей их и скот. Не было видно ничего – одна лишь пучина, ревущая, безбрежная.
Матери сходили с ума, думая о том, как вода ночью подходила все ближе и ближе, поднималась все выше, как дети барахтались в ней, как она дошла им до колен, до пояса, как она повалила их, подхватила и понесла вместе с коровами куда‑то вдаль на глубокие места, под Сыпкую, к новотаргскому берегу, где их схватили утопленники; там их не спасет уже ничто, никто никогда не увидит. При мысли о том, как дети, перед тем как утонули, плакали, должно быть, и звали на помощь, Катажина Валесова, у которой утонул двенадцатилетний сын, схватила топор, прямо по воде побежала к костелу и стала рубить стену, крича как одержимая: