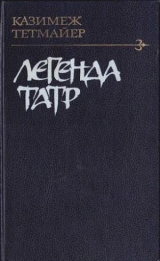
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Они вышли на вал, и жена Юзека крикнула:
– Не труби ты, скотина, – пана разбудишь, чтоб тебе пусто было!
Но жена Мацека, баба пожилая и солидная, сказала с достоинством:
– Погоди! – и важно спросила: – Кто там?
– Одни бабы там у вас, что ли? – крикнул пан Иордан.
– Есть и мужики, – ответила жена Мацека. – А вам чего?
– Где пан Костка?
– Спит.
– Ну, так разбуди его!
Но жена Мацека важно сказала:
– Не видишь ты разве, что я хозяйская жена?
Иордан вспомнил наставление епископа быть осторожным и не раздражать мужиков. Он сдержал себя и прокричал:
– Разбуди же его, хозяюшка!
– Зачем?
– Тебе приказывает ясновельможный пан Михал Иордан, староста добчицкий.
Но жена Мацека гордо возразила:
– Наш пан староста чорштынский не хуже добчицкого!
– Меня сюда послал краковский епископ!
– Ну, так и стойте себе! – закричала жена Юзека.
Паи Иордан пришел в ярость. В первую минуту вылетели у него из головы все слова и мысли. Он обернулся к Шелюге, гневно взглянул на него и яростно заорал:
– Черрт… Черрт.
Ганка, молодая, красивая девка, у которой язык был как бритва, закричала с башенки:
– А что это там гремит? Погода, кажись, хорошая!
Иордан привскочил на седле, но стерпел.
– Слушайте, бабы, – сказал он, повысив голос, – сейчас же идите за Косткой!
– А зачем вы, пан староста, сюда приехали? – степенно спросила Мацекова жена.
– Замок брать! – ответил сразу Иордан.
– Замок‑то у меня готов, да вот ключи не знаю куда делись! – крикнула Ганка.
Трубач Шелюга, затыкавший себе рот трубой, не выдержал и захохотал. Захохотали и бабы на стене, а жена Юзека закричала:
– Ну, и подождешь, окаянный! Чего тебе не терпится?
Пан Иордан, весь красный, остервенев, зарычал:
– Суки паршивые! Шкуру с вас прикажу содрать!
– А откуда, пан, начинать будете? – спросила Ганка.
– Откуда, обезьяна блудливая? – крикнул пан староста. – А вот откуда! – И, повернувшись в седле, заревел, как бык – Ко мне!
Тотчас же из леса стали выходить драгуны епископа Гембицкого и добровольцы.
– Вот откуда! – яростно повторил пан Иордан.
Жена Юзека Новобильского присмирела: поняла, что дело нешуточное, и сказала невестке:
– Ах, чтоб их черти съели! Солдаты…
Но жена Мацека не потеряла присутствия духа; она знала, что к Чорштыну должны стянуться тысячи крестьян, и потому задорно крикнула:
– Пан староста! Не лез бы ты лучше, куда не просят!
– Погоди же ты, старая ведьма! – гаркнул пан Иордан и, повернув лошадь, вместе с трубачом уехал к своим.
Он долго сопел и не мог отдышаться. А когда по совету поручика, командира драгунов, и пана Гоздавы Мешковского красноречивый пан Скорачинский и маньский ксендз, прибывший с войском, вступили в переговоры с самим Косткой, обещали ему личную неприкосновенность, если он добровольно сдаст крепость, и все‑таки ничего не добились, – тогда Иордан приказал идти на штурм.
Но атаки драгун и попытки поджечь ворота были неудачны; в замке было кое‑какое оружие, у мужиков было свое, и, наконец, ни к чему не нужный маньский ксендз совершенно угнетал осаждающих, без устали повторяя: «Спешите! Спешите!» Он боялся взбунтовавшихся горцев, которые, по слухам, уже приближались.
Неудачные атаки, потеря нескольких десятков лошадей, довольно тяжелые раны и увечья, которые вывели из строя драгун, и сверх того все возраставший страх перед приближавшейся толпой крестьян плохо подействовали на пана Иордана: совершенно неожиданно, не сказав никому ни слова, он удрал из‑под замка вместе с паном Мешковским, Скорачинским и еще одним шляхтичем. Следом за исчезнувшим вождем бросились трусливые шляхтичи‑добровольцы, а за шляхтой и драгуны ускакали по дороге к Кракову.
Костка смеялся над самим собой: и чего он так испугался письма епископа и так быстро овладели им сомнения? Он столкнулся с врагом, стал с ним лицом к лицу и победил его до смешного легко: в замке не было даже ни одного раненого. Только Магера, кузнец из Лопушны, нарочно, ради шутки, стукнулся коленом об стену: все‑таки, дескать, при отражении штурма были и раны.
Пока господа Иозель и Ривка Зборазскйе угощали мужиков своим вином и медом, Костка, веселый и довольный, расположился в кабинете камергера Платенберга и, найдя там чернила и все, что нужно, стал писать пану Викторину Здановскому письмо в стихах и прозе. Он приглашал его «не отказать прибыть к Иванову дню в Чорштын, ибо стянется сюда большое войско: такова воля божья, чтобы столь великие злодеяния были наказаны. Пошли только господь, чтобы совершилось это без пролития христианской крови. Вас, вельможный пан, я оставлю хозяином здесь, а сам пойду туда, куда поведет меня с войском господь…
…Ворота подожгли. И думали они,
Что ранили орла. Обрадовалась рать,
Но встрепенулся лев и камни стал швырять.
И жидкой грязью он все щели залепил,
Ворота затопил, отважных порубил,
Коней поубивал, а кто трусливей, те
Отправились назад лишь на свином хвосте.
Лев видит толстяка. И этот жирный слон
(Чин старосты иметь давно стремился он)
Из битвы раньше всех бессовестно удрал,
Убежище нашел себе меж темных скал.
А в замке среди мглы ударили в котлы,
Звенело все вокруг. Тревожен был сигнал.
Проснулась быстро рать и стала удирать.
Одни пешком спешат, другие – на конях:
Лев приказал стрелять, бегущих догонять,
Нагнал на них стрельбой из аркебузов страх.
Что ж выиграли вы? И где у вас права?
Разгневали зачем вы понапрасну льва?
Высоко лев залез, где в облаках гора,
Куда орел и тот не занесет пера.
Да, с кем господь бог наш, тех не сразить в боях,
Не лучше ль вам теперь раскаяться в грехах.
Боимся мы людей. А надо бога чтить,–
Лишь поступая так, счастливо можно жить.
Тщеславие кругом и жадность! Это зло
Несчастье и позор к нам в Польшу принесло.
О, как бы не сбылось пророчество о том,
Что с севера придет к нам зло большое в дом!
Свидетельствует тот, кто видел все и знал…»
Второе письмо он отправил Лентовскому, чтобы тот привел с собою как можно больше войска. «И напомните им, чтобы брали с собой топоры и заступы. Мы пойдем через Краков и, если будет на то воля господня, – дальше, через всю Польшу. Мы уже снеслись с Хмельницким и с татарами. Немецкое войско также придет нам на помощь…»
Радовалась и веселилась молодая душа пана Костки. Он сидел в богатом замке старосты, в высокой башне, писал военные приказы, чувствовал себя недосягаемым… Раскинувшись в великолепном камергерском кресле, он положил вытянутые ноги на медвежью шкуру, разостланную под столом, засунул руки в карманы шведских рейтуз и закинул голову…
Ты будешь плакать,
А я не услышу.
В горнице сяду
Письма писать…–
припомнилась ему мазовецкая песня о трех панах Потоцких, которые ехали с войны и все
Хлопотали, хлопотали,
Где бы им заночевать…–
а когда устроили дело с ночлегом, то
Хлопотали, хлопотали,
Где бы девушек достать…
Беата Гербурт…
Не сон ли это?
Когда‑то, где‑то… сад, благоухающий ранним апрельским цветом… давно… далеко… Объятия, горячие объятия…
Сенявский, Сульницкий, княгиня Корецкая, воевода…
Пожар Згожелиц, зарево…
Двор королевы Цецилии Ренаты… придворные балы… пиры… пажеские проказы…
Презрение, голод, нищета…
Не сон ли?
Ах, эти сладкие, волшебные, небесные объятия… Блаженство поистине неземное…
Вдруг перед ним появилась Марина из Грубого.
– Пан, – сказала она, – меня прислал с двумя людьми брат Собек. Сам он придет на этой неделе с тысячей мужиков.
Костка посмотрел на нее глазами, отуманенными мечтой. Она была прекрасна.
– А ты? – спросил он. – Хочешь здесь остаться?
– Хочу.
– Зачем?
– Я на войну пойду.
– Драться?
– Да.
– У нас мужиков довольно, хватит.
– Я должна омыться в крови.
– Почему?
– Дьяволу дала себя искусить. Должна омыться.
– В крови?
– Да.
– Что же ты сделала?
– С извергом связалась.
– Как это?
Марина не ответила, только опять повторила:
– Собек скоро будет здесь. С ним одних Топоров семеро, трое Мардулов…
Костка смотрел на красоту Марины.
– Марина, – сказал он, выпрямившись.
– Что?
– Марина… – повторил он.
– Пан, останьтесь для меня святым спасителем народа! – сказала Марина и вышла из комнаты.
На другой день прибыл Лентовский, но всего с несколькими мужиками, – проведать Костку. Он обещал вернуться и привести с собой с Черного Дунайца десятки тысяч мужиков. А через четыре дня после отступления Иордана получено было письмо из Птима, от ректора Мартина Радоцкого, который упоминал о «возлюбивших правду Христову» и сообщал, что «мужики, если бы им разрешили и если бы призвал их к тому голос его величества короля, сами напали бы на шляхетские усадьбы и разгромили их, чтобы никогда больше не царила на земле гордость, высокомерие и жестокая тирания».
Тогда Костка снова сел за письменный стол Платенберга и стал писать свой манифест, начинавшийся словами: «Мир Христов!» – манифест, в котором от имени короля в пространных словах обещал «всем, кто теперь станет на его сторону, всяческие вольности и шляхетские усадьбы со всем имуществом». Он предупреждал также, чтобы (как поручил ему заявить его величество король) «никто не придавал значения никаким указам, хотя бы они были с печатью и за подписью его величества короля, – ибо последний принужден их выдать из опасения перед шляхтой»…
Он объявлял поход на Краков и велел собираться п Чорштын, «под свое крыло», приказывая не трогать костелов, «ибо мы будем сражаться во имя бога и за тяжко обиженный народ. Дано в Чорштыне 22 июня 1651 года».
Сидя в замке, Костка наслаждался своим счастьем. Он издавал манифесты, чувствовал, что он – сила, видел впереди бессмертную славу. Он радовался, как ребенок, он готов был хлопать в ладоши, а лупоглазый, лопоухий, толстогубый, маленький, толстый, грязный, прыщеватый и лукавый Иозель Зборазский смешил его необычайно. Он сам не знал: играет он в революцию или это все правда? Кто он: крестьянский мессия, владыка Чорштына, вождь сотен тысяч людей или паж королевы Цецилии, играющий в Варшаве с товарищами в турецкую войну? Все совершилось так быстро, так внезапно, словно во сне…
Написав свой манифест, Костка выбежал из комнаты Платенберга, наткнулся на жену Юзека Новобильского, обхватил ее за талию и закружил, покрикивая: «Гоп! Гоп!» Та подумала, что он сошел с ума. А когда он ее отпустил, баба, хоть ей было уже под пятьдесят, призналась жене Мацека:
– Знаешь, сестрица, как обнял он меня, так хоть я уж не молоденькая, а по правде сказать, кабы дошло до чего дело, – я бы ему не противилась…
А жена Мацека ей на это:
– Да, кабы дошло…
И вздохнула с сомнением.
Но недолго пришлось веселиться молодому полковнику.
Мальчик, исполнявший при Костке обязанности слуги, послан был на деревню за яйцами и возвратился с криком: «Солдаты идут! Солдаты идут!» Полчаса спустя замок стали окружать драгуны, пехота и артиллерия с двумя пушками. Всех было около тысячи человек, под начальством полковника епископских войск Яроцкого.
Епископ Гембицкий после позорного возвращения пана Иордана из‑под Чорштына, где тот не мог совладать с бабьими языками и кулаками мужиков, забил отчаянную тревогу. Он отправил к Чорштыну двести пятьдесят человек пехоты и послал следующее письмо подстаросте и городскому судье краковскому:
«Краков, июня 30‑го дня 1651. Чорштын взят, и там засели разбойники! Ad primum nuntium[15] посланные люди, qui flammam extinguerent[16], ничего не добились, и огонь этот еще тлеет, ибо чернь insurgit…[17] Во имя любви к родине и ради ее спасения спешите туда, вельможный пан, ибо это страшный огонь!»
Помчался гонец к королю; разослали всем сельским приходским ксендзам приказ проповедовать с амвонов против бунта и удерживать народ; вслед за отправленными уже двумястами пятьюдесятью пехотинцами напуганный епископ снарядил еще двести человек из собственного полка и шестьдесят отборных горных стрелков‑«свистунов», получивших свое название оттого, что они отдавали команду по‑разбойничьи, свистом. При этом войске находились две пушки. Староста любовльский, получив приказ, также привел две пушки и сто пятьдесят солдат. Из‑под Мушины прибыли драгуны епископа. И в то время как подстароста краковский Сметанка сзывал в Краков ко дню 27 июня всю шляхту, всех стариков, больных, слуг, экономов, королевских чиновников и духовенство, чтобы идти против мятежника Костки, у самого Костки на 22 июня было в замке против тысячи осаждающих двадцать семь горцев и пять женщин.
Но он был уверен, что помощь придет. Отряды из Подгалья под предводительством Собека, из Бескид – с Чепцом и Савкой и те, которые собраны были Лентовским под Черным Дунайцем, должны были прибыть с часу на час. Чепец и Савка донесли, что под Ланцкороной и под Мельштыном стоят целые толпы крестьян, что целые толпы идут под предводительством войтов, что под Бабьей Горой, в Охотнице над Новым Таргом, в Порембе, в Медведе, во всей округе, до самых дальних мест, десятки тысяч людей взялись за оружие.
Так что, хотя он и не ожидал осады и хотя было у него и замке только двадцать семь мужиков и пять баб, он не испугался и решил защищаться, приказав зажечь смоляные ветки как сигнал. Чорштын засиял со всех сторон и окутался дымом.
Тем временем, ввиду того, что замок не согласился на предложение о сдаче, его начали бомбардировать из пушек, а пехота пошла на штурм.
В замке было несколько ружей и пушек, но не было ни пороха, ни пуль. Пока еще было время, Костка писал манифесты и забавлялся, подшучивая над Иозелем Зборазским, а о снаряжении не позаботился. Теперь он скрежетал зубами и впивался ногтями в ладони, – но это не помогало.
Его верный мальчик‑слуга, тайно посланный ночью в Любовлю достать хотя бы пороха и пуль для ружей, попал в руки драгун и утром 24 июня был бит батогами на виду у всех перед замком.
Зловеще восходило это утро. Смоляные ветки горели на стенах день и ночь. Чорштын пылал со всех сторон. Это был тревожный сигнал повстанцам, – но никто не шел.
– Что же делать? – спросил Костку Лентовский, сидя в кухне, где горел огонь.
– Вот что! – крикнул Костка и, выбив чеканом оконное стекло, оправленное в олово, вырвал кусок олова и бросил в огонь. – Пули будут.
После этого, по его примеру, весь металл, бывший в замке, стали переливать на пули; из крыши вырывали гвозди, бабы выламывали мрамор из полов, вырывали из мостовых камни; кто чем мог отбивался от осаждающих.
Наступил полдень, а помощь не приходила.
– Что же будет? – спросил Лентовский, глядя на войско епископа, которое в это время обедало.
Но Костка, контуженный в лоб, ничего не ответил. Он пошел перевязать рану, потому что кровь заливала ему глаза.
На пороге он встретил Марину, которая несла на стену пули, отлитые в кухне из канделябр Платенберга.
– Есть у тебя полотно? – спросил он.
– Чистая рубашка, – сказала Марина и, приподняв юбку, оторвала кусок полотна.
– Перевяжи, – сказал Костка.
Она перевязала.
– Где твой брат Собек?
– Он придет.
В этот миг пушечное ядро пробило окно и, кроша кирпичи, застряло в потолке над их головами.
– Только бы продержаться! – сказал Костка. – Впрочем, меня не возьмут. Не дадимся!
Перед глазами Марины вдруг встало лицо Щепана Куроса, молодого мужика из Ментуса: любовница, которая несла ему обед на стену, упала у его ног и умерла, раненная пулей в грудь. Страшно было его лицо в эту минуту.
Марина уже заметила, что мужики о чем‑то между собой шепчутся и переглядываются. Она слышала, как Мацек Новобильский, первый после Лентовского человек, говорил своему двоюродному брату Юзеку: «Никто не придет. Пропадем мы тут все – и больше ничего».
А Юзек Новобильский, великан, поднимавший вола, мрачно опустил свои ястребиные глаза.
– Но что же с Собеком? Что с Топорами? – говорил Костка. – Что с твоим братом, Марина?
– Не знаю, пан. Он должен бы уже здесь быть. Обещался прийти еще прошлой ночью. А Собек такой человек – если что кому‑нибудь или самому себе обещает, то сделает, хоть бы ему сам Хворь‑Змей с черными крыльями да кровавый бог смерти со своей палицей загородили дорогу.
– Будь что будет, – сказал Костка, качая головой. – Я уже второй день на ногах, две ночи глаз не смыкал, такой сон одолевает меня, что не могу выдержать. Вздремну немного.
– Не ложитесь, пан, – сказала Марина. – Кто знает, что может случиться?
– Будь что будет! Может быть, тем временем подоспеет Собек или Чепец с Савкой…
И он бросился на постель Платенберга.
Между тем пушки епископа и старосты любовльского гремели без перерыва и крушили стены замка. Полковник Яроцкий брал замок с лихорадочной поспешностью, потому что боялся, что подойдет помощь. Он имел верное известие, что подгаляне уже выступили и идут напрямик через горы. Ведет их Собек Топор. Должно быть, что‑нибудь задержало их в пути, но они могут прийти с минуты на минуту.
Осажденные об этом не знали и потеряли всякую надежду на подкрепление. Ни пехота, ни драгуны на штурм не ходили. Яроцкий берег их на случай атаки с тылу. Только пушки крушили да крушили стены, убивая людей, укрывавшихся за ними. В погребе, чтобы укрыться от пуль и подкрепиться вином, сидели оба Новобильских, Курос и еще четыре горца.
– Что могло случиться? Отчего никто не приходит? – сказал Юзек Новобильский.
– Не сумею тебе сказать, брат, – отвечал Мацек. – Собек Христом‑богом клялся, что придет с людьми еще ко вчерашнему вечеру. Да ведь он и тогда не знал, что с нами будет, не знает и теперь, когда пушки так гремят среди гор, что Озвена[18] оглохла. Никого ниоткуда не видно.
– Ну, так что же будет, крестный? – спросил Курос. – Неужели нам всем погибать, как погибла моя Антоська несчастная?
– А ведь правда, – сказал Кулах из Людзимежа.
– Повесят нас, либо на кол посадят, либо четвертуют, – сказал Баганцар из Кликушовой.
– Велят палачу поясов из нашей кожи нарезать, – сказал мужик из Леска.
– Искромсают нас на кусочки…
– Даже и похоронить на освященной земле не позволят.
Мужики повесили головы.
– Баб с детьми оставим сиротами…
– Добра своего, земли‑матушки лишимся…
– На пытку пойдем…
– А ничего не добьемся…
– Был мужик мужиком, – мужиком и останется…
– Был пан паном, – им и останется…
– Такой уж, должно быть, порядок на свете и воля божья…
– Что тут станешь делать?
– Мы своей смертью мира не спасем…
– Да и никого…
– Пан Костка нам, пожалуй, добра хотел…
– Да и Лентовский…
– Но уж коли нельзя – так нельзя…
– А что кому от нашей смерти прибудет? Ничего.
– Или от мук наших?
– Коли чему перемениться – оно и так переменится, а нет – так нет.
– И если даже удержим этот замок, нам лучше не будете.
– Правда, что не будет.
– Кто нами верховодит, тот пускай и вывозит. Погибать никому неохота.
– Еще бы! Кому головы своей не жалко?
В эту минуту в дверях погреба появился Лентовский. Высокий, седобородый.
– Эй, мужики! – закричал он, – Там, на стенах, только пятеро здоровых осталось, а вы здесь?
– Здесь, – ответили ему мрачно.
– О чем толкуете?
С минуту помолчали, потом Юзек Новобильский сказал:
– Даром погибать никому неохота.
Лентовский понял и побледнел.
– Так чего же вы хотите? – тихо спросил он.
– Где полковник? – сказал, избегая прямого ответа, Мацек Новобильский.
– Пошел рану перевязать.
Наступило молчание. Вдруг загремел пушечный выстрел, и от удара ядра за спиной Лентовского посыпались из стены камни.
– Сам видишь, – сказал Юзек Новобильский.
– У нас только человек десять еще цело, – а их тысячи.
Вдруг Щепан Курос вскочил со скамьи.
– Что долго разговаривать? – закричал он, – Сдать замок – и все тут!
Мужики только этого и ждали.
– Замок надо сдать! Он правильно говорит! – закричали, вскочив с места, оба Новобильских, Кулах и трое остальных.
– Ребята! Побойтесь бога! – крикнул Лентовский. – И замок отдать и под нож идти? Уж лучше погибнуть в этих стенах!
– Уж я‑то знаю, что делать, – воскликнул Мацек Новобильский. – Меня учить нечего! Я в войске бывал.
И он собрался бежать.
– Куда тебя несет? – остановил его в дверях Лентовский.
– На стену! Замок сдавать!
– Без пана полковника нельзя!
– Это ты сам его спрашивай!
– Не пойдешь!
– Пойду!
– Маршал, пустите нас! – закричали мужики, которым Лентовский, стоя в дверях погреба, загораживал дорогу.
– Без пана полковника – нельзя!
– Поговори еще! – дерзко крикнул Курос и обхватил старика, чтобы оттащить его в сторону.
Осмелели и остальные. Они схватили Лентовского, а Юзек Новобильский сказал:
– Пока что мы тебя здесь запрем.
И, втолкнув Лентовского в подземелье, они захлопнули дверь.
А Мацек Новобильский взбежал на стену и стал высоко махать белым платком.
Полковник Яроцкий заметил платок и приблизился к стене.
– Чего вы хотите? – крикнул он.
– За Костку и за Лентовского отпустите нас на свободу?
Яроцкий боялся крестьян, шедших на подмогу, и потому ответил:
– Отпустим!
– Поклянетесь?
– Поклянемся!
– И подпишетесь?
– И подпишемся!
– Так перестаньте стрелять! Пришлем договор для подписи!
– Ладно!
Мацек побежал к Иозелю Зборазскому, вытащил испуганного еврея за шиворот из‑под груды перин и заставил его писать условия сдачи.
Пушки замолчали.
Мужики не стали разыскивать Костку. Не хотели смотреть ему в глаза. От Марины они узнали, что он спит.
А Марина вошла в комнату и увидела Костку на постели Платенберга. Сон его одолел.
Она потрясла его за плечо.
Костка вскочил:
– Что? Собек с Топорами?
– Нет, – ответила Марина, – мужики сдали замок.
– Как? Что? – закричал Костка, вскакивая на ноги.
– То, что говорю. Жалко мне вас.
– Кто сдал? Где Лентовский? Убит?
– Нет, заперт в погребе.
– Правду говоришь?
– Правду.
Костка упал на постель.
– Прислушайтесь, если не верите, – сказала Марина. – Пушки перестали стрелять.
Костка прислушался.
– Правда, – сказал он.
– Жалко мне вас, – повторила Марина.
Страшным показалось Костке молчание пушек.
«Как смерть», – сказал он про себя.
Вдруг им овладел бешеный гнев. Он топнул ногой, прошептал сквозь зубы проклятие, собрался бежать… Продержаться еще час, два… помощь придет!
Он бросился к двери, хотел выбежать на двор замка, но тяжелая дубовая дверь, ведущая на лестницу, была заперта снаружи. По‑видимому, она была чем‑то приперта. Он повернулся к окну, но из окон покоев Платенберга двора не было видно. Виднелись только далекие Татры, а перед ними – широкая равнина. Под окном – отвесный склон утеса, на котором стоял замок. Спастись было невозможно.
– Заперли меня, собаки! – крикнул он беспощадно.
– Заперли, – сказала Марина. И прибавила в третий раз: – Мне вас жалко.
В один миг, как у утопающего, промелькнуло в его мыслях все: подложные королевские грамоты, вербовка и призыв мужиков к бунту, грамота Хмельницкого, собственный его манифест, разосланный два дня тому назад, занятие замка, – явная измена и восстание. Его могла ожидать только смерть.
Он сел на кровать и опустил голову на руки.
– Жаль вам своей молодой жизни? – спросила Марина.
Костка молчал.
Вдруг что‑то загремело.
– Стреляют! – радостно крикнул он, поднимая голову.
– Нет, это где‑нибудь обвалилась стена, пробитая ядрами.
Костка внимательно прислушался, – но опять наступила тишина.
– Жаль вам жизни? – повторила Марина.
Тогда Костка поднял глаза, посмотрел на нее и медленно заговорил:
– Эх, Марысь… Как над молодым дубом, царем деревьев, взошло надо мной солнце и озолотило мое чело… Зачем же так быстро, так внезапно собрались тучи, зачем надо мною сверкнула молния? Я хотел возвыситься, но хотел не только славы себе: я хотел добра людям… Пройдут века, прежде чем исполнится то, что хотел сделать я… Королем мужиков, королем простых людей хотел я быть, как Казимир Великий…
– Вы и королем хотели быть? – спросила изумленная Марина.
Но Костка не стал объяснять ей ничего. Он продолжал:
– Пройдут века… Мужики сами, своими руками бросают в море нож, который должен был перерезать петлю, сдавившую им горло. Зачем покинули они меня? Зачем не пришли? Зачем епископ Пстроконский, тынецкий аббат, побоялся Рима? Кто первый губит меня и кто первый губит свободу народа? Знаю! Понимаю, кто!
Костка взволновался, и слезы выступили у него на глазах.
– Зачем мужики не пришли? – воскликнул он, – Зачем не пришли! Они погубили мою молодую жизнь, затянули петлю и на своей шее! Увидят теперь! Их будут карать огнем и мечом. А мне – только смерть… О, Беата, Беата, Беата!
– Вы призываете святую Беату?
– Святую, самую святую для меня на земле! Я любил ее, – так любил, что таяло сердце мое. Я любил девушку, похожую на ангела, – и она любила меня. Я думал, что буду счастлив и разделю с нею власть над обширными поместьями, а может быть, и еще большую власть. А теперь? Я заперт на голой скале, окружен войском и всеми покинут. Крест мне, крестьянскому мессии, терновый венец, да копье в бок, да губка с уксусом! Шляхта с ксендзами, деля мои одежды и право убить мысль мою и честь, будут метать жребий и будут вырывать друг у друга мужицкое горе, как вороны вырывают кости и падаль! Вопьются когтями, и каждый будет тащить в свою сторону!
Страшная скорбь и горе звучали в голосе Костки.
Марина подошла к нему и сказала:
– Пан, мне больно за вас.
Костка взглянул на нее.
– Болит за вас мое сердце. Утешьтесь.
– Чем могу я утешиться? – горько ответил Костка.
– Пряхи, адские девы, ткали нить вашей жизни… Но старшая берет уже ножницы, огонь уже готов, не доткут до конца вашей нити, бросят ее в огонь. Утешьтесь хоть на миг…
– Как?
– Утешьтесь со мной.
– Как? – повторил Костка, не понимая.
– Я лягу сюда для вас, – сказала Марина, подходя к ложу камергера Платенберга.
Собек созвал подгалян. Из конца в конец разослал он по татрским селениям своих гонцов… В Грубое, к избе Ясицы Топора, сошлось более трехсот вооруженных крестьян. Они стояли толпой, с косами, луками, палицами, чупагами, многие – с ружьями и пистолетами. Здесь было много стариков и мальчиков, потому что большая часть молодежи ушла на войну, в королевские войска.
Старый Ясица Топор выпрямился, так что казался на голову выше, чем всегда, взял еловую ветвь и, сотворив крестное знамение над головами собравшихся, сказал громким голосом:
– Господу богу поручаю вас, Иисусу Христу и божьей матери Людзимежской! Пусть она ведет вас, а Турбог, управляющий рукой человека, и Ужас, летящий пред ним на вороне, да будут с вами! Все силы да будут с вами, а Черная Мажанна, Моровая Язва да предшествуют вам! Ведьмы со змеиными волосами, Диво‑Дивное с кошачьей головой и Дьявол‑палач с волчьей пастью да обратят врага вашего в бегство! Иесса, бог трехголовый, владыка мира, да поможет вам в бою!
После этого жена его вынесла на железной лопате раскаленные уголья, а Топор ударил обухом по лопате, так что угли рассыпались во все стороны, и громким голосом воскликнул:
– Как разлетаются во все стороны эти угли, так да исходят от вас сила и ужас! Прощайте!
– С нами бог! – закричали мужики. – Счастливо оставаться!
– Идите с богом!
Собек пошел впереди всех. Рядом с ним – Мардула, который от избытка энергии на ходу подбрасывал вверх чупагу, бряцавшую кольцами.
Собек хотел позвать с собой Яносика Нендзу Литмановского и послал к нему Кшися с Мардулой. Они пришли к нему в прекрасный жаркий полдень.
– Ишь, ишь где лежит! – указал Кшись Мардуле на Яносика, лежавшего под кленом. Они смотрели на него с восхищением, хотя давно его знали, и восхищение Мардулы было так велико, что он даже не испытывал зависти.
Двенадцатилетний мальчик‑слуга сидел на пне позади Яносика и играл ему на гуслях.
Литмановский смотрел на отвесные склоны Красных Вершин, которые среди темных лесов казались голубыми. Белые и розоватые облачка то появлялись, то исчезали снова.
Кшись сделал серьезную и торжественную мину. Мардула шел мелкими шажками. Они подошли не замеченные со стороны лесочка, затенявшего дом с восточной стороны. Кшись снял шляпу и сказал:
– Слава господу богу нашему Иисусу Христу! Что это вы туда смотрите?
– Во веки веков! Здравствуйте! – ответил Яносик, поднимаясь с травы при виде гостей. – Смотрю, потому что, кажется, я там кое‑что вижу.
– А что?
– А вы приглядитесь хорошенько. Страсть как у нас в Полянах дети с чего‑то мрут. У сестры моей умерло двое, а третий тоже, того и гляди, помрет! Да вы хорошенько глядите! На вид это тучка. Вон там, за лесом, пониже вершины. Видите?
– Ну, вижу, – ответил Мардула. – Облачко.
– Облачко, как же! Вглядись‑ка в него да заслони глаза, а то солнце мешает. Это ходит в белой одежде Тихая, богиня детской смерти. На голове у нее венок из красного полевого мака, волосы повязаны окровавленным платком. Давно уже я понял, что она вокруг ходит: цветы засыхают и местами словно кто траву выжег. Это она там!
– Ну? – воскликнул Мардула. Он и боялся и не верил.
– Она и есть, – подтвердил Кшись. Он, во‑первых, верил во все сверхъестественное, а во‑вторых, если это говорил сам Яносик, значит, так и должно было быть.
– Так, значит, видите, – сказал Литмановский. – Она уже давно там мелькает. Верно, ждет Каню, которая приманивает детей, ускользнувших от Тихой, хватает их и уносит на облаке.
– Какая же она? – спросил мальчик, державший гусли.
– У Тихой лицо черное, глаза навыкате, как у совы, и холодные, как лед. Воздух вокруг нее – как в могиле: холодный, сырой и затхлый. Белая на ней одежда вроде плаща, покрытая плесенью, а в руке она держит черную ветку. И как встретит ребенка, тотчас дотронется до него веткой – и ребенок умирает.
– Посинеет весь, словно задушенный, – сказал Кшись. – Я это видел. Будет тому уже лет тридцать.
– Да. А тех детей, которые убегут от нее, преследует страшная богиня несчастия, Каня. Встретит она ребенка – и обернется его матерью, поманит к себе. Дети глупы, – ну и идут. А она сажает их на облако, садится с ними сама и летит.
– Куда? – спросил мальчик.
– А кто ее знает? Тихая служит Смерти, Мажанне, а Каня помогает Тихой.
– Еще слыхивал я от старых людей о Смертнице и о Чуме, – сказал Кшись.
– Ну, эти больше старых людей берут, – сказал Яносик. – Мне про них Саблик рассказывал. Обе они тут были, когда татары в Косцелицкой долине дрались с поляками.
– Чума всего хуже, – сказал Мардула.
– Всех тогда Черный бог и Дьявол выпустили из ада. Летела Смерть, свистела крыльями и мужиков с бабами побивала, а за нею с косами шла Моровая Язва и Чума.
– Да. Тут одна Чума ничего не поделала бы, – сказал Мардула.
– Много им было тогда работы, – заметил Кшись.
– Еще бы! Саблику прадед говорил, что люди падали, как мухи.
– Как тут не свалиться, коли этакая до тебя пальцем дотронется? – сказал Кшись.
– Видите ее, Тихую? Вон она, наверху: выйдет из леса – и снова спрячется. Я на нее смотрю с самого утра. Ждет под скалами Каню, – говорил Литмановский.
– Ждет, – убежденно подтвердил Кшись.
– Говорят, умирает Смерть Мажанна первого апреля, когда топят в воде соломенное чучело и поют: «Ходит Смерть дозором от избы к избе…» – сказал мальчик, державший гусли.








