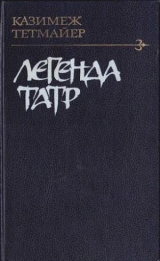
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Казимеж Тетмайер Легенда Татр

Казимеж ТетмайерЛегенда Татр


Перевод с польского В. ХОДАСЕВИЧА
Часть перваяМарина из Грубого



Внизу, под горой, Марина увидела Черное озеро. В сумраке окутавшего его тумана ветер колыхал его мрачные воды. Глухо рокотали волны, ударяясь о прибрежные скалы. Чем‑то невыразимо грустным веяло из глубины. Стоя на крутом склоне под Косцельцем, Марина смотрела на это озеро, о котором слышала с детства. С кнутом в руке, в платке, посеревшем от дождя, она глядела вниз, под скалу, подавшись грудью вперед. Ее сапфировые, лучистые глаза не отрывались от темной поверхности воды и, казалось, вбирали мрак ее в себя. Душа девушки‑ребенка волновалась, как эта вода под слабыми порывами ветра. Впервые пришла она в горы пасти стадо и впервые увидела это озеро, название которого не сходило с уст в Грубом. Но истинное имя этой воды было Ужас.
Понемногу туман закрыл озеро и окутал Марину; ветер утих. Непреодолимое чувство одиночества, безграничной оторванности от мира охватило девушку, она остро ощутила над собой громоздившиеся друг над другом скользкие, обрывистые, доходящие до неба скалы, под собой – воду, тонувшую во мгле, вокруг – бездонный мрак. Она почувствовала себя словно в безбрежной пустоте, и в ней самой все утихло, замерло. В душу властно вошла такая минута, о которой знаешь, что ее никогда не забыть. Марина оперлась на кнут и склонила голову. Она словно забылась в сумраке. Из‑за утеса, хлопая крыльями, поднялась какая‑то птица и полетела вниз, в пропасть…
Все уже кипело, хотя не вспыхнул еще огонь. Хмельницкий готовился к решительному походу против короля и Речи Посполитой. В то время как Ян Казимир [1] разослал грамоты, призывавшие всех подниматься против казаков, тысячи людей, посланных Хмельницким, спешили в далекие польские земли: к Познани, Кракову, в западные воеводства. Они должны были поднять крестьянское восстание, как только шляхта выступит в поход.
Все были охвачены страхом. Хмельницкий собирал огромную армию. Против королевских войск он выставлял более трехсот пятидесяти тысяч казаков, крестьян и татар [2].
Хмельницкий далеко метил: он собирался разгромить всю шляхетскую Речь Посполитую, вызвать повсеместное восстание польского народа, облегчить Ракоци[3] занятие Кракова и раз навсегда сокрушить шляхту.
Был пущен и распространен слух, будто шляхта восстает против короля, будто она хочет перебить всех крестьян, а казаки идут на помощь королю и на защиту крестьянства. Мужики, истерзанные жестокими притеснениями и вымогательствами панов, склонны были доверять подобным слухам, и в деревнях началось брожение. В разных местах вспыхнули пожары, крестьяне уходили в лес на тайные совещания, становились более дерзкими и смелее давали отпор шляхтичам и их слугам.
Под Татрами, в Бескидах, народ исстари привык искать выхода в грабежах, разбое и бунтах. Повсюду на Карпатах, с запада до востока, вдоль венгерских границ, действовали все новые и новые банды грабителей.
В сравнительно небольшом горном округе Краковского воеводства происходило больше разбоев и нападений, нежели во всей остальной Речи Посполитой, а быт горцев подобен был быту запорожцев.
В горах крестьяне пользовались такою же свободой, как на Украине казаки, а молодежь уходила разбойничать по обоим склонам хребта так же, как казаки из Сечи отправлялись в свои походы. В те времена горцы были озлоблены. Между шляхетской усадьбой и монастырскими и королевскими имениями тридцать лет уже шел спор о плате за пастбища, на которые у одних крестьян с давних пор были льготные права и дарственные записи, у других же таковых не было. Спор был запутанный, и права часто нарушались насильственно. Кроме того, Любомирские, охочие до титулов и поместий, стыдившиеся уже того, что вотчина их – только маленький Любомир, и называвшие себя графами Висничскими и Ярославскими (Вацлав Сренява Потоцкий, «Хотинская война»[4]), начали для увеличения доходов отдавать на откуп евреям подати, оброки и корчмы. Они запрещали винокурение и шинкарство вопреки закону, по которому сельские старосты и крестьянские общины имели право содержать в Краковском воеводстве собственные корчмы и винокурни. Примеру новоявленных магнатов следовала вся местная шляхта. Обозленные мужики жаждали дать им должный отпор и отомстить. Собирались банды по нескольку десятков людей, нападали на усадьбы; таким образом, почва для повсеместного восстания была подготовлена.
В тревоге покидала шляхта свои усадьбы и поместья на Подгорье и стягивалась под Сокаль, в королевский лагерь. Жалкие, почти несуществующие, а то и просто мифические гарнизоны в городах и местечках должны были охранять мирное население Польши во время войны. Эти гарнизоны и частная охрана светских и духовных магнатов, которую не двинули против Хмельницкого, представляли собою ничтожную защиту и далеко не гарантировали безопасности. Больше всего успокаивала шляхту, покидавшую родные гнезда, надежда на то, что мужики не отважатся ни на что серьезное, а также убеждение, что всеобщее крестьянское восстание было бы возможно только под предводительством одного человека – и не из мужиков. Пренебрежительно, но не без тайной тревоги, они уверяли себя, что такого вожака не найдется. Не допускали возможности появления какого‑нибудь второго Хмельницкого, когда один уже есть и столько лет изводит их войною и не дает спокойно вздохнуть!
С злобным высокомерием взирали из своих замков на все происходившее малопольские паны: те, которые по старости или болезни не отправились в поход по зову короля, и доверенные панов, управлявшие их поместьями; да и королевские чиновники смотрели на крестьянское движение с подчеркнутым презрением. Чорштынский староста[5], королевский спальник Платенберг, оставив в замке арендаторов‑евреев, уехал воевать в финифтяных латах.
Шимек Бзовский, он же Александр Леон Костка, с печалью на сердце возвращался из Кракова, где накупил новых одежд, в Сиворог, замок Иоахима Гербурта, владельца ста деревень, у которого он в ту пору гостил. Начиная от Могилян, он на каждой остановке только и слышал о поджогах и грабежах, кое‑где и об убийствах, и по дороге встречались подозрительные шайки мужиков.
Но его шведская одежда, бородка, подстриженная по‑шведски, и коляска, нанятая, по‑видимому, в Кракове, заставляли крестьян думать, что едет чужеземец, которому нечего бояться нападения: рядом с его возницей не было слуги, без которого ни один даже мелкий шляхтич никогда не выезжал из дому. Поэтому на него не обращали внимания.
А он строил широкие планы.
Жениться на Беате, единственной дочери Гербурта, стать обладателем ста деревень, раздавить своего соперника, сына воеводы Сенявского! А потом?.. Король Ян Казимир бездетен, после его смерти польская линия Вазов должна пресечься – и лишь он один останется в Польше, как плоть от плоти, кость от кости короля Владислава IV, единственный внук Сигизмунда III, родоначальника династии…[6] И хоть родила его простая шляхтянка, Текля Бзовская, – по отцу он один во всей Польше происходит из королевского рода… Эх, если бы свершить великий подвиг, какой‑нибудь славный подвиг!..
При шведском дворе известно было, кто он, так как в 1648 году он ездил туда с письмами короля Владислава, призывавшего к войне с турками,[7] – и его принимали с надлежащими почестями; знал его как королевского сына и князь семиградский, Ракоци, у которого он жил после смерти отца; знал о нем и Хмельницкий. Веря в свою ловкость, смелость, умение привлекать сердца, он надеялся найти друзей. Будучи с детства воспитан в магнатской семье Костков и пожив при дворе в качестве пажа королевы Цецилии Ренаты, он знал, что манерами и великосветской учтивостью превзойдет многих вельмож и, когда понадобится, сумеет высоко держать голову и повелевать.
Он понимал также, что король‑отец думал о его будущем, когда его – несомненно, по воле короля – отдали на воспитание Косткам, имя которых он унаследовал, когда впоследствии взяли его оттуда в покои королевы и, наконец, когда в качестве королевского посла в Швеции он получил право сноситься со всеми христианскими государями и князьями. У короля Владислава IV был только один сын Сигизмунд, и тот умер. Он, Александр Костка, теперь единственный сын и наследник короля…
От брака его дяди, Яна Казимира, со вдовствующей королевой трудно было уже ждать потомства. Но польские вельможи не допустят на трон незаконнорожденного, хотя бы и королевского сына. Не допустит его и шляхта, темная, глупая, подслуживающаяся к вельможам… А! Сломить и тех и других!..
Гордость распирала грудь Костки, жажда возвыситься не давала вздохнуть. Сломить, растоптать недругов, блеснуть каким‑нибудь великим военным подвигом – и открыть миру свое имя!..
Под королевские знамена он становиться не хотел: не хотел служить дяде, который его не знал, который сидел на троне его отца. Он не хотел служить и повиноваться, потому что чувствовал себя рожденным властвовать и повелевать.
Он безмерно завидовал польским панам. Эти магнаты, как, например, Богуслав Радзивилл, который даже инкогнито ездил всегда со свитой на тысяче лошадей; эти старинные, гордые роды Зборовских, Ходкевичей, Конецпольских, Тарновских; Вишневецкие, Збаражские, Заславские; кичившиеся княжеским происхождением Любомирские; Потоцкие, высоко вознесенные королевскими милостями, захватившие чины, власть и богатые поместья, – при мысли о них у него глаза наливались кровью.
И вместе с честолюбивыми мечтами, ущемленным самолюбием, завистью кипела в его сердце любовь к Беате Гербурт.
В ее чувстве он был уверен, но и здесь на дороге у него стоял шляхтич, польский пан, потомок человека, чье имя стояло под Люблинской унией[8], сын древнего, могущественного, славного рода: Ян Сенявский, сын краковского воеводы.
Поляк, коренной лях, он сам происходил по матери из рода Гербуртов. В жилах его текла кровь всех польских королей.
Он был богат, как король, силен, как гетман, горд, как удельный князь, и красив, как славянский божок.
Малорослый, невзрачный, в обтянутых шведских штанах, иной раз даже искусно заплатанных, сын короля Владислава перед этим молодым дубком в наряде, сверкавшем золотом и драгоценными каменьями, чувствовал себя карликом и жалким нищим.
Костка кусал губы под тонкими черными усиками и вертел в беспокойных пальцах колечко из волос панны Беаты, подаренное ему как залог любви.
Нося фамилию Костка, он был представителем рода менее богатого, менее могущественного, чем род Сенявских. Однако ж род этот вел свое происхождение от каштеляна, который подписался под тою же унией в царствование Сигизмунда Августа. Кроме того, в роду их был святой, и в этом видели благословение божие над домом Костков. Старик Гербурт, человек набожный свыше всякой меры, принимал его с почестями, как родственника святых, и, несомненно, не стал бы противиться браку своей дочери с Косткой.
Вскоре все должно было решиться. Сенявскому на охоте медведь перебил руку пониже локтя, и поэтому он, послав королю под Сокаль шестьсот гусаров и тысячу человек пехоты, снаряженных за его счет, сам остался дома и приехал в Сиворог как родственник Гербуртов по матери и претендент на руку Беаты.
За него хлопотала тетка панны, жена каштеляна, князя Дмитрия Корецкого, заменившая Беате умершую мать. Это была женщина гордая и презиравшая бедных, хотя бы они были родственниками не то что святого Станислава Костки, а даже самого апостола Петра.
Когда Костка в новой одежде приехал в замок Гербурта, он заметил, что без него дело сильно подвинулось вперед. Княгиня напоминанием о его сопернике, Костке, напугала Сенявского, который хотел отложить сватовство до счастливого окончания войны с казаками, – и тот объяснился Беате в любви, собираясь в тот же день просить у Гербурта руки его дочери.
Услыхав об этом, Костка сжал кулаки и, едва стряхнув с себя дорожную пыль, умылся и отправился к панне Беате.
Солнце уже садилось. Сад замка, полный редкостных цветов и вековых деревьев, источал жаркое благоухание.
У пруда Костка встретил погруженную в раздумье Беату.
Прелестное лицо восемнадцатилетней девушки обрамлял красиво сплетенный ею венок из полевых цветов.
– Правда ли это? – воскликнул Костка, чуть не забыв поздороваться. – Правда ли это?
– Что правда? – спросила Беата.
– То, что я слышал, будто Сенявский нынче же вечером собирается просить вашей руки?
– Может просить, – это никому не возбраняется.
– А я?
– Вы тоже можете просить.
– Но каков же будет ваш ответ?
Дочь воеводы слабо усмехнулась и подняла к небу голубые глаза.
– Звезд еще нет. Они знают.
– Так надо достать их с неба, чтобы сказали!
– Достаньте. И это можно.
– Панна Беата! – почти вскрикнул Костка. – Вы дали мне залог своего расположения! У меня есть кольцо из ваших волос…
– Звезд еще нет, – с улыбкой ответила Беата. – Вечер еще не настал.
И она направилась к замку по дубовой аллее, а Костка пошел за нею, пылая таким огнем, что еле удерживал жадно стремившиеся к ней уста и руки. С минуту они шли молча, переходя из аллеи в аллею. Но вот в синеве неба зажглась первая звезда, еще бледная, но ясная.
– Звезды взошли, – шепнул Костка, наклоняясь к Беате.
Она повернула голову и подарила его невыразимо нежной улыбкою губ и глаз.
– У кого есть вера и надежда… – говорил Костка, чувствуя, что теряет голову.
– Тот может завоевать и любовь, – докончила Беата незнакомым Костке, дрожащим от волнения голосом.
– Как мне понять это? – шепотом спросил Костка. Страсть сжимала ему горло.
– Как сердце подскажет.
Тогда он преградил ей дорогу, стал на колени и схватил край ее жупана, отороченного горностаем; а она сперва отвернула лицо, как бы стыдясь, потом круто повернулась к Костке, побежденная охватившим ее чувством.
Костка схватил ее за обе руки – она не отняла их; привлек ее к себе – она наклонилась; и, стоя на коленях, он обнял ее выше талии, прижался к ней грудью и губами впился в ее губы. Беата хотела вырваться, но ею овладело бессилие.
Тогда Костка встал и, держа ее в объятьях, стал без памяти целовать ее лицо, глаза, губы, по‑летнему обнаженную шею.
Много уже звезд горело в небе, когда они пришли в себя.
Торопливо поправив платье, девушка, как вспугнутая серна, быстро пошла к замку; Костка шел рядом, положив руку на рукоять шпаги, которую носил по шведскому обычаю. Счастье сделало его молчаливым.
Подошли к замку.
В обширной прихожей, выходившей в сад, стояли воевода Гербурт, княгиня Корецкая, Сенявский и его друг и придворный Михал Гоздава Сульницкий, человек необычайной силы, первый рубака в Малой Польше, с лицом надменным и суровым. У него не было ни гроша, и он жил милостями Сенявского. Он и воспитывался вместе с ним в качестве не то слуги, не то товарища.
Оба они были разодеты в пух и прах. Наряд Сенявского поражал своей роскошью.
На нем был синий бархатный кунтуш с бриллиантовыми пуговицами, из которых каждая стоила целого еврейского городка, под кунтушом – жупан из голубого атласа с поясом изумительной работы: он так переливался при свете зажженных уже канделябр, что казалось, будто Сенявский опоясался радугой. Ко всему этому – пунцовые шаровары и сапоги из блестящего желтого сафьяна на золотых каблуках. На боку – знаменитая фамильная сабля Сенявских в золотых ножнах; на рукоять ее был надет соболий чехол, украшенный хохолком белой цапли, с пряжкой из рубинов, смарагдов, алмазов, сапфиров и желтых топазов. Левая рука, сломанная медведем, висела на черной перевязи.
Сульницкий, хотя он был только придворным, сверкал почти таким же изобилием золота и драгоценных камней, – чтобы люди видели, как богат его господин, который не только сам может наряжаться, как королевич, но и придворного своего может одеть роскошнее иного вельможи.
Сульницкий только что закончил свою декларацию, от имени Сенявского прося руки Беаты, когда вошла она сама вместе с Косткой. Услышав последние слова его речи и догадавшись по ним и по всему окружающему, в чем дело, Беата обратилась прямо к Сенявскому и, любезно склонив голову, сказала:
– Великая честь для меня в том, что, как я догадываюсь, потомок столь знаменитых предков и сам не менее знаменитый рыцарь, которого назвать своим мужем почли бы за честь самые знатные панны Польши, пожелал избрать меня. Мне, право, очень жаль, что чувства его в настоящую минуту не находят во мне отклика.
– Почему? – спросила княгиня Корецкая.
– Потому что сердце свое я уже отдала другому.
Радостью озарилось лицо воеводы, но Сенявский при этих словах Беаты подбоченился, и в глазах его сверкнул огонь.
– Кому же это, если можно узнать? – спросила княгиня Корецкая.
– Пану Александру Костке, стоящему перед вами, – ответила Беата.
Прежде чем кто‑нибудь отозвался, поспешил заговорить воевода.
– Умею и я ценить, – сказал он, – ту честь, которую пан Сенявский оказывает моему дому. Нет, кажется, во всей Речи Посполитой такого знатного рода, с которым Гербурты не состояли бы в родстве. Сам пан Сенявский по матери происходит от Гербуртов. Мы, Гербурты, обладаем правами на чешскую корону, а в семьях наших жен были булавы, канцлерские печати и епископские митры. Однако же с родом, который по милости божьей удостоился величайшей чести на земле – дать миру святого, господь до сей поры не привел нам породниться. И так как достаточно у нас богатств и почестей, то я почитаю за явное свидетельство божьего милосердия то, что с нашей кровью смешается кровь, которая текла в жилах святого.
Тут Сенявский высоко поднял голову и ответил:
– Больше мне здесь нечего делать, раз меня равно отвергает сердце дочери и воля отца. Однако панна Беата слишком мила моему сердцу, слишком глубоко чту я вельможного пана воеводу и слишком глубоко уважаю славный род Гербуртов, чтобы промолчать о том, что мне известно. Но так как даже и в правом деле, в деле чести не унизятся уста Сенявского до доноса, то прочитай‑ка, Сульницкий, письмо, которым на запрос твой ответил каштелян Януш Костка из Дембин.
Костка вздрогнул, ужаленный недобрым предчувствием, а Сульницкий, вынув из‑за пазухи большой лист бумаги, начал читать:
– «Вельможному пану Михалу Сульницкому, приближенному воеводича Сенявского.
Вельможный пан! Вы пишете мне, что встревожены некоторыми подозрениями, и спрашиваете ответа относительно интересующей вас особы. Спешу ответить вам нижеследующее.
Я искренне чту любовь вашу к правде и ненависть к самозванцам, а потому уведомляю, что человек, именующий себя Александром Леоном Косткой из Штемберка, к роду нашему не принадлежит. Двадцать с лишним лет тому назад к дяде моему, Рафалу Костке, каштеляну белзскому, другу покойного короля Владислава, гайдук привез богато одетого мальчика, едва умевшего говорить, и оставил его у дяди вместе с порученным ему письмом. Семья была бездетная, и ребенка воспитывали, как своего. Когда мальчик подрос, за ним прислали, и что с ним было после того, я не знаю. Из нашего рода он не происходит, хотя и выдает себя за Костку. Это я твердо знаю, ручаюсь в том споим словом и даже, если бы это понадобилось для какого‑либо важного дела, готов подтвердить клятвой.
Желаю здравия вельможному пану.
Януш Костка из Дембин, каштелян серадский».
Если бы грянул гром из ясного неба, он не произвел бы большего впечатления.
Воевода вырвал письмо из рук Сульницкого, еще раз прочел его и в сильном замешательстве сказал:
– Действительно! Точка в точку! – Так он всегда говорил, когда бывал чем‑нибудь взволнован. – Рука каштеляна! Я ее знаю, как свою собственную. Так кто же вы, милостивый государь? – обратился он к Костке.
Тот стоял бледный как полотно.
– Кто вы? – порывисто спросила княгиня Корецкая.
Костка не отвечал. Вместо него заговорил Сенявский:
– Как я уже сказал, мне здесь больше нечего делать. Но, кажется, я поступил неплохо, разрешив своему другу обратиться с запросом к пану Янушу. Это наилучший источник, потому что каштеляна Рафала и жены его нет уже в живых. Друг мой был взволнован подозрениями. Он глубоко мне предан и не менее меня заботится о чести Гербуртов. Но что бы из всего этого ни вышло, мне остается одно: уйти отсюда.
– Погодите, пан, не уезжайте, пока дело не выяснится! – воскликнул воевода и повторил, обращаясь к Костке – Говорите же: кто вы?
Костка молчал. Он был все так же бледен и стоял, потупив глаза, как осужденный. Быть может, он так и не сказал бы ни слова, если бы Беата, сложив молитвенно руки, не воскликнула:
– Ради бога, молю вас, назовите свое имя!
Костка взглянул на нее с упреком и с невыразимой нежностью. Потом, выпрямившись так, что казался в эту минуту почти высоким, и смело глядя в глаза окружающим, сказал спокойно и гордо:
– Имя мое в книге истории записано не там, где будет записано ваше.
Не поняв значения этих слов и менее всего их ожидая, все стояли молча, переглядываясь, пока Сульницкий не сказал дерзко:
– Мы не загадки разгадывать хотим, а узнать ваше имя. Назовите его – и все тут!
Костка еще выше поднял голову и ответил:
– Я соблаговолю ответить тебе, лакей, что твой господин должен, сняв шляпу, кланяться мне до земли!
Сенявский вспыхнул и в мгновение ока выхватил саблю из золотых ножен, но стоявший рядом воевода схватил его за руку и крикнул:
– Во‑первых, я не позволю проливать кровь в моем доме; во‑вторых, вы не знаете, кто он, и не смеете на него нападать, как разбойник.
В тревоге, с глазами, полными слез, Беата снова обратилась к Костке.
– Скажите, вельможный пан, свое имя, – взмолилась она. – Не палите огнем моего сердца!
И, снова взглянув на нее, как прежде, Костка сказал громко и раздельно:
– Я сын короля Владислава.
Снова все онемели, и на этот раз молчание длилось еще дольше.
Его прервала княгиня Корецкая. Намекая на королевскую фамилию «Ваза», она сказала:
– Но, верно, не из ваз, а из кухонных горшков?
Сульницкий загоготал, рассмеялся и Сенявский. Сульницкий сказал сквозь смех:
– У моего шурина есть конюх, Владислав Король, – уж не он ли ваш отец? Он такой же, как вы, красавец!
– Лакей! – гордо ответил Костка. – Ты, как собака, которая на меня лает: обидеть не можешь, но будешь бит.
Тут воевода, стоявший как столб, неподвижно и молча, вдруг дал волю гневу.
– Довольно! – крикнул он. – Кто бы вы ни были, как вы посмели войти в мой дом под чужим именем? Прошу вас оставить его немедленно!
– Панна Беата! – обратился Костка к дочери воеводы, которая стояла, закрыв лицо руками.
Она не отозвалась, но покачала головой с видом, не предвещавшим ничего доброго.
– Беата! – сказал он еще раз.
И снова она в ответ лишь покачала головой.
– Молчи! – сказала княгиня Корецкая. – Как смеешь ты обращаться к той, которую оскорбил, опозорил своим наглым и бесстыдным обманом! Знаем мы таких королевских детей! Они родятся от гайдуков и прачек!
– Да! – закричал в свою очередь воевода. – Да! Как ты смел, приняв чужое имя, поднять глаза на мою дочь? Бродяга! Сын девки! Прочь из моего замка! Прочь!
Не отвечая на оскорбления и угрозы, Костка обернулся к Беате, но она, не открывая лица, молчала, как прежде.
Тогда его охватил гнев. Он сунул руку за пазуху и, достав ладанку с кольцом из волос панны Беаты, хотел бросить его к ее ногам, но удержался: он слишком еще любил ее и не мог так осрамить.
Она отгадала или, быть может, чутьем поняла это, потому что приоткрыла немного лицо и бросила на Костку взгляд, полный ужаса и благодарности.
– Прочь! – гремел воевода. – Ты безвестный самозванец, вор королевского имени! Прочь! От одной мысли, что ты осмелился поднять глаза на мою дочь, во мне закипает кровь! Ступай ко всем чертям, не то прикажу затравить тебя собаками!
Это было уже слишком. Не помня себя, хотя он понимал, что немедленно погибнет, Костка схватился за шпагу, но неожиданно в деревне, поблизости от замка, несмотря на неурочный час, раздался колокольный звон, и в ту же минуту вбежали, охваченные ужасом, двое придворных воеводы, Райцеж и Шибка. Они кричали, перебивая друг друга:
– Вельможный пан! Разбойники! Згожелицкий хутор горит. Чернь его грабит!
– Караул! – вскрикнула княгиня.
Воевода, забыв о Костке, раскрыл рот от изумления и страха: Згожелицы находились почти у самого замка.
– Толпа мужиков! – вопил Райцеж. – Должно быть, узнали, что наши полки ушли в королевский лагерь с паном Маковским.
– Все, кто есть в замке, к оружию! На коней! – закричал воевода, опомнившись, – Эй! Васютинский! – Он обернулся, ища глазами дворецкого.
Первым выбежал из комнаты Сульницкий. Костка, со звоном вложив шпагу в ножны, побежал за ним на конюшню и, в суматохе оседлав лучшую из верховых лошадей воеводы, потому что своей у него не было, выехал за ворота. Думали, что он спешит к Згожелицам, но в лесу, неподалеку от замка, он свернул вправо и во весь дух поскакал на большую дорогу, которая вела к Рабе.
Он еще слышал за собой крики, набат, но вскоре окружила его вечерняя тишь, и он видел только зарево пожара.
За Беату он не боялся. Слишком громким было имя воеводы, чтобы мужики, даже самые отчаянные, отважились двинуться на замок; кроме того, в замке было много людей, и семье воеводы не угрожала ни малейшая опасность. Правда, Белз и Цехановский замок мужики уже дважды поджигали, но там действовала организованная банда под предводительством Яховского, смелого и хитрого лазутчика Хмельницкого. Правда, незадолго перед тем атаман Баюс с товарищами разгромил Янушковицы; правда, убиты были паны Трояновские, Бобовницкий, Былина из Лещин, опустошены усадьбы Ольшевского в Сярах, Домарацкого – в Ропе, а знаменитые Чепец и Савка напали на Ямгруд, хорошо укрепленное поместье Менчинского; в Зындрамове они же украли семьдесят семь племенных кобыл, ограбили усадьбу Дельпачи в Глиннике, Циковского – в Жегльцах, Михаловского – в Рогах близ Ивонича, но вооруженному пушками, как крепость, замку Гербуртов такие нападения были не страшны. В Згожелицах же держали панский скот: это и соблазнило нападавших.
С пожаром в сердце, не меньшим, чем тот, который пылал впереди, в урагане гнева, жажды мести, боли и отчаяния Костка мчался по дороге. Наконец, проехав уже больше мили, он придержал коня, чтобы его не загнать.
Огромное зарево горело на небе.
Костка сдержал лошадь, обернулся, сидя в седле, протянул сжатый кулак в сторону пожара и яростно потряс им.
– Погодите, магнаты! И получше этого зажгу я огонь над вашими головами! Узнаете вы меня, сукины дети!
Он погнал коня в горы. В эту дикую, пустынную страну влекли его бешенство и гнев. Так инстинкт ведет волка, сорвавшегося с цепи. Дорогою Костка думал о Хмельницком. Хмельницкий неоднократно давал ему понять, что знает о нем и ценит его. Как бы нарочно встречали его люди, подосланные гетманом, и делали многозначительные намеки, что Богдан Хмельницкий может потребовать возвращения прав не только казакам и русским крестьянам, а и другим людям… особенно тем, кто вступит с ним в союз…
Хмельницкий…
Отец его был поселенец в Чигирине во времена старосты Даниловича, и звали его Хмель, – а сын, уже казацкий гетман, который побратался с татарским ханом, оттеснил князя Иеремию Вишневецкого за Днепр и взял в плен двух коронных гетманов. Воевода Кисель ездил к нему послом. Так, если сын суботовского хуторянина Хмеля мог наставить носить над собою малиновое знамя, – чего не сможет он, королевский сын?..
– Эх, брат, знаешь, что я тебе скажу? Тепло. То есть теплынь, я тебе скажу…
– Теплынь, это верно.
– Ветерок с востока подувает: весна.
– Весна.
– Тает.
– Тает.
– Тепло весной!
– Это вы, Ян, правильно сказали! Вы голова!
– И еще я тебе скажу, Шимек, что там, на озере, ни единой льдинки не осталось.
– Не осталось.
– Солнышко все начисто растопило.
– Еще бы!
– А на Мерзлом, под Заворотом, должно быть, еще лед есть.
– Есть.
– Куда же ему и деваться, как не в тень!
– Ясное дело!
– А в Пятиозерье Новобильские, пожалуй, уже овец выгнали.
– Пожалуй.
– А до Рыбьего, думаешь, дошли?
– Дошли. Отчего не дойти?
– И до Тихой?
– Да ведь она еще ниже.
– Наша гора у Озер самая высокая.
– Самая высокая.
– И знаешь, брат, что я тебе скажу: хороша она.
– Хороша.
– Уж что хорошо, то хорошо. Нигде такой горы нет.
– Конечно, нигде!
– Только что холодна. В других местах уже пашут, а на ней еще только‑только трава зеленеть начинает.
– И то верно.
– Нынче летом, коли будет такая теплынь стоять, мы туда пойдем.
– Вместе?
– Вместе пойдем. И скрипку ты, Шимек, с собой возьми. Потому что, как забренчит там Бырнас на кобзе да Петр Франков с внуком моим, Собеком, на дудках заиграют, – так что же ты, брат, без скрипки станешь делать? Тогда незачем тебе туда идти. Русалки бы тебя камнями забросали.
– Гм… может, и так…
– Сядем у шалаша на солнышке… Лесом из долины потянет, а сверху – соснами, можжевельником. И так вам придется играть, чтобы услышали вас пастухи на Тихой.
– Ясное дело!
– Пусть послушают, как поляки играют! Липтовцы несчастные!
– Правильно! Наши песни им поперек горла станут.
– Да‑а! Водочки сладкой попьем. С овсяным пирогом.
– Хорошо!
– На солнышке погреемся. Ведь мы старые.
– Эх! Что станешь делать!
– Шимек, тебе сколько лет будет?
– Да не, то за пятьдесят, не то за шестьдесят.
– Младенец ты еще! Мне вот на святого Флавия восемьдесят четвертый пошел! Ну, что ты против меня? Молокосос! А переплясать ты меня не сможешь.
– Где уж!
– То‑то, брат, не перепляшешь! Когда мне двадцать пять было, так раз трое пастухов из Бялки с ног свалились, а я еще и не взопрел!
– Ну‑ну!
– Да, было дело! Парень я был настоящий! Кругом всего Черного озера вровень с собаками бегал! Ну и летел же я!
– Всю дорогу до Косцельца?
– Конец порядочный!
– То‑то и есть! А только я так думаю, Ян, что, кабы не прибывала в озере вода да кабы стала она пивом, люди бы его к осени вылакали.
– Еще бы! Так бы и прилипли к нему, покамест одна тина на дне останется. Я бы сам лег и пил, покуда сил хватит.
– А сколько народу нагрянуло бы, кабы разнеслась по свету такая весть! Черно было бы от народу. Все побросали бы и не боялись бы, что их зальет.
– Шагу бы пешком не ступил, все бы на лошади ездил: нацедил бочку – вези к избе.
– Хуже всего было бы тем, которые по тюрьмам сидят. Проведал бы об этом человек, так умер бы с горя, что все без него выпьют.
– Да, Шимек! То‑то было бы пьяницам раздолье!
С ребятами пришли бы, да и баб дома не оставили бы!
– Хромой и тот бы приковылял, слепые бы ощупью дорогу нашли!
– Страсть, сколько бы от этого пьянства народу погибло! Пришлось бы епископам вмешаться, ксендзам с амвонов людей усовещивать.
– Старосты из Нового Тарга да из Чорштына прислали бы гайдуков – народ от озера гнать.
– Да! Тут бы и войско понадобилось. Рассердились бы мужики и не одного гайдука уложили бы… Ружья понадобились бы…








