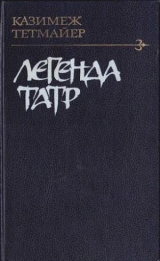
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Много хлопот и возни было со старой бабкой, которая не жила и не умирала. Она была в полном сознании: глаза ее разумно смотрели на людей. Видно было, что в ней про исходит мучительная борьба жизни и смерти, но она не могла умереть. Лежала в своей комнатке, похожая на скелет, беспомощная и неподвижная. Но глаза ее, широко раскрытые, страшные глаза полутрупа, открывались каждое утро! Она жила.
Однажды около полудня Собек, возвращаясь с чупагой в руке из лесу, где отмечал деревья, которые надлежало вырубить, увидел с удивлением большую группу людей, во главе которой шли Топоры, Железный, Лесной и Мурский со своими женами. Толпа направлялась к его дому, и многие – особенно бабы – были вооружены вилами, цепами и кнутами. Он прибавил шагу и, забежав вперед, спросил:
– Куда это вы такой толпой идете? На волков?
– К тебе, – отвечал Топор из Мура, старший в роду.
– Ко мне?
– Ну да.
– А что случилось?
– Нечисть идем выгонять из твоего дома.
– Нечисть? Из моего дома? Какую нечисть? Я ничего не знаю!
– Не знаешь, потому что испортили тебя, – сказала Топориха Железная.
– Меня испортили? Да вы что, тетка, одурели? Что вы такое говорите?
– Тетка правильно говорит, – сказал Топор из Мура. – Мы тебя пришли спасать.
– Что за черт? – крикнул Собек, потеряв терпение. – Или вы все сумасшедшие, или я рехнулся? Что такое вы говорите?
И стукнул чупагой о землю.
Тогда Топор из Мура выступил на шаг вперед и заговорил:
– Послушай, Собусь, дитя мое. Поступил в одной деревне на Ораве карла к мужику в работники. Пропадал при нем мужик, вот как ты теперь. Во всем ему не везло, коровы падали, овцы и кобылы яловые стали, баба его умерла, сам истаял, – вот как ты теперь. А тут еще мор напал на людей. Ну, собралась родня этого мужика и вся деревня – и выгнали карлу.
– Ну, так что ж? Я‑то тут при чем?
– А ты умом пораскинь! Деда убили, бабка в параличе, Марина пропала, – бог весть, жива ли еще, – сам ты похудел, извелся так, что глядеть жалко, за хозяйством не смотришь, а в деревне люди кругом от горячки помирают…
– Ну, так что ж? – тревожно прервал его Собек, словно ужаленный недобрым предчувствием.
– Мы и от тебя выгонять пришли.
– Кого?
– Панну.
– Панну?!
– Мы так порешили, что все это несчастье она в ваш дом принесла.
– Она?
– Да.
– Да вы, дядя, белены объелись или меня с ума свести хотите?
– Помни, с кем говоришь! – строго сказал Топор Железный.
– Господи боже мой! Не вводите меня в искушение, потому что, хоть вы и старше и дядя мне…
– За нами вся деревня, – сказал Топор Лесной.
– Да хоть тысяча деревень! Я здесь хозяин! Я в своем дому; и кто у меня в доме, тот мне свой! Ступайте ко всем чертям, пока я не осерчал!
– Мы тебя не боимся, – сказал Топор из Мура.
– Мы сюда по святому делу пришли. Где панна?
– Да с чего это вам взбрело в голову? С чего?
– От ума, – ответил дядя из Мура. – Не первый день на свете живем, да и бабы наши тоже. А ты молод, глуп. Ничего не смыслишь. Да еще испортили тебя.
– Чистое наказание! Заладили – порченый да порченый! Чтоб вам пусто было! Вот как брызнет кровь из‑под обуха, так узнаете, порченый я или нет.
– Помни, с кем говоришь! – снова грозно остановил его Железный.
– Да хоть бы и с вами, крестный! – загремел Собек. – Вы ее у меня не отымете! Разве только вместе с душой вырвете!
Мужики переглянулись. Переглянулись и бабы. Покивали головами.
– Ну, Собек, – сказал Топор из Мура, – где же панна?
Собек посинел, лицо его стало почти черным; обеими руками схватил он чупагу и как бешеный стал рубить вокруг себя камни, кусты можжевельника, землю. Пена выступила у него на губах, глаза остановились, он бегал и рубил сплеча, описывая чупагой страшные круги.
Люди в страхе отступали, крича:
– Бес в него вселился! Бес в него вселился!
Но двое Топоров, Железный и Лесной, и еще два мужика подобрались к Собеку, ослепленному яростью, и схватили его за руки. Трое отлетели, как от взбесившегося быка, но Железный, силач, повис на правой его руке. Подскочило еще несколько мужиков, они обезоружили Собека, повалили на траву и подмяли под себя. Тогда из горла его вырвался крик, точно из горла оленя, которого душат волки.
Крик этот услышала работавшая в погребе Беата и, в подоткнутой до колен юбке, выбежала на улицу.
– Вот она! Вот она! – завопили бабы.
– Господи, что случилось? – воскликнула Беата.
И вдруг увидела, что ее окружила толпа и наступает на нее с вилами, цепами и бичами. Вокруг раздавались дикие крики: «Вон! Убирайся отсюда! Проваливай! Удирай! Колдунья! Собака! Ведьма! Сволочь! Убирайся отсюда…»
Свистнул кнут и хлестнул ее по спине.
– Иисусе! Что это? – кричала Беата. – За что вы меня бьете? За что меня гоните?
– Вон! Вон! – ревела толпа. – Вон из деревни! Пропаливай! Убирайся! Колдунья! Ведьма!
Колотушка одного из цепов ударила ее по голове. Она схватилась за голову руками, заслоняясь от ударов.
– Камнями ее побить! – взвизгнула какая‑то баба.
Другие услышали, наклонились к земле и стали подбирать камни. Первым кинул двенадцатилетний мальчишка с засверкавшими глазами. Он попал Беате в спину.
В эту минуту сквозь толпу протиснулся древний столетний Крот; он заслонил Беату полой своей сермяги и сказал ей:
– Пойдем, дитятко! Беги, а то тебя убьют! Я с тобой! Пойдем!
Глазами испуганной птицы, полными смертельного испуга, глянула Беата на Крота и спрятала голову под старую, потертую сермягу.
Крот обнял ее и повел к лесу, а за ними шла толпа, выкрикивая бранные слова; но Беату уже не били и не швыряли в нее камнями: таково было суровое спокойствие и величие этого старика, в котором тряслась уже каждая косточка, что нападавшие оробели. Они шли сзади целой толпой, многие, особенно дети, с камнями в руках, с визгом и криками, но все уже были смущены присутствием Крота.
В конце концов толпа начала отставать, а те двое шли и шли, пока не достигли леса и не скрылись в нем.
Три Топора – Мурский, Железный и Лесной – посмотрели друг на друга.
– Глаза отвел, – сказал Железный. – Я давно это за ним примечаю.
Пока всей деревней прогоняли Беату, а Собек с посиневшим лицом лежал без сознания на траве, три Топорихи, Железная, Лесная и Мурская, вошли в дом и стали над постелью старой Топорихи.
– Умереть не может, старуха несчастная, – сказала Лесная.
– И жить тоже, – сказала Железная.
– Ни то ни другое, – сказала Мурская.
В широко раскрытых глазах старухи отразился смертельный, отчаянный ужас.
– Понимает, бедная, о чем говорим, – сказала Железная.
– Помнит, чай, как ее отец никак помереть не мог.
– А старый Глацан! Сто тридцать лет ему было, а все жил, слепой, глухой, как пень.
– Да, да! – закивала Топориха из Мура.
– И на что держать полумертвую? Воздух только портит в избе. Толку уж от нее никакого не будет.
– Никакого!
– Куда там.
– А ведь какая была хозяйка!
– А баба какая!
– А какая, должно быть, девка была! Говорят старики, что людям свет божий милее казался, когда она пасла у Озер.
– Очень может быть!
– Семь парней за нее убить друг друга хотели.
– А теперь лежит полуживая.
– Эх!
– И не на половину, а на четверть только живая.
Глаза Топорихи с невыразимой тревогой бродили по лицам стоявших над нею женщин.
– Несчастная старуха, – промолвила Лесная.
– Горемыка! – вздохнула Железная.
– Надо с ней поступить по обычаю: так же, как с нами когда‑нибудь поступят молодые, коли заживемся на свете. Ведь душить ее не станешь… – сказала Мурская.
– Да, да, надо по обычаю…
– Чего ее держать? – сказала Лесная.
– Надо Собеку в избе порядок сделать. Кабы стариков в лес не вывозили, молодым бы тесно было. Так уж повелось на свете.
– Так, так…
– Может, там скорее помрет…
– Или дикий зверь найдет ее. Зачем ей долго мучиться?
– Да, да! Так уж свет устроен.
– Испокон веков старики говорили: если с кем смерть вовремя справиться не может, ей надо помочь. Берись, кумушка, – сказала Топориха из Мура.
– Постели жалко.
– Да там на дворе доски есть. Нечего и телегу закладывать, – лес близко.
– Полежи еще здесь, горемычная, полежи пока что.
Глаза старухи полны были страшного отчаяния.
Три Топорихи взяли со двора несколько досок, отыскали гвозди и топор, сколотили носилки и вернулись в комнату.
– Ну, пойдем! – сказала Лесная.
Каменная покорность судьбе светилась в глазах полумертвой старухи.
Топорихи подняли ее неподвижное тело с постели, вынесли из избы, положили на доски. Они стояли во дворе, между жилым домом, стойлами и хлевом, держа Топориху на носилках.
– Ну, погляди еще раз на свое хозяйство, несчастная, – сказала Железная.
– В последний!..
В этот миг в стойле протяжно и грустно замычала корова.
Дрожь исказила неподвижное, окостенелое лицо старухи, и что‑то похожее на слезы заблестело в углах ее сухих глаз.
– Вишь, плачет, – сказала Мурская. – Слезы в глазах.
– Коров ей жалко…
– И коровы ее жалеют.
Топориха Железная утерла слезы рукавом рубахи; по увядшему, изрезанному морщинами лицу Топорихи из Мура струйками потекли слезы.
– Ну, пойдемте, – печально вздыхая, сказала Лесная.
В воротах встретили Собека; он шел с почерневшимлицом, шатаясь и опираясь на чупагу.
– Бабка никак помереть не может. Хотим у тебя в избе полный порядок сделать.
– Надо тебе жениться, – сказала Топориха из Мура.
– Верно, – подтвердила Лесная.
– Мы тебе все сделаем. Хоть полагается это детям или внукам делать, сами они отцов да дедов в лес вывозят, – да ты стал какой‑то хворый: хотим тебя выручить.
Собек посмотрел на бабку бессознательно, блуждающим взглядом.
– Ладно, – сказал он, думая о другом.
Три Топорихи, неся старуху на носилках, вышли на улицу; там никого не было: все пошли за Беатой. Перед избами стояли только три Топора. Поглядели и даже ничего не спросили: они это видели не раз.
– Порядок делаем у Собека, – сказала Лесная. – Марины нет, дьявола этого мы выгнали, теперь надо Собеку жениться.
Три Топора в знак одобрения молча кивнули головами.
А женщины той самой дорогой, которой гоняли от Топоров овец к Озерам, подошли к лесу и углубились в чащу.
– Где же мы ее оставим? – спросила Железная.
– У Плазова погреба, – отвечала Топориха из Мура.
Они отнесли свою ношу подальше и положили ее на мох.
– Здесь тебя смерть прикончит, – сказала Лесная.
– Ангелы и здесь тебя найдут, коли ты не грешница, – добавила Железная.
– Оставайся с богом! – сказала Мурская.
С минуту они глядели на старуху; спокойная, каменная покорность мертвым огнем светилась в глазах старой гуральки.
– Доски‑то возьмем? – спросила Лесная.
– Да ведь это не телега, – ответила Мурская.
– А все‑таки жалко, – сказала Железная. – Доски хорошие.
– Ясень…
– На мху ей еще лучше будет…
– Легче помереть.
– Да.
– Доски эти можно Собеку и не отдавать. У него их довольно.
– Возьмем себе каждая по одной.
– Ладно.
– Дома пригодится…
– Еще бы! Конечно, пригодится…
– Не все ли равно этой горемычной, на чем лежать?
– Да хоть бы и обидно ей было, – не скажет…
– Где уж!..
Они сняли неподвижное тело старухи с носилок и положили на мох.
– Ну, лежи себе здесь, лежи, – сказала Железная.
Потом разломали носилки, взяли каждая по доске под мышку и пошли в деревню.
После некоторого молчания Лесная сказала:
– Конца нет этому лесу…
– Верно. Страсть какой большой.
– И дремучий. Может, в нем сейчас не один такой старый человек лежит…
– А то и бродит… Когда Косля отца своего, Петра, в лес отвез, Петр еще хорошо ходил…
– Да, не мог Косля дождаться, когда помрет отец… Отчаянный мужик, злой, как собака…
– Мне Каська Мровцова как‑то рассказывала, что кости старого Михала Мровца, деда ее мужа, пастухи весной нашли где‑то под Кошистой. В этакую даль зашел! А Мацек, сын, отвез его в лес перед рождеством.
– Силы еще были, ну и шел, а домой возвращаться нечего было.
– Знаете, – сказала Лесная, – если так подумать, страшный же этот лес… Сколько таких в нем: одни полумертвые лежат, другие еще ходят… А кто и на четвереньках и на животе ползет…
– Вот, вот… Словно ящерицы…
– И стонут‑то и вздыхают…
– Не дай бог зажиться на свете!..
– Подумать страшно! – говорила Лесная. – Лес глухой, идешь это по нему, – а тут вздохнет кто‑то под кустами.
– Либо застонет.
– Ой, господи! Я бы со страху обомлела.
– Либо из темноты на карачках выползет прямо тебе под ноги.
– Глаза на тебя вытаращит…
– Из‑за зубов‑то, коли еще целы, язык вывалится…
– Поперек дороги ляжет да глянет снизу…
– Я бы так без памяти и грохнулась, – сказала Лесная.
– Я бы убежала, – сказала Железная.
– Я бы его ногой отпихнула: будь что будет! – сказала Мурская.
– Подумать страшно: этакий лес…
– Страшно…
Они вернулись к Собеку; три Топора сидели на земле перед домом.
– Где ж Собек? – спросила Железная.
– В избе, – ответил ее муж.
– Ну, пойдемте к нему.
Мужики поднялись и вместе с женами вошли в сени; Собек лежал на постели в курной избе.
– Собек, – сказал Топор из Мура, – я тут старший, и вот что я тебе скажу: остался ты один, добра у тебя довольно, – надо тебе жениться.
– Да на ком? – заметил Лесной.
– Девок на свете довольно. И после Лентовского дочка осталась, Ганка, девка хорошая и богатая.
– Есть у Станислава Новобильского две дочки. Золотые девки, – сказала Топориха из Мура.
– А под Копой, у Шимця Татара – Марыся, – сказала Лесная.
– Девок на свете довольно. Захочет – сам выберет, а захочет на нас положиться – мы ему выберем. Дело нетрудное…
В эту минуту услышали Топоры гнусавый голос Кшися, который пел:
Коли пить что – так уж водку.
Коль облапить – так красотку.
– Кшись из Ольчи, – сказал Топор Железный.
– Выпил, кажись.
Действительно, подвыпивший Кшись появился в дверях на своих коротких, кривых ногах, в шапке набекрень, с залихватским видом.
Прищурив глаза, он заглядывал в сени, а Топор из Мура заметил:
– Да, выпил, видно: ишь как пыжится!
– Есть здесь кто? – важно спросил Кшись, не здороваясь.
– Есть, – отвечали ему.
– Собек?
– Есть и Собек.
– Есть? А где он?
– Здесь. На постели.
– Ну, так пускай встанет! Яносик Нендза Литмановский на панов идет!
– Что? Что?
– А вот то, что слышите! Я с ним иду, захвачу только скрипку.
– Куда идет? Зачем?
– На панов! Народ защищать!
– Нендза? Разбойничий гетман?
– Он самый.
Собек сел на постели, потом вскочил, схватил чупагу и с непокрытой головой выбежал в сени, толкнув в дверях Кшися так, что тот покачнулся.
– Шапку возьми, пистолеты! – кричали ему вслед Топоры.
Но он выскочил на двор, влетел в конюшню, вывел за узду лошадь, вскочил на нее и помчался во весь опор.
– Пропадет! – сказал Топор из Мура, глядя ему вслед.
– Жалко его, – сказал Топор Лесной.
– Марины нет, Собек куда‑то убежал без памяти, пропадет, наверно, – надо его хозяйство делить, – поспешно сказала Топориха Железная.
Но Топор из Мура сурово взглянул на нее.
– О Собеке рано загадывать, а о Марине ничего не известно. Покуда я жив, никто здесь ни одного горшка не тронет!
Жадная Топориха умолкла.
– Расскажите же, Кшись, что и как, – торопил Лесной.
Но Кшись, который, возвращаясь от Нендзы, заходил по дороге в каждую корчму, поглядел на него с невыразимым презрением и ответил:
– Коли тебе так любопытно, – беги туда!
– Да куда?
– К Яносику. Там нынче ночью сбор.
– Нынче?!
– Я иду за скрипкой и за Мардулой, – объявил Кшись и вышел, покачиваясь на коротких ногах. Завернув за дом, он тотчас затянул в нос:
Как пойдем мы по долине –
Девки выбегут глядеть…
А древний, столетний Крот вел Беату Гербурт дремучим лесом к Спижу, бормоча ей:
– Как выйдем на дорогу, надо сломать две крепких дубины: от волков ли, от злого ли человека, от собак. Ты на людей не дивись, что они тебя прогнали. Люди глупы. Чудо господне, если когда сыщется среди них умный. А я тебя не брошу, потому что не для того горячим молоком отпаивал, чтобы дать тебе пропасть. Я потихоньку шел за людьми. Не знал, куда идут, зачем. Так плелся, потому что стар. Да вот в нужную минуту и пришел. Бабы эти, может, тебя камнями побили бы. А за что? Ведьмы окаянные! Мне тут ничего не жаль. Избенка моя – словно конура собачья. Только вот когда по весне в горы пойдут, – жалко мне станет. Ох, будет мне скучно без овец! Ох, будет…
– Добрый вы, дедушка! – прошептала Беата.
– Э, дитятко, – отвечал Крот, – семьдесят лет уже никто со мной таким голосом не говорил… А где ж твои отец с матерью? Выйдем из лесу, станем расспрашивать. Я тебя отведу. Может, мне там овец дадут пасти. Сюда я уж не вернусь. Камнями тебя побить хотели, сукины дети! За что? Но весной без овец скучно мне будет! Ой, скучно! Я их в горах восемьдесят лет пас.
Кшись не знал о том, что случилось у Топоров. Он шел в другую сторону звать удалого храбреца Мардулу к Яносику Нендзе. Мардулу застал он сидящим на пороге избы, где он жил со старухой матерью, у которой был незаконным сыном.
Мардула был мрачен; у него были две пары штанов: одни новые, другие старые. Но случилось так, что, когда он пропил в корчмах все деньги, следом за деньгами пошли и новые штаны.
Кшись дорогою напился воды из речки и тем в значительной степени восстановил свое умственное равновесие. Он заметил Мардулину мрачность и осторожно спросил:
– О чем ты так задумался?
– Да вот хочется мне на крестины сходить.
– Это у кого? – с любопытством спросил Кшись.
– У Войдилы.
– А чем господь наградил? Мальчик или девочка?
– Ребенка нет.
Кшись удивился.
– Как так?
– Мертвый родился. Да крестины‑то будут, потому что все было приготовлено.
– Правильно, – сказал Кшись, – кто ж его знал, какой он родится? Никто у него не спрашивал. Водка есть?
– И пиво и вино, все. Войдила – богач!
– Звали тебя?
– Как же! И они звали, и вчера вечером прибегала Кларка Уступская, просила, чтобы я пришел! Да и дочки Войдиловы, Марця и Мильця, страсть как просили. Кто ж там плясать будет, коли я не приду?
И Мардула принял гордый вид.
– Ну, так и сбегай ненадолго, – сказал Кшись, – Чего ж не идешь?
– Да как же я пойду? В таких портках идти не годится.
И, вытянув перед Кшисем длинные ноги, он с грустью поглядел на свои заплатанные штаны.
Кшись подумал и сказал:
– Знаешь что? Есть у меня новые портки, немножко они мне длинны, да и широки, а тебе будут как раз. Беги но весь дух к Бырке, – они там на жерди висят в горнице, – да захвати кстати мою скрипку. Не звали меня на эти крестины, – ну, да со скрипкой примут.
– Идет! – крикнул Мардула и, свистнув собаке, пустился по своему обыкновению бегом, – собака впереди, он за ней, не отставая ни на шаг: казалось, что он ее за хвост держит.
– Ишь, словно за ксендзом бежит, – проворчал Кшись, занимая место Мардулы на пороге. – На одну минутку зайдем на крестины, а оттуда напрямик к Нендзе.
Старая мать Мардулы услышала чье‑то бормотанье и вышла из избы в сени.
– Это вы, зять? – спросила она радостно.
– Я! Как живете?
– Да помаленьку. А где же Франек?
– Ко мне побежал, за портками. Для крестин. Поплясать охота ему.
– Вот хорошо, что вы пришли! Дадите ему свои портки? Он страх как горевал, что не в чем идти.
– Только с этих крестин он уже домой не вернется.
– А куда же пойдете‑то?
Кшись принялся рассказывать, а та, выслушав его, сказала:
– Это хорошо. Может, там Франек с Нендзой свяжется и станет порядочным, настоящим разбойником, как другие. Я и сама знаю, что из него мог бы выйти вор редкостный, кабы не девки! Я ему всегда говорю: Франек, брось, посиди ты на месте! С девками этими ничего не заработаешь, а еще свое потеряешь! Мог бы ты быть разбойником, как Новобильский из Бялки либо Матея из Полян, – а ты что? Из разбойничьего ты рода, для этого дела годишься, но кто хочет разбоем богатство нажить, тот не должен о глупостях да о любовницах думать, а одно только помнить: красть!
– Это вы, Мардулушка, хорошо сказали, – заметил Кшись. – Вы – голова.
– А Франек все свое! Что правой рукой принесет, то тремя левыми девкам раздаст. Мужик он настоящий, а в шайку его боятся звать, потому что нельзя на того положиться, у кого в голове только девки. Иной раз и наплачешься: ведь я же, когда его растила, думала – разбойником будет.
– При Яносике приучится. Тот для разбойников что папа римский! – благоговейно сказал Кшись.
Так они беседовали, а тем временем скороход Мардула вернулся со штанами и скрипкой Кшися, удивив и ветер такой быстротой. Он даже свою собаку обогнал.
– Ну, и прыткий же ты! – сказал Кшись с уважением.
А мать Мардулы многозначительно взглянула на Кшися, словно говоря: эх, что бы из Франека могло выйти!..
Мардула мигом переоделся; штаны были узковаты и коротки, но он обмотал икры холщовыми онучами и обкрутил ремнями. Сойдет!
Тем временем Кшись рассказал, зачем он к нему пришел. Мардула просиял и тотчас взял из угла чупагу, а с полки ножи и пистолеты.
Когда он на прощанье поцеловал у матери руку, она сказала:
– Иди туда, как в школу. Господь дал тебе талант, так ты его в землю не зарывай.
– А портки‑то мои тогда отдашь? – предусмотрительно спросил Кшись, отправляясь с Мардулой в путь.
– Отдам. Я там не то что портки, а и сапоги с голенищами раздобуду!
– Очень просто, – сказал Кшись. И стал рассчитывать, что, погулявши часок, они еще вовремя поспеют к Нендзе, а нет – так догонят его. О том, что он должен был позвать к Яносику и других мужиков, он уже забыл.
У Войдилов гремела музыка. Хозяева радушно встречали гостей, а когда появился Кшись, его бурно приветствовали. Ибо это был музыкант из музыкантов.
Молодая жена Войдилы, которая три дня тому назад родила, перестала плясать и тихо сказала мужу:
– Ты окажи Кшисю почет, тогда он сыграет.
Но Кшись, снова угостившись, предпочел сперва поплясать. Мужики стояли рядами у стен вокруг всей комнаты и, по обычаю, один за другим выходили плясать перед музыкантами. Но для Кшися, из уважения к его летам и таланту, тотчас очистили место.
Он важно стал перед музыкантами (двумя скрипками и басом), вынул из платка, лежавшего в кармане сермяги, какую‑то монетку и, бросив ее басу, запел:
Нравятся мне
У зайца уши,
У оленя – рога,
У девушки – ноги.
Потом он отчаянно застучал ногами по половицам и пошел плясать. А Мардула подскочил к Цапкуле, бабе рослой и на диво объемистой, ловко ей поклонился, взмахнув шляпой, обхватил ее за талию и закружил так, что у бабы юбки взлетели до колен. Потом завертел ее волчком, так что юбки поднялись уже выше колен и из‑под них показалась белая мужская сермяга, которой она для пущей красы опоясала бедра.
– Ну, и собака же этот Франек! – радостно крикнул тесть Войдилы.
А Цапнула, кокетливо подбоченившись правой рукой, сжатой в кулак, выпрямилась, сколько могла, и на цыпочках заходила вокруг Кшися. Кшись носился по кругу, то и дело останавливался перед музыкантами и запевал.
– Чего ногами не оправдает, то горлом доделает! – одобряли его мужики.
Он то склонял голову набок, то откидывал ее назад и стучал ногами в половицы, бил себя ладонями по пяткам, подпрыгивая и ударяя по обеим сразу, – а то вдруг, остановившись, медленно колотил одной ногой об пол.
Вдруг он выпрямился и, растопырив руки с вытянутыми указательными пальцами, описал ими в воздухе круг, а потом пустился вприсядку, припевая:
Помнишь ли, чего просил я,
Как под явором стояли?
Помнишь ли, что ты дала мне,
Когда липа зацветала?
– Эй, старый! – крикнул, развеселившись, тесть Войдилы, грозя Кшисю пальцем.
А Кшись сложил руки на голове и пошел семенить, ударяя пяткой о пятку, закидывая ногу на ногу, то, как венгерские танцоры, пятился по прямой линии, переступая пяткой за пятку, то мелкими шажками устремлялся через всю комнату, а Цапкула носилась вокруг него, шла то спереди, то сзади. Кшись принялся гоняться за нею, натыкался своим щуплым телом на ее мощную фигуру – грудью тыкался ей в живот, носом в грудь, коленами в икры; она убегала, и он не мог ее догнать; потом отставал, а она подлетала к нему. С Кшися лился пот градом, Цапкула была красная как рак.
Вдруг Кшись, широко расставив ноги, остановился перед музыкантами и запел песенку про скупого бацу из Мура:
Ой, наш баца сильным стал,
Добрых молодцев набрал.
А еще бы лучше были,
Кабы сыром их кормили.
А потом, взлетев на воздух, как в молодости, опустился разом на скрещенные ноги и пустился вприсядку вокруг Цапкулы. Но и Цапкула в грязь лицом не ударила. Не сгибая ног, она вскочила на стол. Стол затрещал, все, что на нем стояло, зазвенело, загремело.
– Ура! – кричали мужики.
А Цапкула, спрыгнув со стола, подошла к музыкантам и, став перед ними, затянула новую песню:
Играй‑ка веселее,
Где ноги, там…
Тут Кшись обхватил Цапкулу за талию и, много раз покружив ее, хотел пропустить ее под своей поднятой рукой, как сделал раньше Мардула, но так как он был маленький, а она огромная, то, ко всеобщему веселью, она сделала это с ним, да с такой силой, что он отлетел к стене.
– Эй, старик, – закричал Войдила. Но Кшись удержался на ногах и только взглянул на него.
Прохладившись пивом, Кшись подсел к музыкантам и играл плясавшему Мардуле на скрипке. Короткие и узкие Кшисевы штаны на рослом и дюжем Мардуле начали обнаруживать свою непригодность. Они трещали и так натянулись, что, казалось, сейчас лопнут по всем швам. Застежки на лодыжках, искусно спрятанные под онучами, вылезли из‑под холста. Мардула взглянул на себя и понял, что надо спасать положение. И, приплясывая перед Кшисем, он гаркнул во всю мочь:
Пропадай портки мои:
Есть в запасе пары три!
Но Кшись не утерпел, чтобы не ответить на экспромт экспромтом, и пропел, продолжая играть:
Коли есть в запасе три –
Скинь мои, надень свои!
Изба задрожала от хохота. Мардула смутился, но лишь на миг. Легкий, как пух, он вскочил на скрипку Кшися, едва коснувшись ее пальцами ног. Кшись даже не перестал играть – так легко было это прикосновение.
При виде этой шутки все даже рты разинули от удивления.
Позади мужиков, стоявших вокруг танцующих, на скамьях за столом сидели пожилые гости. Женщины почти не переставали петь хором, мужики тоже. Было весело. Водка, пиво и вино лились рекой, а экспромты, прибаутки и шутки то и дело вспыхивали фейерверком.
Гомерический хохот вызвал старый Гахут, рассказав историю об еврейском суде, – как строили где‑то костел и кровельщик, забравшийся на башню у самого креста, поскользнулся и слетел вниз. Внизу же стояло множество людей, между ними – кучка евреев. Свалился кровельщик на одного из них и задавил его, а сам остался невредим. Тогда евреи закричали: «Наказать его! Убить его! Око за око! Зуб за зуб!» Таков уж еврейский закон. Побежали к судье. Судья выслушал и сказал так: «Ну, милые мои, он его убил ненарочно, и я наказать его могу только так: велю поставить под башню, а один из вас пусть на нее взберется, свалится на него и убьет». Справедливее решения и быть не может.
– Ну и что же, взобрался кто‑нибудь? – покатываясь со смеху, спросил тесть Войдилы.
В избе было душно, жарко и тесно до невероятности. Много там было объятий, много поцелуев, и на людях и украдкой, – как кому хотелось. Мужья сажали чужих жен к себе на колени, обнимали их, а жены улыбались чужим мужьям; никто не сдерживал своих чувств.
Там красавец и здоровяк Войтек Куйон напевал вполголоса красавице жене Ендрека Пенксы:
Видел я, видел я, как пряжу пряла ты,–
а она отвечала ему с улыбкой, обещающей многое:
Видела я, видела, как овец сгонял ты…
Так словами песни они намекали друг другу на свои чувства. Ибо у Войтека баба была старая, а Пенкса жене не нравился.
Там пальцы богатой Каси Шимцевой тихонько похрустывали в руках бедного Климека Бустрицкого, а в углу, забившись за печь, Михаил Вырдзинник и Зося Самкова почти что предавались наслаждению. Парней в дрожь приводили эти девушки, голубоглазые красавицы. Их стройные талии, грудь и плечи поднимались от пышных бедер, как цветы из вазы. И кто касался этих бедер, тот шалел от желаний. Да и у девушек в глазах горел огонь, грудь дышала часто от жары и давки. Они тянулись навстречу объятьям, и время от времени парочки скрывались куда‑то.
Вдруг поднялся шум. Петрек Савицкий, которому не давали плясать, потому что он пришел незваный (Савицкие с Войдилами не ладили, вдобавок же Петрек был известный скандалист), бросил на контрабас серебряный талер и, протолкавшись на середину комнаты, стал прыгать, размахивая кулаками на все стороны. От злости у него даже на губах выступила пена. Никто не хотел уступить ему для танца девушку; а молодой шурин Войдилы нарочно выпихнул вперед Юзека Сечку, чтобы тот плясал. Мардула тотчас очутился поблизости. Когда Савицкий столкнулся с Сечкой, Мардула стоял уже возле них, а когда Сечка получил оплеуху и чуть не свалился на окружающих, Мардула схватил Савицкого за ворот. Но Савицкий, парень не промах, точно так же схватил за горло Мардулу, и они стали душить друг друга. На минуту все притихли, с любопытством ожидая, кто кого пересилит. Мардула и Савицкий посинели. Однако это продолжалось недолго. Савицкий исчез под напором ринувшихся на него тел, а через минуту кровавую кашу вынесли через сени и бросили в еловую рощицу за домом.
Суматоха улеглась, и снова начался пир. Никто не беспокоился, жив ли Савицкий, или мертв.
Потом двоюродный брат хозяйки, Бартек Бахледа, напился и принялся озорничать: кричал, ругался и лез в драку. Несколько степенных мужиков взяли его за руки, вывели во двор, приподняли немного угол хаты и, засунув длинные волосы Бартека в щель, снова опустили сруб на место.
– Пускай посидит, пока не протрезвится…
Бартек орал во всю глотку, но голос его тонул в общем шуме и музыке.
И снова какой‑то танцор выколачивал дробь и пел:
Разломилася кровать
У моей подружки.
Разломилась пополам
На мое несчастье!
В другом месте старики, чокаясь жестяными кружками с водкой, рассказывая друг другу забавные истории, покатывались со смеху или глухими голосами хором пели песни. Бабы заводили пронзительными голосами, а у самых дверей стояли обнявшись несколько девушек и пели, почти касаясь друг друга губами, так что еле можно было разобрать слова:
Я ли тебя не звала: приезжай, приезжай!
А ты не хотел, так прощай же, прощай!
Их скоро окружили парни. Голоса смешались, головы сблизились, тела стали прижиматься друг к другу. Веселье, радость, страсть и жажда жизни раскипелись и переходили в исступление. Щепан Уступский из Уступа, пожилой уже мужик, но широкоплечий, могучий, как вол, схватил Цапкулу на руки и с нею пустился вприсядку за каким‑то танцором. Ясек из Подвильчника пробовал поднять зубами стол со всем, что стояло на нем. Сташек Топор ходил на руках, а Мардула подпрыгивал выше человеческого роста. Зоську Яцинову, бабу, у которой были уже дети, так разобрало, что она припала грудью к Мацеку Каркосу, молодому парню, прижимала его к стене и, задыхаясь, шептала: «Ты мой! Мой!» А Ганка, дочь Войдилы, позволила сразу трем парням вынести себя на руках из избы на глазах у матери, кричавшей пьяным голосом:








