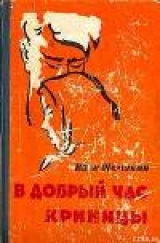
Текст книги "Криницы"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
6
Лемяшевич никогда не думал, что так много разных обязанностей у директора школы.
Правда, Орешкин утверждал, что новый директор сам выдумывает себе дела. Например, с ремонтом. Школа отремонтирована. Чего ещё надо? Но Лемяшевич забраковал все и дал сведения в районо и облоно, что школа не отремонтирована. Сведения эти всех переполошили: середина августа, а одна из крупнейших школ района не готова! Провал! Приезжала комиссия. Долго ходили, крутили носами – склонны были заключить, что школа все же отремонтирована. Лемяшевич злился:
– Какой же это ремонт? До каких пор мы будем содержать в таком состоянии наши школы и клубы? Не первые же это послевоенные годы! Товарищи! Хватит прибедняться! Школа – культурный центр на селе, и она должна быть образцом для всех остальных учреждений.. – А оттого что «образец» имеет такой вид, посмотрите, в каком состоянии колхозный клуб! Стыд и позор! И это в деревне, где есть электричество, радио!.. Надо сломать такое отношение… И я не отступлю…
Он нарочно высказался так резко, решительно. При осмотре присутствовал председатель райисполкома Волотович, спокойный и тихий человек. Он и здесь держался на втором плане: ходил позади всех, разглядывал все внимательно и долго. И вдруг, удивив не одного Лемяшевича, председатель райисполкома поддержал нового директора. Он заговорил, отковыривая от стены в коридоре затвердевшие потеки какой-то едкой коричневой краски.
– У Чехова где-то сказано… Не помню, в какой вещи… – тихо начал Волотович.
И все остановились и обернулись к нему, заинтересовавшись: что Чехов мог сказать об этих стенах?
– Дословно не помню, но примерно… О настроении студентов… Настроение это зависит от окружающей обстановки, и потому студент должен видеть вокруг себя только высокое, прекрасное, могучее… Не дай боже ему смотреть каждый день на разбитые стекла, ломаные двери и вот этакие стены, – он ткнул в стену пальцем. – Это о студентах. А если перенести на школьников, на детей… Какое у них будет настроение, товарищи педагоги?..
У Лемяшевича возникло желание ответить на это: «А где вы были раньше, хозяин района? Почему до сих пор этого не видели?» Но Волотович смотрел такими добрыми глазами, говорил с такой искренностью, что у Лемяшевича не хватило решимости съязвить – есть люди, с которыми невозможно быть дерзкими или грубыми.
Представитель облоно, председатель комиссии, развел руками:
– Ну, если хозяин района так считает, то – пожалуйста, ремонтируйте, воля ваша, деньги ваши… Только – чтоб все было готово к учебному году.
– Ох, деньги, деньги! – вздохнул Волотович. – Денег-то нет. Ну, ничего, товарищ Лемяшевич, ломайте и делайте, как надо. Поддержим!
С того дня Лемяшевич вертелся как белка в колесе. Не раз пришлось съездить в райцентр за двадцать пять километров, чтоб получить деньги. Никогда он не думал, что даже такая простая вещь потребует столько времени и усилий. То он не заставал Волотовича, то не было заведующего райфо, то банк не принял подписей. Не легче было и на месте. Орешкин, конечно, обиделся, что забраковали его работу, расценил это как подкоп под его авторитет и на простосердечную просьбу Лемяшевича помочь подготовить школу как следует ответил;
– Дорогой Михаил Кириллович, я три года не отдыхал… Я работал как вол… Конституция дает мне право на отдых. Разрешите воспользоваться этим правом.
«Отдыхай, лодырь! – подумал Лемяшевич. – Переутомился ты, бездельник этакий! Обойдемся и без тебя».
Орешкин, должно быть, нарочно проходил каждый день мимо школы – чистенький, прилизанный, опрысканный крепкими духами, запах которых слышен был за двадцать шагов. Ходил он не один – с Раисой и молодой учительницей Ядей Шачковской, беззаботным существом, хохотушкой, которая всюду чувствовала себя как дома. Что касается Шачковской, то Лемяшевич ничего против не имел: пускай ходит с кем хочет. Но ум и сердце его протестовали против взаимоотношений завуча с Раисой. Это был интуитивный протест, не подкрепленный никакими педагогическими формулами. А Лемяшевичу хотелось найти эти формулы, писаные или неписаные; они могли бы дать ему право требовать от Орешкина иного обращения со школьницей. Правда, ему совсем не хотелось с самого начала портить отношения с завучем.
Более энергично протестовал против прогулок Орешкина Бушила. Увидев завуча, он не жалел крепких слов: «Лодырь… Интеллигент липовый! Дрянцо…» И Лемяшевичу приходилось умерять красноречие молодого учителя.
Бушила добровольно стал активнейшим помощником в подготовке школы к учебному году, хотя официально тоже числился в отпуске. Вторым таким помощником, спокойным, мудрым и опытным, оказался Данила Платонович, Лемяшевич, приехав в Криницы, по-разному знакомился с людьми – с преподавателями, колхозниками, работниками МТС. Но, пожалуй, самым интересным вышло знакомство с Шаблюком. Вместе с Орешкиным, по его предложению, они зашли к Даниле Платоновичу.
– Увидите, до чего может дойти учитель, когда он долго сидит на одном месте, – посулил Орешкин.
– Посмотрим, – сказал Лемяшевич; за три дня он успел услышать о старом учителе столько хорошего, что теперь не верил ни одному слову завуча.
Хата у Шаблюка старая и чуть не самая большая в деревне – с тремя широкими окнами на улицу, без ставен, без резьбы на карнизах, но в добром порядке. Во всем чувствовался хозяйский глаз и умелые руки. Перед хатой не было цветника, а росли два молодых, похожих как братья друг на друга клена с глянцевитыми стволами.
Цветник был во дворе, но не под окнами, как обычно, а поодаль; вдоль него тянулась густой грядой черемуха, свешивающая свои ветки через невысокий заборчик в соседний двор. В цветнике, окруженном штакетной оградой, среди разнообразных цветов больше всего было мяты и резеды. У побеленного сарайчика возвышалась, господствуя над всей деревней, старая липа, укрывшая своей тенью половину просторного двора. Может быть, двор казался таким просторным из-за необычайной его чистоты: нигде ни соринки, всюду под метено, посыпано чистым песком. Под навесом стояли диванчик, верстак, лежали аккуратно сложенные остроганные доски, а на стене висел разный столярный инструмент: пилы, рубанки, циркули, стамески. И пахло в этом дворе не хлевом, не скотиной, хотя где-то в сарайчике и похрюкивала свинья, а мятой, свежей сосной и липовым цветом.
Они не зашли в дом, так как увидели хозяина в саду. Сад начинался сразу же за сараем зарослями малины, густой и высокой, соблазнительно манившей крупными переспелыми ягодами. Кусты малины и крыжовника посажены были и вдоль боковой ограды, но там их заглушали вишняк и желтая акация, редкая в этом районе Белоруссии. Плодовые деревья росли посередине – старые раскидистые яблони и высокие груши. Прозрачный налив, восковой шафран, зеленая путинка, ребристая крупная антоновка, темно-красная «цыганка» и другие сорта яблок, которых Лемяшевич не знал и названия, так густо усыпали ветви, что чуть не под каждую была подставлена подпорка. Под яблонями расстилалась заманчивая тень. Так и тянуло лечь на зеленую, свежую, как ранней весной, траву. В конце сада виднелся дощатый шалашик, вокруг него в строгом порядке размещались рамочные ульи. Там и стоял Данила Платоиович, внимательно разглядывая рамку. У его ног поднимался легкий белый дымок – курился дымарь. Издалека было слышно, как гудят потревоженные пчелы. Пчелы звенели в воздухе над головами гостей.
– Подождите, пока закроет ульи, а то искусают, черти, – предупредил Орешкин, останавливаясь посреди сада. Увидев, с каким интересом Лемяшевич оглядывает владения старого учителя, он иронически заметил: – Поместье. А?
– Нет, просто хороший сад, каких у нас, к сожалению, мало еще, – ответил Лемяшевич.
Орешкин промолчал. Осмотрев еще две-три рамки, Данила Платонович закрыл улей, взял в руки дымарь и направился к шалашу. Они пошли ему навстречу. Старик вежливо поздоровался, снял шляпу. Он догадался, что пришел новый директор. Такое внимание к нему, «отставному учители», как он себя называл, не могло бы не тронуть его, если бы директор пришел один. Но Данила Платонович был уверен, что инициатива визита принадлежит Орешкину и привёл он директора не для того, чтобы их познакомить, а чтоб показать ему «кулацкое хозяйство». Шаблюк знал, как Орешкин при случае отзывался о нем.
А Лемяшевич, поближе приглядевшись к старому учителю, на миг растерялся. Ему показалось, что он уже встречал этого человека раньше. Только неуверенность в своей памяти – такая неуверенность свойственна многим – помогла ему сдержаться и не выдать своего удивления. Но как только Шаблюк заговорил, он твердо убедился, что так оно и есть – они встречались. И хотя было это десять лет назад, Лемяшевич отчетливо вспомнил и место встречи и обстоятельства. Старик с тех пор почти не изменился, только одет иначе. Тогда он был в лаптях, в штанах грубого, домотканого холста, крашенного в какой-то нелепый темно-зеленый цвет, – другой краски, верно, не было, – и в линялой, с заплатами на плечах и локтях, гимнастерке…
Орешкин познакомил их.
– Отлично, – сказал старик, пожимая руку, и непонятно было, к чему это относится – к новому ли директору или к чему-то совсем другому, может быть к своим каким-то тайным мыслям. Потом взглянул с некоторым интересом, более приветливо и спросил: – Как вам понравилась наша школа?
– Школа хорошая, но отремонтирована плохо, – отвечал Лемяшевич.
Орешкин криво, улыбнулся.
– Михаил Кириллович все меряет на городской аршин. А у нас – Криницы.
Он сказал это так, словно Криницы – что-то совершенно ничтожное, мелкое, не достойное внимания.
Шаблюк нахмурился.
– Да, у нас – Криницы! – совсем иначе, с уважением, с гордостью, повторил он. – И стыдно вам, молодой человек, что у нас такая школа. Довели! А я сам, вот этими руками, – он показал свои широкие, морщинистые и шершавые ладони, – строил её до войны. И какая была школа!
Теперь он обращался к Лемяшевичу, и глаза его под очками стали ласковыми. Лемяшевич с радостью увидел, что откровенные слова его о школе вызвали у старого учителя симпатию к нему, своему молодому коллеге.
– Стыдно учителю не любить свою школу! А вы, Виктор Павлович, уже не новичок, человек способный, а любить школу не научились.
Орешкин неестественно рассмеялся.
– Данила Платонович непрерывно меня критикует… Из уважения к вашему возрасту я молчу. А я мог бы кинуть камешек и в ваш огород… А?
– Не камешки надо кидать, а смело говорить правду в глаза. А у вас только смелости и хватает – из-за угла камень кинуть.
Орешкин смутился, он, должно быть, проклинал ту минуту, когда ему пришло на ум привести сюда Лемяшевича.
– Вы несправедливы ко мне, Данила Платонович, – сказал он обиженным тоном.
– Что ж мы стоим? Присядем, – гостеприимно пригласил вдруг хозяин и первым направился к лавочке, стоявшей в тени шалаша.
Усевшись, Шаблюк проговорил, должно быть отвечая Орешкину:
– Я в два с половиной раза старше вас.
Над их головами закружилась, зазвенела пчела. Орешкин испуганно замахал руками. А старик медленно провел рукой в воздухе, ласково сказал:
– Пошла, глупая!
И пчела, как бы услышав голос хозяина, послушно отлетела.
Данила Платонович спросил, женат ли Лемяшевич, и, получив отрицательный ответ, недовольно покачал головой:
– Поздно женится наша молодежь. Плохо. Моему старшему сыну уже пятьдесят лет. Полковник… Где же вы собираетесь жить, столоваться? – И, узнав, что у Степана Костянка, одобрил: – Хорошую семью вам выбрали. Счастливая семья, – и улыбнулся каким-то своим мыслям. – Видно, понравились вы Степану, а то – не любит он столовников.
– А я к ним с рекомендательным письмом от Журав-ских. Кстати, вам от них привет.
– Спасибо, спасибо. Даша – моя ученица. Где только нет моих учеников! – В голосе его прозвучала гордость.
Поговорили еще о том о сем, но настоящей душевной беседы не получалось. Чувствовали себя, как пассажиры, познакомившиеся в ожидании поезда. Орешкин нетерпеливо ерзал на лавке, выбирая удобный момент, чтоб попрощаться. Да, видимо, и хозяин тоже был не против того, чтоб скорее выпроводить непрошеных гостей, – он не тушил дымарь, а даже раза два нажал на мехи, выпустив на Орешкина клубы белого пахучего дыма. Но Лемяшевич и не собирался уходить, не поговорив о том, что его сейчас больше всего занимало.
Воспользовавшись паузой, он тихо сказал:
– Разрешите мне, Данила Платонович, рассказать один эпизод из моей короткой биографии. Сидел, знаете, вспомнил, и очень захотелось рассказать…
Орешкин поморщился.
Шаблюк несколько удивленно, однако с интересом посмотрел на молодого директора.
– В мае сорок третьего года одна партизанская бригада была блокирована у Днепра. Другая шла ей на помощь. Но недалеко от ваших мест, в районе Глинища, гитлеровцы навязали нам бой. Силы у карателей были большие, и бой затянулся. Тогда командование совершило маневр: оставив заслон продолжать бой, неожиданно повернуло главные силы бригады в другом направлении. Но, изменив маршрут, отряды попали в незнакомые нам болота. Надо было выяснить дорогу, найти проводника. Послали разведку – небольшой конный отряд, в котором, кстати сказать, был и ваш покорный слуга. По карте и по рассказам жителей нам предстояло одолеть непроходимое болото, тянувшееся на несколько километров. Из двухлетнего опыта мы знали, что непроходимых болот нет. Хороший местный проводник – и любое болото будет пройдено. Стали искать такого проводника… Деревня, как мне помнится, называлась Замостье…
Лемяшевич рассказывал спокойно, ровно, ни на кого не глядя, но в этом месте не сдержался, посмотрел на Шаблюка. Старик сидел молча, устремив взор в глубь сада. Орешкин зевнул.
– Мы выбили из деревни отряд полицейских… Это, как вы знаете, лучший способ доказать населению, запуганному провокациями, что мы действительно советские партизаны. После такой операции нетрудно найти связных местных отрядов. Но связные в Замостье оказались людьми комсомольского возраста и болота не знали. Однако они единодушно заявили нам: провести через болото может только один человек – их старый учитель. Мы пошли к нему. Оказывается, у учителя гостил его давнишний друг, с которым они лет сорок назад вместе начинали свой жизненный путь. Одним словом, учителя провели нас к самому Днепру… И как провели! Обойдя все вражеские заслоны, все опорные пункты. Добрых пятьдесят километров мы прошли за сутки, и наши проводники были всё время впереди…
Данила Платонович вдруг положил свою ладонь на руку Лемяшевича, взволнованно улыбнулся:
– Довольно. Дальше уже неинтересно.
Михаил Кириллович в свою очередь с благодарностью сжал руку старика.
– Да, дальше неинтересно. Я только упомяну еще об одной детали… Только потом нам стало известно, что оба учителя – связные той бригады, которой мы помогли прорвать блокаду и разгромить карателей.
Орешкин вскочил, даже перевернул дымарь.
– Данила Платонович! Да вы герой, оказывается! А молчали… Ай-ай, как нехорошо! А? Жили вместе, работали. И вы молчали… Да о вас поэмы надо писать!
Шаблюк поднял дымарь и, старательно растирая ногой угольки, недовольно проворчал:
– Какие там поэмы! Да и не вам их писать! – И весело обратился к Лемяшевичу – Идемте, я вас медовой брагой угощу. Напиток, я вам скажу, царский, по старинному русскому рецепту.
Через день Шаблюк пришел в школу и, оставшись с Лемяшевичем наедине, заговорил:
– Не могу, Михаил Кириллович, быть в отставке. Бросил работу потому, что не стало сил терпеть непорядки. А теперь не могу – тянет в школу, в коллектив. Вам это должно быть понятно…
Лемяшевич обрадовался. О таком педагоге, который мог бы воспитывать не только детей, но и его, молодого директора, служил бы примером для всего учительского коллектива, он мечтал еще тогда, когда впервые услышал от Журавских о старике. По приезде он горячо пожалел, что Шаблюк оставил школу.
С того дня они стали работать вместе. Лемяшевич понимал, что без помощи Данилы Платоновича, без его мудрых советов, без его авторитета ему, новичку, пришлось бы очень трудно. И так было нелегко. При всем добром желании помочь деньги председатель райисполкома смог выкроить только на самое необходимое. Все остальное посоветовал делать «методом народной стройки». Но в колхозе была горячая пора уборки, а людей не хватало. Колхоз отставал. Мохнача вызывали на бюро райкома и вынесли решение, после которого он ходил хмурый, злой, ни на кого не глядя. Говорить с ним о чём-нибудь, кроме уборки, стало невозможно. А Лемяшевичу особенно трудно было договариваться с ним: первое знакомство их произошло при неприятных обстоятельствах.
На второй или третий день после приезда он шел на речку купаться. Шёл вдоль Криницы, что протекала возле школы и тянулась через луг к реке.
Остановился в кустах, не доходя до берега. В этот момент речку переходили вброд три женщины с большими вязанками сена за спиной. Женщины присели отдохнуть на берегу, и одна из них, помоложе, скинув юбку, выкупалась прямо в сорочке. Лемяшевич представлял, как тяжело, должно быть, в жару нести такую ношу. И потому, даже когда женщины, вскинув вязанки на плечи, двинулись дальше, он не вышел из кустов: постеснялся с полотенцем на плече встречаться с рабочими людьми.
Молодуха шла впереди, две другие женщины шагов на тридцать отстали. Дойдя до кустов, она испуганно вскрикнула:
– Бабочки! Потап!
Одна из женщин повернула и быстро зашагала через луг напрямки. Самая старшая спокойно подошла к кустам, где уже слышался сиплый мужской бас:
– А-а, голубки, вот когда я вас поймал. Скидайте сено!
– Потап Миронович, в лесу серпом нажали. Лесник разрешил, – веско и сурово сказала старшая женщина.
– Знаю я вашего лесника! Он за пол-литра весь лес продаст. Трудовую дисциплину срывает! На работу не выходите!
– Все утро работали, Потап Миронович. Обедать идучи, зашли…
– Ну, я долгих разговоров не люблю. Скидайте! А не то – сами знаете…
– Да чем же корову кормить, Потап Миронович?
– Я не кормилец ваших коров, у меня пятьсот голов своих.
По этим словам пораженный, недоумевающий Лемяшевич догадался, кто такой Потап Миронович, и его возмутили слова председателя «у меня своих пятьсот голов». «Выходит, стадо твое, а не колхозное, и только ты один печешься о колхозном добре, а все остальные – рвачи и воры!»
– На, подавись ты своим сеном! – злобно, со слезами в голосе, крикнула молодая.
– Ну, ну, ты! Полегче!..
Лемяшевич вышел из своей засады и быстро подошел к месту происшествия. На торфянистой, сырой стежке среди кустов лежало сено. Потап Миронович сидел на корточках и чиркал спичкой. От сена поднялся белый дым, но, недосушенное, разгоралось оно вяло.
Лемяшевич подскочил и под самым носом у председателя затоптал огонь. Мохнач поднялся с удивительным для своей комплекции проворством. Как видно, он растерялся от неожиданности и стоял, исподлобья глядя на незнакомца, который появился неведомо откуда и отважился на такую дерзость. Женщины спрятались в кусты.
– Это зачем же добро жечь? Разве у вас так много сена? – внешне спокойно спросил Михаил Кириллович.
Толстая шея председателя вмиг налилась кровью, часто заколыхался под грязноватой сорочкой большой живот.
– Краденое, – прохрипел он.
– Краденое? Конфискуйте. Накажите за кражу. А жечь зачем же?
– Врет он, товарищ начальник! В лесу серпом нажали! – И молодая женщина вышла из кустов на дорожку.
– Да, вы… кто вы такой?
– Я – директор школы.
– А-а-а, – радостно, весело и с удовлетворением протянул председатель, впервые посмотрев Лемяшевичу в глаза. – Культурная сила! Интеллигент! Так-так-так… Вот как вы, наста «нички, помогаете укреплять трудовую дисциплину…
– А вы таким способом хотите ее укрепить? Странный метод.
– Ла-адно. Об этом мы поговорим в другом месте. В другом, в другом. – И, сцепив руки на животе, Мохнач двинулся по стежке к реке.
Через несколько дней они встретились в сельсовете как старые знакомые. Мохнач первый протянул руку и ни словом не помянул о стычке на лугу. Лемяшевич тоже промолчал. Он пробовал расспрашивать о председателе и услышал на редкость противоречивые отзывы: одни хвалили Мохнача, другие беззлобно подсмеивались над его чудачествами, а третьи ругали беспощадно, с ненавистью. Лемяшевич решил понаблюдать и составить собственное мнение. То обстоятельство, что Мохнач при встрече не выказал ни обиды, ни злобы, ни пренебрежения, а дружески пожал руку, характеризовало его с положительной стороны. «Значит, человек объективный», – подумал Лемяшевич. Но скоро он почувствовал, чего стоит эта объективность. Почувствовал сразу, как только обратился к председателю за помощью.
Он попросил, чтоб тот разрешил взять со строительства колхозного гаража одного человека – хорошего печника, которого хвалил ему Шаблюк и с которым они уже договорились. Надо было только согласовать это с председателем колхоза.
Разговор происходил на току, у молотилки. Мохнач стоял у скирды соломы, как всегда уставившись в землю и сцепив руки на животе. Пыль и мякина от молотилки летели в его сторону, садились на лицо, на шапку, но Мохнач как будто и не замечал этого; он нарочно стал тут, как только увидел Лемяшевича и понял, что тот хочет с ним поговорить. Молотилка гудела, и потому приходилось почти кричать. Лемяшевич высказал свою просьбу. Мохнач насмешливо посмотрел на него и быстро завертел большими пальцами. Лемяшевича раздражала эта поповская привычка – вертеть на толстом животе пальцами, его так и подмывало спросить, не был ли случайно уважаемый Потап Миронович когда-нибудь монахом, но он понимал, что сейчас эта шутка будет неуместна. Шаблюк его предупредил, что договориться с Мохначом насчет печника будет нелегко. Он, правда, заручился поддержкой Волотовича, но знал, что председатель райисполкома для Мохнача авторитет небольшой. Поэтому он решил пойти на хитрость:
– Между прочим, я говорил с Бородкой. Это его идея…
– Про печника говорил? – спросил председатель, недоверчиво посмотрев Лемяшевичу в глаза, что делал чрезвычайно редко.
– Говорил, – солгал Лемяшевич, хотя это и неприятно было. «Скажу, что спутал Волотовича с Бородкой. Я здесь человек новый… Мне можно спутать».
Мохнач долго молчал, разглядывая солому под ногами, потом недовольно буркнул:
– Ладно. Бери.
Тогда Лемяшевич высказал вторую просьбу: нужны лошадь и человек, чтобы навозить глины.
Мохнач молчал так долго, что директор уже начинал злиться. О чем он думает? Как будто от того, даст он лошадь или не даст, зависит судьба всего колхоза. Смеется он, что ли?
– Ну, так как это практически осуществить, Потап Миронович? Из какой бригады взять?
Мохнач слегка плюнул на пальцы, молча потер ими.
– Деньги? – Лемяшевич удивился. – Слушайте… Это же ваша школа! Ваши дети!
– У меня детей нет.
– Оно и видно. Но как вам не совестно! Председатель колхоза, коммунист – и такие рассуждения: «У меня детей нет». У колхозников дети есть, если у вас нет!
– Сколько вас – желающих жить на колхозный счет! – с издевкой, тонким голосом сказал Мохнач, – Есть закон…
– Никто не собирается жить за счет колхоза. А закон вы просто опошляете, откровенно вам скажу. Другие колхозы строят школы, больницы, клубы… А у вас из-за такого вот отношения колхозный клуб развалился… Во что вы его превратили? В хлев! Стыдно смотреть!
– Не ваше дело! На свою школу глядите!
– Нет, мое дело! Я коммунист. Моя задача – воспитывать молодое поколение. И мы вас, товарищ Мохнач, заставим привести клуб в надлежащий вид!.. – Лемяшевич разозлился и не заметил, как повысил голос.
Девчата, отгребавшие солому, приблизились и с любопытством стали прислушиваться: о чем там спорят директор школы с председателем? Хитрый Мохнач заметил это, покачал головой и притворно ласково сказал:
– Ай-ай, такой молодой, а такой горячий, товарищ Лемяшевич. Нехорошо… Видно, нервы у вас не в порядке. Пойдем отсюда, а то запылится ваш костюмчик. Ишь как летит. – И отошел от молотилки, так ничего и не сказав про лошадь.
Тяжелое впечатление произвел этот разговор на Лемяше-вича. За годы учебы он немного оторвался от деревни, не было у него знакомых председателей колхозов, а в романах, которых он перечитал немало, и в кино председатели были похожи друг на друга: всесторонне образованные, культурные, умные, они за работой, за хлопотами о колхозном хозяйстве не успевали даже поесть, поспать, однако всегда находили время прочитать все новинки литературы, аккуратно посещали клуб, радуясь его великолепию – делу рук своих, и организовывали все культурные мероприятия – от лекции о строении вселенной до футбольной команды включительно. Лемяшевич не был идеалистом и не слишком верил таким розовым романам и фильмам: всякие есть колхозы и всякие председатели. Но такое отношение председателя колхоза к школе, к тому святилищу, где начинается сознательная жизнь миллионов строителей коммунизма – рабочих, колхозников, инженеров, агрономов, государственных деятелей, поэтов и ученых, – не просто разозлило Лемяшевича, а как-то больно задело и обидело.
Как же может такой человек руководить большим хозяйством? В особенности возмутился Лемяшевич, когда узнал, что двое детей Мохнача получили высшее образование: сын у него агроном, дочь – бухгалтер. Мучило еще и недовольство собой, своей несдержанностью, тем, что раскричался: «Мы вас заставим, товарищ Мохнач…» – и докричался до того, что этот Мохнач до обидного флегматично, насмешливо обрезал: «Нервы у вас не в порядке», – как будто перед ним был не директор десятилетки, а мальчишка.
Возможно, именно стыд за то, что он не сумел сохранить спокойствие, помешал Лемяшевичу выразить всю силу своего возмущения, когда он рассказывал Шаблюку о стычке с председателем. Выслушав историю про сено, Данила Платонович тяжело вздохнул, и на лицо его легла тень. А когда Лемяшевич передал ему свой разговор у молотилки, старик заметил:
– Чего вы еще ждали от Потапа?
– Вам следовало ему по морде дать… Он любит тех, кто его бьет, – совершенно серьёзно, без тени улыбки сказал Бушила, не отрываясь от работы.
Бушила красил на школьном дворе парты. Данила Платонович сидел на досках у сарая, где складывали на зиму дрова, и следил за его работой, давал советы, так как, хотя мастер как будто и ловко действовал кистью, парты получались почему-то полосатые.
– Возьмите меня переводчиком, Михаил Кириллович, когда надо будет разговаривать с Мохначом, – шутливо подмигнув, добавил Бушила.
– Не ребячься, Адам, – укоризненно остановил его Данила Платонович и, повернувшись к Лемяшевичу, посоветовал – А вы к нему с такими мелочами не обращайтесь. Ваш хозяин, Степан Явменович, – бригадир. Вы ему скажите, он вам любую лошадь даст, а глины накопать и привезти – ребят возьмем. У нас за всякую мелочь привыкли государственную копейку тянуть. Как будто государство – бездонная бочка. А вот когда-то мы ремонтировали, совсем не имея денег…
Лемяшевич присел рядом со стариком, закурил. Вспомнив, что Данила Платонович не курит, разогнал рукой дым.
– Я, конечно, не за сборы на школу… а за коллективную заботу, за коллективную ответственность, – продолжал свою мысль старый учитель. – У нас много говорят о политехнизации, о воспитании любви к физическому труду… А где ее прививать, где учить детей работать? В школе, в колхозе. Нельзя разве добрую часть этого ремонта сделать силами учеников старших классов? При хорошем руководстве можно и научить кое-чему. Кто выдумал, что во время каникул мы не имеем права занять детей? Не потому ли у нас половина школьников целое лето баклуши бьет? Не речами надо приучать учеников к труду, а работой, практикой. Вон Алёша Костянок как полюбил свое дело! Ставит рекорды… А за Раису Снегирь мать тарелки моет… Почему бы ей, к примеру, не помочь нам в школе?
– Ого! – Бушила захохотал. – Чего захотели! Вас Аксинья за дочку со свету сживет… Лично я не беру на себя такой миссии – предложить ей это! Съест!
– А я скажу! – твердо пообещал Данила Платонович.








