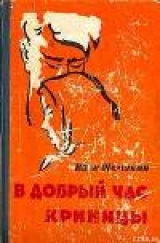
Текст книги "Криницы"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
36
– Не отставайте, не отставайте, Михаил Кириллович! – смеясь, кричала Лена, скатываясь на лыжах с высокого пригорка.
Начинался первый весенний месяц, но снег лежал ещё нерушимо и блестел так, что больно было глазам. Держался мороз, хотя к полудню капель выбивала в снегу на завалинках глубокие канавки. Чудесно в эти последние дни зимы ходить на лыжах! День длинный, не то что в декабре, к вечеру – бодрящий морозец, и взор ласкает белоснежная торжественность поля. Кажется, ещё царит зима, но по каким-то неуловимым приметам чувствуется приближение весны, её дыхание. Особенно явственно это ощущаешь в таком вот перелеске, где ветрами очищена от снега каждая веточка.
Лена отлично ходила на лыжах. Михаил Кириллович был не ахти какой лыжник, да ещё поначалу прикинулся, что встал на лыжи впервые. Лена взялась учить его. Ей, конечно, нравилось обучать самого директора школы, чувствовать в чем-то свое превосходство над ним. А ему эти прогулки приносили много радости. Ему было удивительно приятно идти с ней по улице, видеть, как любуются ими криничане, представлять, что говорят люди. А ещё отраднее было видеть, как счастлива их дружбой Наташа. Она безгранично благодарна была мужу за Лену. Наконец-то пропал её страх за судьбу дочери, так долго заставлявший её хранить одиночество, отказываться от личного счастья. Она рассказала ему, как Лена встретила сообщение об её замужестве.
«Леночка, – сказала она, – ты меня прости, доченька, но я все-таки выхожу замуж…» Девочка, как и в первый раз, насторожилась, замкнулась. «За Михаила Кирилловича, директора вашего». И дочка вдруг рассмеялась.
«Меня испугал этот смех, – говорила Наташа Михаилу. – Я не поняла, почему она смеется, и боялась спросить. От обиды, или пренебрежения, или, может быть, от радости? Так и не знаю до сих пор».
В первые дни совместной жизни Наташа держалась очень настороженно, ничем внешне не проявляла своей любви к мужу из боязни, чтобы дочка не осудила. Михаил Кириллович долго убеждал её, что это неверно. Он относился к Лене как к взрослому человеку, и это покорило девочку, хотя сердца и мыслей своих она не открывала никому, даже матери.
Возможно, что чувством, определившим отношение Лены к отчиму, была благодарность за то счастье, которое – она это видела – он дал матери. Так, кстати, и понимал её Лемяшевич и большего не требовал.
…Михаил Кириллович наконец решился съехать с горки, но внизу наскочил на куст и зарылся лицом в снег. Пока он выбирался, Лена, серьёзная и озабоченная, подлетела к нему с намерением помочь. Но увидела его веселое лицо и рассмеялась.
– Куда же вы заехали, пап?.. Такая проторенная лыжня, а вы – в кусты!
Лемяшевич замер, услышав это «пап». Или ему показалось? Нет, она действительно сказала это слово, робко, проглотив последний звук, со смехом, может быть бессознательно, а возможно, и совершенно сознательно выбрала именно такой момент. Лемяшевича это взволновало и растрогало. Никто не принуждал называть его так, никто и словом не обмолвился, он мог на всю жизнь остаться для нее Михаилом Кирилловичем. Но она знала народный обычай, слышала, как говорят в крестьянских семьях, где есть неродные отец или мать. А главное – должно быть, ей самой хотелось хоть раз произнести это дорогое слово, обращаясь к живому человеку.
Они пошли по полю. Шли и беседовали, как добрые друзья.
Когда он поднялся и отряхнул снег, Лена спросила: – Михаил Кириллович, а разве у партизан не было лыж?
– Были, конечно. Но я служил в конной разведке.
– Расскажите что-нибудь интересное про партизан, – попросила девочка.
Впервые высказала она такую просьбу. Лемяшевич подумал, что напрасно он не использовал эту возможность – никогда не делился своими партизанскими воспоминаниями, это, пожалуй, ещё больше укрепило бы их дружбу. Он даже не рассказал, как впервые встретился с Данилой Платоновичем. С этого он и начал. Эпизод был не очень драматический, но когда он спросил: «А знаешь, кто был один из этих стариков?» – у Лены от любопытства загорелись глаза.
– Кто?
– Догадайся.
– Ах! – радостно вскрикнула она. – Неужели Данила Платонович?
Так они незаметно дошли до Задубья. Лена вдруг предложила:
– Давайте зайдем в деревню. Там мама санобход делает. Мы разыщем её и вернемся домой вместе.
Они шли, пробираясь по высоким сугробам, наметенным за зиму на деревенской улице. На накатанных лыжами и саночками снежных холмах лыжи разъезжались, скользили в стороны. А на улице полно учеников. Одни из них, младшие, увидев директора, прячутся и поглядывают из дворов, другие нарочно идут навстречу, здороваются, снимают шапки.
– Директор, опасаясь, как бы не упасть, снял лыжи и пошел по дороге, сгоняя с пути равнодушных коров, которые грелись на солнце, лениво пережевывая жвачку. Коровы на улице – тоже одна из примет приближающейся весны.
Лемяшевич и Лена разыскали Наталью Петровну, и они все вместе двинулись домой.
Лена бежала по насту, прикрытому сверху выпавшим дня два назад мягким снежком. Она то отдалялась от дороги, то опять приближалась, скатывалась с горок, прыгала со снежных трамплинов.
Лемяшевич и Наташа шли по дороге, лыжи он нес на плече; они любовались дочкой, их дочкой, говорили о ней и о себе, о своей жизни.
– Я и не представляла себе, что меня ждет ещё столько счастья! – сказала Наташа.
– А я свое счастье представлял только таким, на меньшем я бы не помирился.
Крепчал мороз. Под их ногами весело и многоголосо пел снег.
Белая равнина на западе стала румяной, веселой, на востоке – посинела: оттуда шла ночь.
Они миновали лес, перешли речку у электростанции. Лена поехала напрямик через луг. Их путь лежал мимо МТС. И вдруг на дороге они увидели одинокую фигуру и, несмотря на полумрак, узнали в ней Сергея. Наталья Петровна схватила мужа за руку.
– Миша, останови ты его, поговори, нельзя же так. Когда они приблизились, Лемяшевич поздоровался:
– Добрый вечер, Сергей.
Тот не ответил. Отвернулся и прошел мимо.
Наталья Петровна смотрела ему вслед и, сдвинув платок, потирала ладонями виски.
– Боже мой! Что с ним происходит? Чем это кончится? Это же немыслимо. Больше месяца – ни слова. А казалось, такой спокойный, рассудительный был!..
– Упрямый, чёрт!
– Ведь это же невозможно – такое молчание. Ну, пускай бы выругал тебя, меня, напился, окна побил – все можно представить, самое нелепое; чего только человек не сделает из ревности… Но такое молчание… Страшно! Куда же это он пошел на ночь глядя?..
– Пускай идёт. Успокойся, – обнял Михаил жену и поправил платок. – Простудишься ещё. Пошли… Перегорит его злость или ревность, что там у него… Не будет же он век молчать!..
– Я просила Дашу… Он никого и слушать не хочет, всех посылает к черту. Говорят, в МТС грубить начал, если что не так.
– И всё равно он молодчина… Посмотри, как он с кружком работает. Я тебе рассказывал… Кое-кто из ребят, должно быть почуяв нелады между нами, охладел к кружку. Так он прислал в школу Козаченко. И кружок опять работает по-прежнему. Жаль только, что я теперь не могу туда ходить вместе с ребятами. Не хочу, чтоб они видели его вражду ко мне.
Наталья Петровна вздохнула.
37
Неожиданно заболела Ядя Шачковская. Вечером её видели в кино, а наутро Наталье Петровне пришлось вызвать из райцентра скорую помощь.
– Что с ней? – Лемяшевич нарочно зашел к жене на медпункт, чтоб узнать, надолго ли ему придется искать замену преподавательнице.
Наталья Петровна не ответила, пока не вышла больная, которую она принимала. Потом поплотнее закрыла дверь и, нахмурившись, явно взволнованная этой историей, сказала:
– Что с ней? Аборт – вот что.
– Аборт?! – Лемяшевич был очень удивлен. – Такая девчонка… Кто б мог подумать!..
– А тебе не кажется, что её толкнули на это?
– Кто?
– И наивен же ты, Михась! Кто? Моралист ваш.
– Орешкин?
– Догадался, слава богу, – с иронией заметила Наталья Петровна. – Неблагополучно у вас в коллективе. Одного вы чересчур опекаете, а другому – никакого внимания. А теперь этот подлец, если хочешь знать, ещё от всего откажется. Ядвига – девушка веселая, не пропускала ни одного танцевального вечера, со всеми кокетничала… Это для него козырь.
– Ну нет! Я сам с ним поговорю!
Но поговорить с Орешкиным никак не удавалось – тот очень хитро и ловко уклонялся от этого. Преподаватели, до которых, конечно, дошли слухи о причинах болезни их коллеги, потихоньку судили об этом между собой, но открыто высказаться никто не решался – очень уж вопрос деликатный. Освобожденный от обязанностей завуча (теперь завучем была Ольга Калиновна), Орешкин разыгрывал из себя обиженного, ходил надутый, официальный, ни с кем не вступал в разговоры.
Недели через две Шачковская вернулась из больницы. И в тот же день произошла развязка. Чувствовала она себя ещё плохо и работать не могла, но зашла в школу к концу последнего урока. Орешкин, как назло, закончил урок немножко раньше, до звонка.
Когда зазвонил звонок и в учительскую одновременно вошли Ковальчук и Ольга Калиновна, первое, что они услышали ещё в дверях, был шепот Орешкина:
– Молчи, дура! Ты губишь себя… и меня…
Они увидели испуганного, побледневшего Виктора Павловича, который нервно запихивал книги в портфель, торопясь уйти. А на диване, закрыв лицо руками, рыдала Ядвига Ка-зимировна.
Учителя, естественно, растерялись. Ковальчук застыл у дверей с большой стопкой тетрадей в руках, не решаясь приблизиться к столу. Ольга Калиновна подошла к шкафу, чтоб положить свои гербарии, но так и осталась там стоять, прикрывшись дверцей. Один за другим входили преподаватели и сразу умолкали, точно в присутствии покойника. Приходченко у дверей забирала у дежурных циркули, линейки, карты, таблицы, которые они приносили, не впуская их в учительскую.
Ядвига Казимировна не отнимала рук от лица, плечи её часто вздрагивали, из груди вырывались сдавленные рыдания. Орешкин, пряча глаза, надевал пальто и никак не мог попасть в рукав. И тут в учительскую вошли Шаблюк и Бушила.
– Что случилось, товарищи? – сразу спросил Данила Платонович.
Ядя отняла руки от лица и кинулась к нему, словно он был единственным человеком, который мог помочь ей в её тяжелом горе.
– Данила Платонович… Он обещал:.. А теперь он отказывается, теперь он говорит, что ещё неизвестно, чей ребенок… Как это неизвестно! – И она заплакала в голос, уткнувшись лицом в плечо старого учителя.
Орешкин презрительно хмыкнул, в то же время отступая за стол под взглядом Бушилы.
– Что она врет! Не верьте ей! Истеричка! Дрянь!..
– Кто дрянь? – сурово спросил Данила Платонович.
Бушила с размаху швырнул на пол все, что держал в руках – книги, тетради, линейку, мел, – и в одно мгновенье очутился против Орешкина, лицом к лицу. Вцепившись в борта его пиджака, он гневным шепотом спросил:
– Кто дрянь? Кто? – И, должно быть почувствовав, что сейчас может произойти что-то страшное, крикнул на всю школу: – Вон отсюда, мерзавец!
Орешкин отшатнулся, закричал испуганным, писклявым голосом:
– Ну, ну!.. Полегче! Хулиган!
– А-а! – И в руках Бушилы очутился табурет.
Орешкин, забыв портфель и шапку, пулей вылетел в коридор, где ещё шумели дети. Если б всё это не было так печально, наверно, многих посмешило бы, как он улепетнул из учительской. Но было не до смеха. Все стали утешать Ядю, которая плакала навзрыд и беспомощно, как ребенок, спрашивала у Данилы Платоновича:
– Что же мне теперь делать?
Бушила взволнованно ходил вокруг длинного стола, опрокидывая по пути табуреты, и все продолжал бушевать:
– Сукин сын! Скромником прикидывался! Архиинтеллигентом! Музыкантом! Я ему голову сверну! И ты тоже дура! – кричал он на Ядю. – Кому поверила? Подлецу! Обещал… Что он тебе обещал? Золотые горы? Бабьё безголовое!
Этот окрик как бы заставил Ядю прийти в себя. Она оторвалась от Данилы Платоновича, прислонилась к стене и широко открытыми, испуганными глазами, в которых застыли слезы, смотрела на Бушилу. И все увидели, какая она бледная, измученная и как поблекло её недавно нежное девичье лицо.
Орешкин заперся в своей комнатушке и до вечера никуда не выходил. Ждал, что его позовут обедать. Не позвали. В доме стояла тишина, хотя на кухне, он это слышал, были Рая и сама Аксинья Федосовна. Он напряжённо думал, какой найти выход из этой неприятной истории, чтоб хотя бы здесь, в этом доме, сохранить авторитет, уважение. «Надо помириться с этой дурой, сказать, что я погорячился, она всему поверит… Дотянуть до конца года, а там – в другую школу. Надо отступать… раз наделал глупостей… Аксинье Федосовне сумею объяснить, она человек практический», – подбодрил он себя и с наглой улыбочкой засел писать жалобу в районо: его оскорбили, кидались на него с табуретами. «Да, я жил с Шачковской, но с самыми честными намерениями и от намерений этих не отказываюсь. Мы поссорились: я был против аборта… Но я уверен, что мы всё между собой уладим…»
Довольный письмом, он хотел было выйти и попросить поужинать. Но в этот момент в комнату энергично постучали и не ожидая ответа, толкнули дверь. Он понял, что это хозяйка, и быстро отворил. Аксинья Федосовна стояла на пороге, величественная и суровая.
– Вы чего это запираетесь в моем доме? Я и не видела, что вы крючков понавешивали, двери испортили…
Он попробовал обратить все в шутку. Расплылся в улыбке, погладил сердце.
– Я пугливый, Аксинья Федосовна.
– А как же! Меня боялся? – И, скрестив руки на груди, она заговорила ещё более сурово, тоном, не терпящим возражений – Вот что, товарищ Орешкин… Я вас считала за человека…
– Аксинья Федосовна!.. И вы поверили этим сплетням! – воскликнул он.
– Я никому не верю… Я себе самой верю. И прошу вас очистить мою хату, – она сделала движение рукой, как бы выбрасывая ненужную вещь. – У меня дочка…
Орешкин понял, что ему не переубедить эту властную и упрямую женщину, и обиженно фыркнул. Повернулся к окну, стоял длинный, ссутулившийся, расставив ноги циркулем, и барабанил ногтями по стеклу.
– А если я не выеду?
– Я выброшу ваши вещи! – она кивнула в сторону окна. – На снежок.
Он быстро обернулся, поняв, что она и это может сделать. – Ах, так… Хорошо же! – с угрозой и обидой сказал он. – Я вам слова дурного не сказал. Дочь учил…
– Не нужна моей дочке ваша учеба. Учитель!
– Когда прикажете выбраться?
– Чтоб утром духу твоего не было! – уже совсем грубо ответила она и вышла, хлопнув дверью…
Убирая комнату, после того как Орешкин выехал (Рая убирать отказалась), Аксинья Федосовна под газетой, которой был застлан ящик шкафа, обнаружила конверт. С деревенским любопытством она извлекла из конверта письмо, начала читать.
«Не знаю, как к тебе теперь обращаться. «Дорогой Витя»? Ох, и дорогой! Дорого я заплатила за свою глупость. Ты сбежал, спрятался в деревню и, верно, опять очаровываешь какую-нибудь дурочку своими музыкальными талантами и обхождением. Ты это умеешь. Ты думал, что я тебя не найду. Нашла без труда. Но не бойся, ничего я от тебя не требую. Я просто хочу сообщить, что у тебя есть дочка, зовут её Надя, Надежда. Моя Надежда, не твоя. Так что знай, дорогой папа, что растет дочка. Вот, собственно, и всё. Правда, очень мне хотелось написать в школу, где ты работаешь теперь, чтоб знали, что ты за человек, за что тебя из комсомола выгнали и почему ты из города сбежал. Чтоб знали и остерегались. Но мама отговорила. Теперь и я успокоилась – чёрт с тобой, живи как знаешь! Мне от тебя ничего не надо. Я работаю и опять учусь – в вечерней школе, кончаю десятый класс…»
Письмо было давнишнее. Но Аксинье Федосовне стало страшно, она даже похолодела вся: какого человека она поселила рядом со своей единственной дочерью! Боже мой! Она безжалостно бранила себя: «Старая дура, век прожила, а в людях разбираться не научилась!»
Рае письма она не показала, а отнесла его Даниле Платоновичу. Тот прочитал и ни словом не попрекнул соседку. Но она сама себя казнила:
– Убить меня мало за мою дурость. Вы не зря меня предупреждали. Мне теперь так стыдно перед Лемяшевичем, так стыдно… Ни за что обидела человека. Поговори ты с ним, Платонович, пусть простит глупую бабу!..
Данила Платонович принес письмо в школу, показал преподавателям.
Но Орешкина в школе уже не было.
38
Ращеня растворил широкое окно своего кабинета сразу же, как только выставили внутреннюю раму. Так он делал каждый год – первый открывал окно в тот день, когда тракторы с усадьбы МТС выходили в колхозы. Над его чудачеством смеялись, так как нередко ему приходилось потом сидеть в кабинете в кожухе. Но на этот раз смеяться не приходилось – на дворе шумела настоящая весна. Она пришла неожиданно, вопреки прогнозу бюро погоды. Три дня не по-мартовски, а по-майски грело солнце, и сразу поплыл снег, разлились ручьи, пестрым стало поле: пятно снега, пятно земли черной, серой, зеленой. Механик Козаченко, любитель природы и поэт, уверял, что утром, гуляя, слышал в поле жаворонка.
Тимох Панасович стоял перед окном в одной гимнастерке, не боясь простудиться, вглядывался в безоблачную лазурь весеннего неба. Он так долго и с таким почти детским восторгом смотрел вверх, что его старым глазам начало казаться, будто над парком и там дальше трепещут в воздухе, падают вниз и снова взлетают бесчисленные пушистые комочки. Он знал, что ему только чудится, но так хотелось верить, что это жаворонки, что морозов больше не будет и через какие-нибудь два-три дня тракторы могут выйти в поле. Вот если б самому услышать хоть одного! Но тут разве услышишь! Воздух вокруг дрожит и сотрясается от рева десятков моторов. Дрожит дом, весь двор взрыт гусеницами, как будто тут шли маневры танков; все перемешалось – земля, снег, лед.
Ращеня добродушно проворчал:
– Черти, говорил же, чтоб перед конторой не ездили. Места им мало!
У директора чудесное настроение. Никогда ещё МТС не управлялась так с ремонтом – ни по срокам, ни по качеству. Сегодня приезжает комиссия, и, если всё пройдет гладко, будет, возможно, решен вопрос о первенстве по области, о переходящем знамени.
Тимох Панасович потирал руки от волнения – как бы чего не случилось, бывают же неприятные неожиданности! – и от радостного чувства, что ничего случиться не может. Что греха таить, он любит славу, как и всякий человек. Кому не приятно, когда его хвалят! Последние годы его больше ругали, хотели даже снимать… Нет, Ращеня себя ещё покажет, пусть знают, что новые кадры – дело безусловно хорошее, но и старая гвардия – большая сила, дай ей только где развернуться. Вот он и развернулся!
Сквозь гул моторов со двора донесся сердитый голос Сергея Костянка: главный инженер кого-то ругал. Ращеню голос этот заставил спуститься с небес на землю. Он с отеческой любовью подумал о главном инженере: «Вот кому скажи спасибо. Однако и упрямый же, черт! Как бы славно было выйти тракторам в колхозы ещё вчера. Так его же не переубедишь, на все доводы твердит: «Не для комиссии работаем». А сегодня как разошелся, когда он, Ращеня, хотел забрать часть людей, чтоб те навели порядок в помещениях и на территории.
«На кой черт мне этот парад! Машины у нас чистые, а о конторе да о цветах в кабинетах раньше надо было думать. Сейчас каждый человек дорог!»
Размышления Ращени прервал взволнованный, обиженный голос:
– Тимох Панасович! Не могу я так!.. Я прошу… Я не мальчик… У меня голова седая. И я не позволю на себя кричать! Если ему не везет в личной жизни – я тут при чем?
Это – заведующий мастерской Баранов, бывший главный механик. Ращеня неохотно оторвался от окна и сел за стол. На пороге тут же встал Сергей Костянок в рабочем комбинезоне, с замасленными руками. Неприязненно посмотрел на Баранова.
– Жаловаться пришли? Послушайте, Баранов, идите и разбирайте. Трактор я не выпущу! Хватит этой негодной практики! Привыкли – только бы в поле. А потом гробили машины, срывали сев! Как вам не совестно! Ведь для себя работаем. А вы – лишь бы с рук.
Ращеня знал, в чем дело. Как-то в последние дни декабря, во время аврала, для того чтобы дать в сводку выше процент, срочно отремонтировали один трактор. Костянок тогда был в отъезде, трактора он не принимал, а теперь проверил и возмутился, потребовал начать ремонт сначала. Но делать это сейчас, перед приездом комиссии, – значит зачеркнуть все свои достижения и выставить напоказ ошибки. Ращеня, не сумев уговорить главного инженера, пошел на хитрость и потихоньку распорядился трактор не разбирать, пока комиссия не уедет из МТС. Он думал, что Костянок в конце концов примирился с этим, так как всё утро разговора о тракторе не было. И вдруг – на тебе! Тимох Панасович страдальчески сморщился, как бы прося: «Смилуйтесь вы надо мной, стариком».
– Сергей Степанович, дорогой мой, через часок-другой приедет комиссия…
– Да что вы мне эту комиссию тычете! Неделю уже работа вверх дном из-за нее! Как будто мы работаем для комиссии!
– Но к чему нам подставлять себя под удар, когда мы честно потрудились? Ну, случился грех… Выправим…
В это время к конторе подъехали машины. Ращеня взглянул в окно, увидел Журавского, выходившего первым, вскочил, помянул недобрым словом товарищей из района, которые подвели его своей информацией, и, на ходу оправляя толстовку, бросился встречать комиссию.
– Рад, рад за тебя, старик, молодчина!.. – говорил Ра-щене министр, годы которого выдавала только щетка коротко подстриженных седых волос.
Ращеня от этой похвалы смутился, как девушка.
– Немного вас удержалось, ветеранов… Вот Зухова к тебе привез… Он кричит, что никому не отдаст переходящего знамени.
– И не отдам, Николай Николаевич! – уверенно заявил Зухов, директор передовой в области Салтановской МТС, придирчиво оглядывая кабинет и сквозь открытое окно – усадьбу.
Он успокоился, когда увидел, что первое впечатление от станции не в пользу криничан. Его станция несколько лет держит первенство, ей, как передовой, отпускали больше средств, и потому контора, мастерские, навесы у него пригляднее.
– А мы посмотрим, посмотрим, – приветливо улыбнулся Николай Николаевич. – Пока известно одно: ремонтировали они лучше тебя, Зухов, все время перевыполняли график.
– А качество?
– За качество можете быть спокойны! – заметил Журавский, весело кивнув Сергею.
Это как бы подбодрило главного инженера. Он вышел из угла, где стоял, уступив стулья гостям.
– О качестве можете не беспокоиться, – повторил Сергей слова Журавского, обращаясь к Николаю Николаевичу. – А вообще, товарищ министр, рано мы цыплят считаем… Не сейчас проверять надо, когда тракторы в поле выходят. Когда вернутся – вот когда…
– Проверим и тогда, – заметил заведующий областным отделом, недовольный дерзостью инженера. – Но проверим и сейчас. Вы что, против контроля?
– Почему против? Я буду только благодарен, если вы укажете нам наши ошибки, недочеты…
Испуганный Ращеня прошел мимо Сергея и наступил ему на ногу: «Молчи!» Секретарь райкома по зоне дергал за рукав. Члены комиссии переглядывались: «Чудак человек!»
– Но ведь вы приехали нас передовиками объявить… Машину корреспондентов привезли… Что ж, люди работали действительно хорошо, их стоит отметить… Но не умеют у нас хвалить, вот чего я боюсь… Как не умеют иной раз и критиковать. Если критика – так на уничтожение. Хвалят – так взахлеб. Я же знаю: стоит вам сказать – МТС передовая, как напишут невесть что… «Своих успехов МТС добилась благодаря высокому уровню политико-массовой работы», – это уж в первую очередь. А это неправда! Пускай обижаются на меня секретари, пускай это покажется парадоксом. Слабо у нас поставлена партийная работа, особенно в колхозах. А напишут, что все хорошо, – и мы сами поверим в это, поверим, что мы лучше всех… Успокоимся… И другие поверят, ещё опыт захотят перенять…
– Что ты митингуешь? – раздраженно перебил его секретарь по зоне. – Тебе кажется, что один ты работаешь, ты один все сделал!
– Не мешайте, – сказал Журавский со смехом в голосе. – Дайте человеку высказаться…
Министр бросил на секретаря недовольный взгляд. Ему тоже хотелось, чтоб ещё одна МТС вышла в передовые, чтоб о ней писали, упоминали в докладах, а тут нашелся вдруг какой-то чудак.
Зухов делал вид, что его этот разговор не интересует, что это их внутренние дела, а он – гость, однако хитро наматывал все на ус, разглядывая в окно окрестности.
Один из корреспондентов что-то записывал в блокнот, с любопытством поглядывая на Костянка.
– Напишут, что у передовиков все идеально. А иначе – какие же они передовики, если у МТС нет столовой, не хватает мест в общежитии, нет клуба. С кадрами неблагополучно… Нам, например, пришлось нанять хату, чтоб организовать столовку, а это – за километр от усадьбы…
Ращеня, чувствуя, что дело плохо, не выдержал, засуетился.
– Николай Николаевич, Костянок в плохом настроении. Мы тут перед вашим приездом поссорились из-за пустяка.
– Не из-за пустяка, а из-за трактора.
– Ага, месть директору, – пошутил министр. – Вы кем работаете, молодой человек?
Сергей не ответил. Десять минут назад они знакомились, и он назвал свою должность.
– Главным инженером, – подсказал кто-то.
– Главным инженером? – как будто удивился Николай Николаевич и тут же переменил тон. – Ну что ж, тогда показывайте свои владения. Но, знаете, это опасно – не хотеть быть передовым.
– Вы меня неправильно поняли. Я хочу этого не меньше других, но – настоящим…
– Ага, вот это откровенно. Значит, пока вы передовики ненастоящие?
Выходя, Ращеня в отчаянии прошептал:
– Ну что ты наделал! Эх, Сергей Степанович!
А на дворе, когда обходили размешанную гусеницами грязь, Сергея придержал за локоть Журавский: – Ты чего это разошелся?
– А куда мы торопимся, Роман Карпович? Мы ещё не встали на ноги, не закрепили первых небольших успехов, не знаем, как будет в поле… Очень мало ещё сделали в колхозах. А нас начнут прославлять. К чему? Испортят людей, и в первую очередь этого тщеславного старика, – кивнул он на Ращеню.
– Обозлился он на тебя.
– Ничего, поладим, – усмехнулся Сергей.
Комиссия ходила долго. Осматривали мастерскую, проверяли машины, беседовали с людьми. Несомненно, многое им нравилось, но никто, кроме корреспондентов, не высказывал своего одобрения. Молчал министр, молчали его подчиненные. Ращеня загрустил: «Все пропало, все старания и надежды. Чего он добивается, этот Костянок? Что ему надо?»
Ращеня приложил немало усилий и находчивости, чтобы провести комиссию мимо трактора, оставленного для повторного ремонта. Казалось, старания его увенчались успехом: комиссия уже отходила от навеса, где стоял этот злосчастный трактор, И вдруг – опять Костянок:
– А вот эту машину пришлось задержать. Нужен повторный ремонт.
Ращеня от отчаяния даже застонал: «Зарезал, сукин сын, окончательно зарезал».
Министр, который до сих пор ничего не записывал, достал из кармана сложенную вдвое ученическую тетрадь и что-то отметил.
– А теперь в колхозы. Одеваться не будете? – обратился он к Костянку.
– А я не поеду. У меня – экзамен.
– Какой экзамен?
– Группа учеников старших классов изучала трактор и комбайн. Сегодня проверяем их знания.
– Сергей Степанович, а может, отложим? – попросил Ращеня, боясь, что отказ Костянка сопровождать начальство окончательно испортит впечатление – и тогда уж не только в передовые не попадешь, но и выговор получишь.
– Я уже договорился в школе.
– Жаль, что у нас мало времени, – сказал Журавский.
– Ну что ж, это дело полезное, оставайтесь, – с кислой миной разрешил Костянку Николай Николаевич.
Но ни он, ни даже корреспонденты не заинтересовались этим новым и действительно полезным начинанием. «Ну и черт с вами! – подумал Сергей. – Без вас ребята себя спокойнее чувствовать будут».
– Тяжелый человек твой инженер, – с сочувствием сказал Николай Николаевич Ращене, когда машина выбралась на дорогу.
– Видно, работать не хочет, – прибавил заведующий областным отделом.
Если б не эта фраза, Ращеня, возможно, и согласился бы, что и в самом деле тяжелый, но тут, как человек честный, не мог не возразить:
– Кто? Костянок работать не хочет? Что вы! Чудесный парень! Золотые руки! Да он, если хотите знать, всю МТС вытащил.
Руководители удивленно переглянулись: ничего нельзя понять – тот явно «топил» директора, а этот, чудак, его хвалит.
– Просто он мрачно настроен. Горе пережил! Пять лет, – Ращеня и сам не знал, зачем прибавил, – любил женщину. И как любил! Врача нашего. А она недавно за директора школы вышла.
– Пять лет?
Все вдруг заинтересовались этой романтической историей, даже молчаливый шофер. – Не может быть!
– Клянусь. Всё на моих глазах происходило.
– Пять лет водила за нос! Фу, черт! А что она, хороша?
– У-у! Женщина – огонь! – Ращеня обрадовался, что расшевелил Николая Николаевича, поднял настроение заведующего областным отделом. – Но робкий он, Сергей… Работяга, знаете ли, этакий. Покуда заочно академию закончил… Я ему не раз говорил, как сыну, он ведь мой воспитанник: «Сергей, не тяни, проморгаешь». И вот пожалуйста…
– Ого, бабы робких не любят! – мудро заключил шофер.
– А директор этот, видно, донжуан?
– Да нет, как будто тоже хороший человек.
– Вот, брат, какие ещё истории случаются – по пять лет любят, – с грустью вздохнул Николай Николаевич, вспомнив, должно быть, о чем-то своем.
И все по-человечески поняли Сергея Костянка.
В МТС вместе со школьниками пришел и Лемяшевич. Он не мог не пойти, ведь это же его идея – кружок по изучению сельхозмашин. Он должен довести начатое дело до конца. Так, между прочим, он сказал и Наташе, когда она выразила по этому поводу свои опасения. Но, откровенно говоря, он и сам немножко побаивался: а что, если Сергей и при ребятах не станет с ним разговаривать? Что тогда делать? Все-таки верх взяла уверенность, что Сергей будет благоразумен и никакой бестактности в присутствии учеников себе не позволит. Если же все обойдется хорошо, это послужит шагом к примирению. На экзамене им поневоле придется разговаривать друг с другом. Нельзя же все время молчать.
Сергей встретил их во дворе, у мастерской. Лицо его успокоило Лемяшевича: на нем не отразилось ни злобы, ни раздражения, обыкновенное лицо занятого человека, чем-то озабоченного, немного усталого.
Володя Полоз протянул ему руку, и он стал здороваться со всеми за руку. Наряду с другими поздоровался и с Лемяшевичем. У Михаила Кирилловича радостно екнуло сердце.
– Все? – спросил Сергей, оглядывая школьников.
– Все, – сказал Лемяшевич. – Волотовича не будет, поехал, с комиссией.
– Жаль. – И Сергей направился в мастерскую. Следуя за ним, ребята подошли к трактору, который они начали разбирать.
– Вот здесь и будем экзаменоваться. – И он достал из кармана билеты – карточки из толстой бумаги. Увидев билеты, школьники заволновались. – Кто самый смелый?
Первой подошла Катя Гомонок, за ней – Петро Хмыз. Сергей позвал Козаченко:








