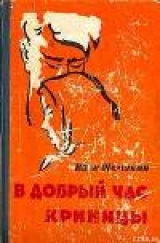
Текст книги "Криницы"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Малашенко, по приглашению Алены Семеновны, пошел ночевать к Бородке. Шли молча.
Артем Захарович глубоко, полной грудью вдыхал морозный воздух и смотрел на заснеженную улицу, покрытые инеем деревья, телефонные и телеграфные провода, обледеневшую колонку, возле которой катались на ногах мальчишки, точно видел все это впервые. Секретарь обкома с любопытством следил за ним тайком, представляя, что переживает сейчас «побитый». За время совместной работы он хорошо изучил характер Бородки, его самолюбие, гордость. Однажды он даже в шутку спросил: «Ты, Артем, не из шляхты ли, случайно?» Бородка рассердился тогда за неуместный вопрос.
Дома молчать было нельзя. Алена Семеновна сразу по виду мужа догадалась, что ему «всыпали». Она только взглядом спросила у Малашенко: «Крепко?» И, получив утвердительный ответ, в первый раз пожалела мужа, понимая, как ему сейчас тяжело.
Покуда она возилась на кухне, Бородка прошелся взад-вперед по комнате, остановился возле Малашенко, который просматривал свежие газеты, и спросил:
– Как тебе это нравится?
– Что? – поднял голову Малашенко, не сразу поняв, о чем он говорит, и думая, что это относится к чему-то в газете.
– Работа Волотовича.
– Какая работа?
– Его, с позволения сказать, «критика» и все, что им организовано.
– Что ж, критика как критика. Кое-что в ней субъективно…
– Все субъективно! Заушательство!.. Старые обиды… Мстит! И, заметь, это нездоровое явление – группировка, созданная с целью разгромить первого секретаря райкома…
Малашенко, пряча хитрую усмешку в глазах, прищурился.
– Ты кое-кого громил покрепче – и ничего, живы, здоровы, работают.
– Что ты равняешь? – Бородка бросил на стол газету и снова зашагал по комнате. – Я критикую, чтоб улучшить работу, а тут… Я тебе скажу… Если ты не дашь должного отпора, не поставишь на место этого старого демагога, который носится со своей мнимой принципиальностью… я вынужден буду ставить перед обкомом…
На лицо Малашенко словно упала тень.
– Ты что же… хочешь, чтоб я именем обкома оградил тебя от критики коммунистов?
– Это не критика.
– Нет, это критика! Критика настоящая, направленная на пользу дела, возможно, в большей степени, чем твои «разносы». В Волотовиче говорит боль коммуниста за положение в районе… А ты – «поставить на место»… Странно ты толкуешь партийную демократию.
– Ну, конечно, я позабыл… Вам лучше знать, – обиженно отвернулся Бородка.
Неожиданное «вы» и вообще весь тон Бородки неприятно поразили Малашенко. Если бы не хозяйка, которую он искренне уважал и не хотел обидеть, он, наверно, ушёл бы из этого дома.
Алёна Семёновна принесла закуски и, услышав, что между мужчинами идет серьёзный разговор, деликатно вышла опять – пускай договаривают.
– Да, – вздохнул Артем Захарович, – был Бородка первым в области… и стал Бородка…
Малашенко отодвинул газеты.
– Прости меня, но ты трус и паникёр! Покритиковали – и сразу раскис. Отвык ты от критики, вот что я тебе скажу!
Он сел за стол рядом с хозяином и положил себе на тарелку капусты.
– Ты признаешь только критику сверху! Тебя на бюро обкома не так крыли – и ты соглашался и благодарил. А тут заело: как посмели критиковать тебя, Бородку, первого секретаря! – Малашенко вдруг просто, по-дружески положил руку ему на плечо. – Нельзя так, Артём… Пойми. Не то время. Народ активизировался. Теперь лучше всего – признать свои ошибки. И не становиться на дыбы. Поддержат Волотовича, а не тебя. Так-то! – Он снял руку и весело позвал: – Алёна Семёновна! Ждем вашей команды. Без вас не можем начинать!
Малашенко в своей недолгой речи (делегаты ожидали, что секретарь обкома, как многие представители из центра, будет говорить часа два, а он занял только полчаса) поддержал Бородку. В его выступлении было немало дельных замечаний о работе райкома, но он дал понять, что обком рекомендует Бородку первым секретарем.
– Я, хорошо зная товарища Бородку, не сомневаюсь, что он сделает из вашей принципиальной критики на этой конференции правильные выводы, – сказал Малашенко делегатам, которым предстояло через час-два выбирать районный комитет.
Бородка, которого успокоила и подбодрила речь секретаря обкома, в заключительном слове действительно пообещал «сделать все выводы». Однако свой страх перед голосованием он обнаружил на совещании представителей делегаций, где предварительно обсуждали кандидатуры будущих членов райкома. Неожиданно Полоз, загремев костылями, предложил включить в список Лемяшевича.
Внешнее спокойствие изменило Бородке, он подскочил к самому краю сцены, наклонился над Полозом, сидевшим в первом ряду.
– Вместо кого? – Он протянул руку со списком и потряс им над головой у Полоза. – Нет, вы скажите – кого вычеркнуть? Кого? Нам нужно сорок пять, и у нас есть сорок пять. Кого вычеркнуть?
– Никого не нужно вычеркивать. Голосование покажет. Я предлагаю своего кандидата – Лемяшевича и, если надо, докажу, что он достоин.
– Не разводите вы анархии со своим Лемяшевичем!
– А вы поставьте на голосование! – спокойно и твердо требовал Полоз.
Его смелость и уверенность – на это до сих пор ещё никто не решался – и испугали и возмутили Бородку. Он начинал терять самообладание. Опасаясь, что Бородка наделает глупостей, и понимая его страх перед лишним человеком в списке, Малашенко пришел ему на помощь.
– Погодите. Товарищ Полоз должен понять… От вас – Волотович и ещё два человека из МТС. Лемяшевич безусловно достоин быть членом райкома, но нельзя же, товарищи, чтобы половина состава райкома была из Криниц.
Довод был убедительный, его сразу все поддержали.
– Из нашего колхоза нет ни одного.
– У нас никого из сельсовета, и мы молчим.
Полоз, обведя всех хитрым взглядом, снял свое предложение.
И голосование показало…
Председатель счетной комиссии – главный бухгалтер банка Цирюльников, низенький, толстый, неизменно жизнерадостный человек (его на каждой конференции выбирали в счетную комиссию), – на этот раз вышел на трибуну без привычно веселой улыбки, какой-то растерянный, даже как будто испуганный. Зал сразу затих и насторожился, чувствуя, что произошло что-то чрезвычайное.
Голос Цирюльникова звучал хрипло, пока он читал протокол номер один – о распределении обязанностей между членами комиссии.
– Выпей воды! – крикнули ему.
Он послушно выпил полный стакан воды.
– …Анипка: за – сто тридцать семь, против – пять. Богданов: за – сто сорок два, против – нуль. Бородка… – Цирюльников как бы задохнулся и испуганно глянул в сторону президиума, – за – шестьдесят четыре, против – семьдесят восемь…
Он остановился. В зале кто-то ахнул, кто-то засмеялся. Бородка тяжело встал, мрачно посмотрел куда-то в задние ряды, где было темновато и дымно, глухо сказал! – Ну, спасибо…
И, по-стариковски ссутулясь, пошел со сцены. Малашенко окликнул: – Артём Захарович! Бородка не оглянулся.
29
Он остановился на знакомом крыльце, запорошенном снегом, – крыльцо выходило прямо на улицу. Вокруг было темно, тихо и пусто: ночь перевалила на вторую половину. Деревня спала. Спали и в доме. Только ветер тонко звенел голыми, обледеневшими ветвями старой ивы под окном, кидал пригоршни сухого снега, гнал по улице снежные коемы, наметая сугробы у плетней и колодцев.
Человек, которому уже стукнуло сорок, вдруг почувствовал, что очень волнуется, сердце бьется так, что удары его больно отдаются в висках. Волнуется, как юноша, пришедший на первое в жизни свидание. Нет, это волнение другое: в нем преобладает страх, как перед приговором. Он не мог решиться постучать, как не раз стучал в эти двери раньше. Он и в самом деле не был здесь больше двух месяцев, и ему после всего, что случилось сегодня на конференции, становилось страшно от мысли, что и здесь его встретят не так, как жаждет его душа.
Он перчаткой сбил снег с сапог, вытер платком мокрое лицо, все время оглядываясь – хоть бы никто, припозднившись, не прошел и не увидел его на этом крыльце!
Наконец он постучал, и от этого нерешительного стука у него ещё сильнее забилось сердце. Хлопнула дверь из комнаты в сени, и голос, старушечий, совершенно незнакомый, спросил:
– Кто там?
Бородка вздрогнул: «Что ещё за новости? Откуда тут взялась эта старуха?» Он не ответил, и голос повторил:
– Кто там?
«Может быть, Марина взяла какую-нибудь старушку, чтоб не оставаться одной. Боязно». Он спросил:
– Марина Остаповна дома?
В ответ щелкнула задвижка, дверь отворилась, в темных сенях мелькнула белая фигура. Он вошел вслед за ней в комнату, чиркнул спичкой. В той половине хаты, которая служила раньше кухней и где стоял один только стол, теперь прежде всего ему бросилась в глаза кровать и на ней две всклокоченные головы – женщины и девочки. Незнакомая женщина посмотрела на него и сразу натянула одеяло на голову, спряталась, как бы испугавшись, что её узнают. Почувствовав присутствие ещё одного человека, он повернулся. Кто-то, вздыхая, умащивался на лежанке, должно быть та самая старуха, которая ему отворила, но спичка погасла, и Бородка не разглядел её.
Он прошел на чистую половину, прошел осторожно и так же осторожно зажег другую спичку, Тут все знакомо, все так, как было. Он увидел Марину, Она спала, красивая и желанная; пышные волосы рассыпались по подушке, поверх одеяла лежала голая рука. Она проснулась, когда он чиркнул ещё одной спичкой. Открыла глаза, взглянула без удивления и радости, спокойно и равнодушно, как будто он вышел из этой комнаты час назад, сказала:
– Ты, Артём?
– Где лампа? – не здороваясь, спросил он.
– Там, на кухне. – И вдруг она спохватилась – Погоди, я сама. Там люди.
Она соскочила на пол в одной короткой сорочке, неслышно проскользнула мимо него, и через минуту он почувствовал запах керосина, потом увидел, как её фигура проплыла к столу.
Когда он зажег лампу, она сидела на постели, укрыв ноги одеялом и кутаясь в большой шерстяной платок.
– Что за люди?
– А это та самая учительница… Сухова. Я решила их пустить. Снимать им трудно – трое их. А она – женщина тихая, и, главное, девчушка у неё забавная такая. – Лицо Марины Остаповны осветилось радостью, но она взглянула на Бородку и, встревоженная, спросила: – Что случилось, Артём?
Он подошел к кровати, тень от него упала на Марину и, огромная, заколыхалась на стене. Он сделал движение, будто хотел обнять её, но не обнял и снова прошелся по комнате, плотнее прикрыл дверь.
– Что ж, это даже лучше… Квартира нам больше не нужна. Уезжаем.
– Куда уезжаем?
– Куда? – Он на миг смешался, так как не думал, куда можно уехать. – Найдем место… Проживём!
– Нет, ты скажи – что стряслось?
Бородка снова остановился возле кровати, и лицо его так исказилось от боли и злобы, что Марина испугалась.
– Что стряслось? Меня прокатили… Не выбрали… Вот что стряслось… Это – благодарность за то, что я шесть лет, не зная ни дня ни ночи, работал как вол… И вот – пожалуйста… Достаточно было выступить какому-то Волотовичу, который сделал красивый жест – пошёл в колхоз… Достаточно было этому старому демагогу сгруппировать вокруг себя разных Лемяшевичей, и они всё повернули, как им вздумалось! Демократия! Нет! Это не демократия, это – анархия. Плохо они понимают демократию! И Малашенко – дрянь. Старый друг, называется! Карьерист!..
Пока он ходил по комнате и злобным полушепотом высказывал свое возмущение, Марина Остаповна молчала. Обхватив руками колени, прикрытые одеялом, она оперлась на них подбородком и, казалось, не слушала, что говорит Бородка, а думала о чем-то своем.
Когда он наконец остановился и замолчал, она сказала тихо, как бы отвечая самой себе:
– Никуда я больше не поеду!
Бородка шагнул к постели, сдернул платок и сжал холодными пальцами её горячие голые плечи.
– Марина! Я летел к тебе среди ночи. Ты единственный родной мне человек. И ты должна понять… Наконец, все это и заварилось из-за тебя.
Она спокойно сняла его руки со своих плеч и, качая головой, тихо, но твердо повторила:
– Я не поеду, Артём.
Он устало присел на кровать, закрыл лицо руками.
– Да… конечно… теперь я тебе не нужен. – В голосе его не было уже ни злобы, ни гнева, но не было и печали, жалобы, а только усталость и безразличие ко всему.
А она отвечала не ему, а своим сокровенным мыслям: – Мне тридцать пять лет… Да… Я много ездила, искала. И чего искала? Счастья? А счастье – это так просто… Ведь вот Сухова, даже та счастливее меня… У неё умер муж, но у неё дочка. Хорошенькая такая девочка!.. Беленькая, глазки голубые… целый день звенит, даже в доме веселей стало, словно весна пришла… – Она тяжело вздохнула. – Когда меня бросил первый муж, я болезненно переживала это, но не понимала его тогда, а теперь поняла. Мне было двадцать три, а ему тридцать, ему очень хотелось ребенка… Я думала, что нашла счастье, когда встретилась с тобой… Правда, три года я себя чувствовала счастливой… Мой второй муж плакал, когда я уходила от него, целовал руки, умолял, он любил меня, но я ненавидела этого хлюпика… Я жила с ним, а думала о тебе… Ты позвал – и я прилетела сюда, бросила город… Прилетела с надеждой… На что я надеялась? На счастье? На какое? На краденое счастье? Нет, больше я не хочу краденого счастья! Разве это счастье?! Боже мой!.. Мне бы ребенка! – вдруг прошептала онаи умолкла. – Но уже поздно. Говорят: бабий век – сорок лет… Куда ты меня зовешь, Артём? Зачем? На что я тебе? На потеху? Красивая содержанка! Ведь так? – вдруг громко, со злостью спросила она, глаза её блеснули.
Бородка отнял руки от лица и удивленно посмотрел на нее.
– Когда свалилась на тебя неприятность, ты набрался храбрости связать свою судьбу с моей. Но надолго ли? Вот ты говоришь: всё это из-за меня. И ты ведь не простишь… Я знаю, ты не простишь мне этого. Я знаю, что тебе всего дороже… И никуда ты отсюда не уедешь! У тебя семья, дети… Дети! И должность новую тебе дадут только здесь. Так чего же ты ищешь? У тебя же всё есть! Правда, сегодня ты много пережил – я понимаю. Для тебя это тяжелый удар… Но, чтоб утешиться, ты нашёл виноватых!
Он как-то хмыкнул – неопределенно, не то презрительно, не то печально, встал и отошел к столу. Неожиданно грубо спросил:
– Выпить есть что-нибудь? Я устал как черт.
Марина Остаповна отрицательно покачала головой, должно быть все ещё продолжая думать о себе.
– Не ждала? – спросил иронически.
– Не ждала, – созналась она.
30
Даша Журавская прилаживала на окна новые гардины, когда вернулся с работы Роман Карпович. Сын сразу кинулся к отцу, семилетняя дочка, стараясь показать, что она уже взрослая, продолжала помогать матери.
Отодвинув диван, взгромоздив на табурет детский стульчик, Даша стояла перед окном, босая, в халате, широкие рукава которого упали на плечи и обнажили красивые руки, ещё бронзовые от летнего загара; она прибивала карниз.
– Опять? – укоризненно спросил муж.
Даше нравилось, чтоб в квартире было красиво, уютно, и она каждый раз покупала новые вещи.
– Нет, ты только посмотри! Дешёвые, а как красиво!.. Не каждый день такие встретишь, три часа в очереди пришлось простоять.
Она держала во рту гвозди и потому смешно шепелявила. Сын, забравшись к отцу на руки, начал смеяться и передразнивать.
Роман Карпович не стал спорить и пошел мыть руки.
– Ну, скажи – разве не красивые? – спросила Даша, когда он вернулся.
Ей, как каждой женщине, хотелось, чтобы муж похвалил покупку. Она сидела у стола, продергивала шнурок во вторую гардину и любовалась той, которая уже висела. Он улыбнулся в ответ, но совсем не так, как обычно в этих случаях, – хмуро, с иронией. Она заметила это и насторожилась.
– Погоди, кончу, будем обедать.
– Пожалуйста, – ответил муж, не проявляя особого интереса и к обеду.
Это ей тоже не понравилось. Человек здоровый, с отличным аппетитом, он обыкновенно кричал уже с порога: «Даша! Обедать!»
Роман Карпович прошел в соседнюю комнату, остановился перед книжными полками, занимавшими всю стену, и долго смотрел на книги так, как будто прощался с ними. Потом подошел к приемнику, включил и тут же выключил, сел в мягкое кресло у стола и потрогал старые гардины, которые через минуту будут заменены новыми. Даша через открытую дверь тайком наблюдала за ним. «Что-то случилось». Но она знала, как бывает тяжело и неприятно, когда в такие минуты начинают лезть с расспросами, даже если это делает и близкий человек. Поэтому она никогда, заметив, что муж расстроен, не обнимала его, не целовала, не спрашивала ласково: «Что случилось, Рома?» Она вошла в комнату с гардиной и сказала:
– Принеси табурет.
Роман Карпович принес табурет и хотел влезть на него, но Даша не позволила.
– Погоди, я сама, ты в ботинках, перемажешь мне все.
Он поддерживал табурет, чтоб она не упала. Стоя там, наверху, не прекращая работы, она спросила шутливо и как бы между прочим:
– Не секрет, чем расстроен товарищ Журавский?
– Чем? – Он с благодарностью посмотрел вверх, на её руки: молодчина, своим тоном она помогла ему начать разговор. – Товарища Журавского посылают в район.
Даша круто повернулась и, верно, упала бы, если б он не подхватил её на руки. Она вскрикнула, обняла его за шею, прижалась на миг, но тут же освободилась от объятий и, чуть побледневшая от испуга, спросила с изумлением:
– Тебя? На работу?
Четыре месяца шла кампания – направляли ответственных работников из города в деревню, в сельские районы, но ей ни разу и в голову не пришло, что могут послать её мужа, кандидата наук, ответственного работника ЦК.
Она присела на краешек дивана, поправляя волосы, и сразу стала не по-домашнему серьёзна, как будто даже растерянна; в то же время какая-то торжественность и важность появились в её лице, как это бывает у женщин в новоротные моменты жизни.
Роман Карпович отошел к книжной полке и стал выравнивать книги, стараясь, видимо, скрыть свое волнение.
– Ну вот… видишь, как бывает… Когда я сам посылал людей, мне казалось, что это проще, чем мне старались доказать. А оно вон как: ты – в институте, Таня – в музыкальной школе. Я мечтал за докторскую взяться… И вот – иди секретарем. И куда? Знаешь, куда? В наш район! Откуда пришел – туда и возвращайся. Как тебе это нравится?
Она вопросительно посмотрела на мужа. Он объяснил: – Конференция провалила Бородку, Не понимаю, что там у них произошло.
– А я понимаю, – сказала Даша. – Я давно тебе говорила: зазнался, считал, что ему все позволено.
– Не буду спорить… Ты безусловно, как всегда, права. Он хотел пошутить, но шутка не вышла. Даша вертела концы пояса от халата. Он понял, что она нарочно не смотрит на него, воспринял это как укор, как осуждение и растерялся. Хотелось объяснить ей все это так, чтоб не вызвать с её стороны упреков, а главное – не огорчить. Даша не заплачет, не посетует – он это знал, но ему было жалко её: не легкая у неё была жизнь. Как она радовалась, когда поступила в институт, и потом, когда получили эту уютную квартиру, И вот всё надо бросать… «Пойми меня, мой добрый друг, как ты всегда понимала». Он присел к столу и сказал серьёзно, почти официально:
– Меня волнует ещё и другое… Все ли там правильно отнесутся к моему возвращению? Окончил академию, работал в ЦК и вдруг обратно.
Даша вдруг подошла и встала рядом. Теперь он боялся взглянуть на нее, ожидая жестких слов. Но рука её ласково легла ему на плечо.
– Зачем ты меня агитируешь?
– Я? – Роман Карпович взглянул на нее с тревогой и радостью.
– Что я, не вижу?! Уговариваешь, как девочку. Мне просто обидно. Вспомни, в сорок первом мы не раздумывали и не решали, где нам будет лучше, где хуже и какую должность ты займешь – командира или рядового бойца… Мы с тобой первыми ушли в лес. И если так нужно сегодня… Ведь ты же сам согласился, разве я не вижу! Так зачем тебе меня уговаривать? Постыдился бы!
В радостном порыве он не обнял её, а крепко, до боли сжал руки. А когда она охнула, он подул ей на пальцы, как маленькой, и поцеловал их. Дети с веселым смехом бросились к родителям. Несколько минут они напряжённо следили за ними, прячась за дверью. Им показалось, что родители собираются поссориться, и они совсем растревожились, особенно плакса Таня.
31
До вечера осматривал Журавский МТС и колхоз, осматривал, как хозяин, вернувшийся после длительной командировки. Все ему знакомо тут до мелочей, все, что остается неизменным многие годы, – поля, рощи, луг, речка. Но многое и изменилось за шесть лет: выросли новые постройки – фермы, гаражи, мастерские. Он почти каждый год приезжал в Криницы отдыхать, но тогда не так замечал все эти перемены. Оказывается, чтобы все видеть, надо смотреть не глазом дачника, а хозяйским глазом.
Припомнилось начало его секретарской деятельности, сразу же после прихода Советской Армии, когда они, партизаны, вернулись на родные пепелища. С чего они должны были начинать? Здесь, в Криницах, которые, кстати, только наполовину были сожжены, не осталось ни одного коровника, конюшни, да и коров не осталось ни одной, а лошадей – десятка два калек, выбракованных из армии. На должности председателей попадали какие-то случайные люди, которых каждый год приходилось менять. А теперь? Пускай ещё не самая лучшая МТС, пускай ещё и колхоз только средний… Но какие возможности, какие перспективы! Есть где развернуться, есть с кем работать! Какие люди выросли! В МТС – Сергей главным инженером, тот Сергей, которого он, Журавский, помнит мальчишкой и когда-то, ещё в бытность свою секретарем райкома комсомола, принимал в комсомол. А председатель колхоза какой профессор!
Он мало знал Волотовича и встречался с ним всего один раз: приехал как-то летом, не застал Бородки и обратился к председателю райисполкома – попросил машину, чтоб добраться до Криниц. Волотович его знал больше, так как ему рассказывали о прежнем секретаре, да и не раз он видел и слушал Журавского на республиканских совещаниях. Теперь, пробыв несколько часов вместе, сперва – в МТС, потом – в конторе правления и на фермах, они познакомились ближе.
Уже вечерело. Они задержались на ферме, смотрели, как доят коров. Волотович только что получил первые доильные аппараты, но работали они почему-то плохо. Молоденькая девушка-зоотехник, которая уже три дня обучала доярок, боялась признаться, что она и сама не умеет пользоваться ими, и чуть не плакала от отчаяния. Роман Карпович и председатель помогли ей разобраться, в чем причина неполадок.
Волотовичу хотелось показать секретарю ещё свинарник с механизированной кормокухней. Но свинарник этот находился в Задубье, за три километра, а на дворе начиналась метель.
Журавский шутливо запротестовал:
– Смилуйтесь, Павел Иванович. Тем более что я, по правде сказать, приехал к тестю в гости. Жена там ждет, родичи… Идёмте лучше погреемся.
В хате у Степана Костянка было, как на праздники, намыто, начищено, прибрано. Печь дышала жаром и такими ароматами съестного, что сразу разгорался аппетит. На чистой половине Даша накрывала столы, накрывала искусно, по-городскому, и в доме все ей подчинялись. А она сама любовалась плодами рук своих и тут же укоряла растерявшихся родителей:
– Что это вы точно к свадьбе готовитесь! Просто пообедаем – и все.
Но и Степан Явменович, и Улита Антоновна, и сама Даша знали, что будет не просто обед, так как людей придет немало, даже если и не приглашать; одни захотят повидать Романа Карповича, другие – Дашу.
Адам пришел из школы, потянул носом воздух, увидел Дашу с засученными рукавами и, вместо приветствия, пошутил:
– Приемчик налаживаешь в честь нового секретаря, Дарья Степановна?
Матери, должно быть, послышалось что-то обидное в этих словах, и она сказала в сердцах:
– Типун тебе на язык, Адамка.
Костянки рады были возвращению зятя и дочки в родной район. Улита Антоновна, правда, сначала потихоньку спросила у Даши:
– Дашенька, а не понижение это для Романа? Но Степан Явменович одобрил их переезд сразу же, как только получил письмо, рассуждая просто и по-крестьянски мудро:
– Давно бы так. А то все Потапов выделяли. Нет, Потапы колхозов не подымут. Теперь нужны люди ученые. Вот это дело другое! Волотовича – в колхоз, Журавского – в район. Напрасно Бородку отпустили. Из него тоже председатель вышел бы…
Но ещё больше приезд Журавских обрадовал Лемяшевича. Он и сам не понимал причины своей радости, но ходил последние дни именинником, с нетерпением ожидая нового секретаря, словно тот вёз лично для него новую жизнь. Он не выдержал и пришел к Костянкам раньше всех. Увидел Дашу и смутился, как влюбленный. А она долго и крепко жала ему руку, весело смеялась.
– Ага, стыдно вам? Ни одного письма – подумать только! – Писал.
– И он называет это письмом и оправдывается. Когда приехал, написал, поблагодарил – и конец дружбе. Я думала, вы женились тут.
– А его таки чуть не оженили… – пошутил Адам.
– Садитесь и рассказывайте всё подряд. А то о вас легенды ходят.
– Какие легенды? – не на шутку встревожился Лемяшевич. – Легенда – всегда плод фантазии, Дарья Степановна. А мне и рассказывать нечего. Работал, делал ошибки, как любой смертный…
– Рассказывайте об ошибках. От меня вы не отвертитесь. Я вас заставлю рассказать. Разве не я вас сюда сагитировала? Ай, мама, пирог! – глянула она на часы и бросилась к печке. – Простите, пирог – это мое творчество.
Лемяшевич с любопытством наблюдал за Дашей, как она хлопочет возле печки, и в этот миг почему-то представил свою холостяцкую квартиру, где, несмотря на все его старания и помощь друзей, все-таки нет того уюта, какой создает в доме хозяйка, и ему стало грустно; он почувствовал себя в жизни одиноким и неустроенным. «Нет, надо жениться», – подумал он, но от этой мысли не стало веселее, сразу вспомнилась Наталья Петровна. В глубокой задумчивости смотрел он на Журавскую, а видел её, Наташу. Чем дальше, тем сильнее и сильнее овладевает им чувство, и радостное и вместе мучительное. Теперь он уже знал, что это не просто увлечение, какие бывали у него иной раз, а настоящая любовь, горячая и глубокая, в которую он раньше не очень-то и верил, думал, что она существует только в книгах. Он чувствовал, что долго так не может тянуться, что надо что-то делать. Но что? Что он может сказать, на что может надеяться? И как потом смотреть в глаза Сергею, этому кристально чистому, детски доверчивому человеку? «Скорей бы они поженились, – не раз думал он долгими бессонными ночами. – Тогда не осталось бы никакой надежды – и точка. Мало ли на свете хороших женщин!»
Улита Антоновна поставила на стол горячий пирог, который передала ей Даша, прикрыла полотенцем, как прикрывала хлебы, вынув их из печи и смочив румяную корочку водой.
– Кириллович, – вывела она из задумчивости Лемяшевича, – а Алёша-то не приезжал в Минск, – и прослезилась.
– Как не приезжал? А письмо?
– В письме он писал, что живет у Даши, передавал привет, а они и в глаза его не видели.
– Это вы ему внушили такую скромность? – спросила Даша у Лемяшевича.
– Гонора у него много, а не скромности, – сказал отец с порога, входя с большой миской соленых рыжиков.
– Я вам всем простить не могу, что отпустили его, – вздохнула Даша. – Разве можно – из десятого класса!
– Ничего, не пропадет! – успокоил женщин отец. – Я моложе его на Урал на заработки ездил. Самостоятельнее будет.
Пришли Журавский и Волотович, замерзшие, засыпанные снегом, но друг другом довольные, весёлые, все продолжая разговоры – о колхозных делах. Пришел Данила Платонович. Журавский сердечно обнял его. Старик тайком утер слезу и сам обнял Дашу.
– Рад за вас, друзья мои. Спасибо вам.
– За что, Данила Платонович? – удивилась Даша.
– Как за что? Письма мне хорошие писали, за книги. И за то, что вернулись. Знаю, что это нелегко… Но ведь нужно, Роман?..
Старик стоял посреди комнаты и говорил серьёзно и несколько торжественно. Журавский, испытывая неловкость от такой встречи, пошутил:
– Вы меня не агитируйте, Данила Платонович. Я сам себя сагитировал.
– Вот за это спасибо. А хочешь критики – пожалуйста, скажу… Мало ещё опытных людей идет в деревню с охотой. А кто по принуждению – в такого работника я не верю, толку из него не выйдет.
– Еще бы! Какой уж толк, если из-под палки! – отозвался Степан Явменович, расставляя стулья и табуреты. – Однако прошу к столу. Сергея дожидаться не будем. Семеро одного не ждут.
Сергей не захотел срывать занятия со школьниками и пришел поздно, за это его заставили выпить «штрафную». Еще позже пришла Наталья Петровна. На дворе разыгралась февральская метель, засвистела за окном, завыла в трубе. Морозова ввалилась в дом похожая на снежную бабу. Дверь на кухню была открыта, её увидели и радостно зашумели. Даша выбежала и горячо обняла подругу. Сергей помогал ей раздеваться, и лицо его светилось счастьем. Лемяшевич завидовал другу: он, Лемяшевич, не имеет права так встречать её. Да и нельзя ему обнаруживать свои чувства.
Зачем? Пускай ничто не тревожит Сергея, Наталья Петровна шла к столу, обнявшись с Дашей.
– Как я рада, что ты приехала! Если б ты знала, как я рада!
Они сели против Лемяшевича. Сергей сидел на другом конце стола, рядом с Волотовичем. Наталье Петровне налили вино.
– Я из Задубья ехала на санях. Дорогу замело. Я водки выпью. – Она подняла маленькую рюмочку. – За нашего секретаря! – Она сказала «нашего» с той хорошей теплотой, какую умеют придать самым простым словам женщины.
Она не допила своей рюмочки, и её никто не стал принуждать, как Сергея. Лемяшевич не сводил с нее глаз. Она чувствовала его взгляд, краснела и нервничала, хотя в глубине души ей было приятно, что он так смотрит на нее.
Лемяшевич принадлежал к породе тех немногочисленных людей, которые, выпив, редко обретают дар красноречия, а чаще, наоборот, становятся молчаливыми и неловкими. Почувствовав, что слишком явно любуется Натальей Петровной, и испугавшись, что на это наконец могут обратить внимание, он попытался принять участие в общей беседе, но все у него получалось невпопад, и он невольно опять поглядывал на неё – не смеется ли она над ним? Нет, Наталья Петровна шепталась с Дашей.
Журавскии провозгласил тост за женщин, ему захлопали, Лемяшевич протянул бокал к Наталье Петровне и сказал:
– За вас!
– А за меня? – шутя спросила Дарья Степановна.
– И за вас, за всех, – смутился он.
Наталья Петровна тоже покраснела.
Разговор за столом становился все более шумным.
– Нет, Роман Карпович, это сверху кажется, что иначе быть не может… Я так же думал, пока сидел в райисполкоме…
– Адам Макарович, передай, брат, грибки!
– Сходи, Степанка, принеси ещё…
– Нет, послушайте, вы станьте на место председателя, б неделю поймете, что это такое – планирование сверху…
– Не решайте за чаркой государственные дела!
Но до слуха, до сознания Лемяшевича доходили не эти громкие возгласы мужчин, а тихий шепот двух женщин. Он старался не слушать, старался отвлечь свое внимание, поглядывая на другой конец стола, хотел возразить кому-нибудь, затеять спор – и не мог.








