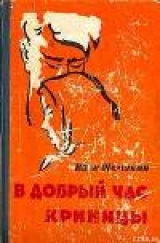
Текст книги "Криницы"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Иван Шамякин – один из самых популярных белорусских советских писателей.
Родился он в 1921 году в крестьянской семье на Гомельщине. С 1940 по 1945 год находился в Советской Армии, воевал на фронтах Отечественной войны. После демобилизации работал сельским учителем, учился заочно в пединституте. Позже окончил партийную школу.
Первым произведением, с которым И. Шамякин выступил в белорусской литературе, была повесть «Месть» (1945).
Широкое признание советских и зарубежных читателей завоевал его роман «Глубокое течение» (1949), за который писателю была присуждена Государственная премия.
Перу И. Шамякина принадлежит тетралогия «Тревожное счастье» (1960), несколько сборников рассказов, а также пьесы и киносценарий.
Широко известны его романы «В добрый час» и «Криницы».
Вошедший в настоящее издание роман «В добрый час» посвящен возрождению разоренной фашистскими оккупантами колхозной деревни. Действие романа происходит в первые послевоенные годы. Автор остро ставит вопрос о колхозных кадрах, о стиле партийного руководства, о социалистическом отношении к труду, показывая, как от личных качеств руководителей часто зависит решение практических вопросов хозяйственного строительства. Немалое место занимают в романе проблемы любви и дружбы.
В романе «Криницы» действие происходит в одном из районов Полесья после сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Автор повествует о том, как живут и трудятся передовые люди колхозной деревни, как они участвуют в перестройке сельского хозяйства на основе исторических решений партии.
Иван Шамякин
КРИНИЦЫ
1

В полдень над деревней прошумела гроза. Туча надвинулась неожиданно и, обрушившись косым ливнем, уползла дальше. Но молния натворила беды: на усадьбе МТС расколола старый дуб, которому давали не меньше двухсот лет, и контузила механика Сергея Костянка.
Весть эта, как обычно преувеличенная, в один миг облетела деревню.
– Убило Костянка!
– Сергея Костянка убило!
Со всех сторон не глядя на дождь народ бежал к МТС. Но Сергея уже отвезли на медицинский пункт. Узнав, что он жив, люди успокаивались и, промокшие, возвращались в деревню. Радовались дождю, хотя в разгаре была уборка и на поле там и сям стояли копны. Но от дождя сейчас, конечно, больше пользы, чем вреда: после почти месячной жары начала желтеть картофельная ботва, вянут овощи. Теперь можно было надеяться, что все это оживет и даст добрый урожай.
Усадьба уже опустела, когда по тропке, вьющейся за огородами, не по годам быстро подошел старик с палкой, в промокшем парусиновом костюме.
– Что с ним? – в тревоге за Сергея спросил он хромого сторожа.
– Ничего. Живой. В больницу повезли.
Старик снял соломенную шляпу, чистым платком вытер лысину, лицо и присел на ржавое тракторное колесо, лежавшее возле дуба.
– Данила Платонович, вы б под навес, а не то в контору бы зашли, – посоветовал сторож и, как бы почувствовав неловкость оттого, что старый уважаемый человек сидит под дождем, а он стоит под крышей, отошел от мастерской. Стороной обошел дуб, с опаской поглядывая на него, точно молния все ещё сидела там, в свежей расколине.
– Да и от дуба этого подальше… Леший его ведает, отчего так часто в него бьет. И громоотводы вокруг, а все одно… – Он кивнул на высокий шест, по которому до земли спускалась проволока.
Данила Платонович не ответил. Он сидел наклонившись, опираясь на суковатую можжевеловую палку, и тяжело дышал.
– Сергей Степанович с машины соскочил и бежал в контору, чтоб от дождя укрыться… Только он к дубу, а тут как рад и трахнуло. Ишь как разворотило… Стихия!.. А Сергей Степанович как-то шутил, что заряд самой сильной молнии стоит рубль двадцать копеек. – Сторож засмеялся. – Вот тебе и рубль двадцать!
Перед ними вдруг появилась девушка лет семнадцати, раскрасневшаяся, в мокром платье и спортивных тапочках.
Она бросила на сторожа неприязненный взгляд и заботливо склонилась над стариком.
– Данила Платонович, вам нехорошо? Я вас провожу домой. – И пригрозила: – Вот попадет вам от Натальи Петровны!
Он поднял голову, и добрая улыбка осветила его морщинистое лицо.
– А-а, Рая?.. Спасибо, Рая. – И неожиданно легко поднялся, поглядел на дуб.
Дуб и в самом деле был могуч – ствол в три обхвата. И немало гроз он на своем веку повидал! На теле его остались шрамы – заросшие трещины. Верхушка засохла. Данила Платонович помнит её зеленой, кудрявой; тогда дуб возвышался над всей округой и был виден за много километров от Криниц. А теперь осокори выше его. Остались на нем всего две толстые ветви; одна из них поднималась вверх, другая раскинула далеко в сторону свою листву и под тяжестью её склонилась к земле. Молния отщепила нижнюю ветвь, и она повисла вдоль ствола.
Выглянуло солнце, разбрызгало веселые лучи, но дождь ещё шел, слепой, мелкий. Солнце заиграло на мокрых дубовых листьях. А над рекой и синим лесом, где стояла туча, от которой тянулись к земле голубые нити косого дождя, огромной раскрашенной аркой встала радуга. Там все ещё гремел гром, но уже тихо и ворчливо, будто, недовольный чем-то, грозился, что ещё вернется и тогда от него милости не жди.
– Не залечить старику такой раны, засохнет, – грустно сказал Данила Платонович, отводя взгляд от дуба.
– Спилить бы его… Хоть гром не бил бы, – отозвался сторож.
Данила Платонович укоризненно покачал головой.
– Ты, Прокоп, все спилил бы. Собственный сад и то вырубил…
– А на что он мне, сад? Налоги платить?
– Когда-нибудь пожалеешь, Прокоп.
Данила Платонович повернулся к девушке, только сейчас отвечая на её заботливые слова:
– Я, Раиса, ещё не так стар, чтоб меня домой провожать… У меня ещё ого сколько сил! Зайдем к Наташе – как там Сергей? Напугал он меня… Кричат: «Костянка убило!» А я в саду был, видел, как в дуб ударило…
– Вы обо всех беспокоитесь, Данила Платонович.
– А ты осталась бы спокойна, если бы и правда убило человека?
Раиса не ответила.
Дождь утих. Припекало солнце. От мокрого костюма старика и платья девушки поднимался легкий парок.
…Даниле Платоновичу Шаблюку, этому ещё не такому старому, как он сказал о себе, человеку, шел семьдесят пятый год. И каждый, кто видел его даже впервые, легко мог определить его возраст – он выглядел не моложе и не старше своих лет.
Эго был старик выше среднего роста, годы не иссушили и не согнули его фигуру, держался он прямо и ходил ещё быстро и твердо, хотя и опирался на палку.
Но его загрубевшее от непогод лицо исчертили глубокие морщины, они лежали складками на широком лбу, под ясными, умными глазами, прорезали по-старчески чуть обвислые щеки. Он носил небольшие седые усы, но бороду аккуратно брил.
Ещё какие-нибудь два-три года назад криничане знали Данилу Платоновича куда более крепким, они никогда не видели в его руках палки. Подкосила старого учителя смерть жены, с которой он вместе прошел всю свою долгую жизнь. Два месяца он пролежал в постели и до сих пор ещё не вполне оправился.
Раиса была его ученицей и соседкой – их дома стояли рядом.
…Хорошо на улице после дождя!
Зеленели вербы, цветники, на листьях деревьев, любистка и георгинов, на траве блестели капли дождя, и в каждой прозрачной капле отражалось яркое августовское солнце.
Посреди улицы журчал ручей, желтая вода с шумом и бульканьем бежала к речке, оставляя на пути клочья грязной пены. По воде, закатав штаны и подоткнув юбчонки, бегали босые мальчишки и девочки, строили земляные «плотины», Но вода рвала их, и тогда объявлялся аврал: кричали, попрекали друг друга, командовали:
– Юрка! Неси кирпич!
– Спасай электростанцию! Смоет!
– Глины! Глины давайте!
Один малыш споткнулся, упал в воду. Поднявшись, испуганно огляделся и, видно, боясь, что достанется от матери, бросился к себе во двор. Рассмеявшись, дети тут же позабыли про своего трусливого дружка. Наиболее активной и ловкой группе ребят удалось построить довольно крепкую плотину, и запруженный ручей начал разливаться озерцом. Данила Платонович остановился неподалеку и с любовью набяюдал за хлопотливой работой детворы.
– Строители! – сказал он Раисе.
Но девушку мало занимали дети и их игра. Она была в том переходном возрасте, когда уже забываются детские игры, когда девочка считает себя взрослой и боится, как бы интерес к младшим не был истолкован как её несамостоятельность.
Она смотрела вперед. Навстречу им, не спеша и осторожненько обходя лужи и мокрую траву, шел по-городскому одетый мужчина: в светлой шляпе, в белом, чистом, старательно выутюженном пиджачке, под которым видна была ярко вышитая рубашка, в темно-синих бостоновых брюках и в белых туфлях.
Это был молодой человек, высокий, с мелкими чертами лица, которое можно было бы назвать красивым, если б его не портили глаза, глубоко посаженные под узким выпуклым лбом.
Здороваясь, он снял шляпу, взмахнул ею над склоненной головой. Рыжеватые волосы были зачесаны набок и прикрывали лоб: должно быть, он знал, что эта часть лица у него не из самых красивых.
– Склоняю голову пред мудростью и юностью, – без улыбки произнес он вместо, обычных слов приветствия.
Раиса сразу как-то оживилась.
– Виктор Павлович, знаете, Костянка чуть молния не убила! – сообщила она с детской непосредственностью.
– Молния? Да-а? Любопытно. Какого Костянка?
– Ну, Сергея Костянка.
– А-а, это у которого детей много?
Раисе стало обидно, что он не знает Сергея Костянка, и она сделала недовольную гримаску.
– Да нет же… механик МТС. Брат нашего Алеши K°стянка. – Она покраснела.
– А-а… тот… Любопытно…
Пока они разговаривали, Данила Платонович молча стоял, опершись на палку, и смотрел на детей.
На молодого учителя, который делал вид, что не знает, кто такой Костянок, он бросил косой взгляд.
Орешкин, должно быть, заметил этот взгляд Данилы Платоновича, так как, на полуслове прервав разговор с Раисой, обратился к нему:
– Новость, Данила Платонович! К нам едет…
Он начал это таким тоном, что Раиса не выдержала и со смехом закончила:
– …ревизор!
– Хуже… Новый директор школы.
– Это не новость, – ответил Шаблюк, перекладывая палку из левой руки в правую. – Должен же он был когда-нибудь приехать.
– Новость – что он уже в пути. Мне позвонили из районо, что выехал из райцентра.
– И вы идете встречать?..
– Я? Мне, дорогой Данила Платонович, не присуща черта, которая именуется «под-ха-ли-маж». – Он рассмеялся, довольный своей шуткой. – Я гуляю… после грозы… Озон… Роса…
– Ну, гуляйте, гуляйте. – И Данила Платонович быстрым шагом двинулся дальше.
Раиса, догоняя его, услышала, как старик ворчал:
– Озон… Роса… Позёр.
Сознание к Сергею вернулось ещё там, на усадьбе МТС, когда ему начали делать искусственное дыхание. Он не сразу понял, что с ним произошло. В памяти сохранилось, как он соскочил с машины и под проливным дождем побежал в контору, затем – огонь, такой же, как когда-то под Берлином, когда егo ранило и контузило разрывом тяжелого снаряда. Только увидев над собой озабоченное, испуганное лицо старой фельдшерицы Анны Исааковны, он догадался, что случилось. Когда его подняли, чтоб куда-то нести, Сергей запротестовал, но он не слышал, что говорили люди, только видел, как двигались их губы, не слышал шума дождя и даже не услышал своего собственного голоса – удалось ли ему сказать что-нибудь. Это встревожило его, и он, поняв, что дело неладно, отдался на попечение окружающих. Его на машине отвезли на медицинский пункт и уложили на диванчике в маленькой белой комнатке. Немного повеселев, Анна Исааковна сделала ему укол, дала понюхать нашатыря. После этого он почувствовал боль в голове. Наконец все вышли, и он остался один. Ему хотелось подняться и немедленно уехать в колхоз – отвезти запасную часть для комбайна, – для этого он и приезжал в мастерскую. Но в голове стоял страшный, шум, и он боялся вставать.
А может, это дождь шумит? Нет, дождь прошел. Весело блестят капли на листьях густой сирени, одна ветка которой протянулась в комнату, и падают на подоконник, на маленький столик, где стоят разные бутылочки и склянки.
«Её хозяйство», – подумал он с нежностью, и тут же его охватил страх. А что, если слух так и не вернется? И он никогда больше не услышит её голоса? Тогда конец всем надеждам и радостям в жизни… Глухой, инвалид… Нет, это проходит… Это должно пройти…
Сергей закрыл глаза. Уснуть бы и проснуться здоровым. Он полежал так несколько минут и вдруг почувствовал, что в ушах стало жарко, как будто вылилась из них вода, как это бывает после ныряния. И сразу же он услышал далекий голос, сразу узнал его. Он вздрогнул. Уж не бредит ли он? Случалось и раньше, что он так же вот слышал её голос, иной раз во сне, а то и наяву, когда один шел по полю или лежал где-нибудь на опушке, глядя в небо, и думал, думал о ней и о себе.
Голос приближался, крепнул. И Сергей, охваченный радостью, понял, что это не голос приближается, а возвращается к нему слух, Наталья же Петровна тут рядом, в соседней комнате, за прикрытой дверью.
– Ох, дайте мне воды, Анна Исааковна. Сердце, кажется, сейчас выскочит. Я так бежала!
– А зачем было бежать! Я все сделала, что нужно.
– Дайте, пожалуйста, полотенце, я вся мокрая…
Сергей приподнялся, забыв о боли в руке и голове, быстро оправил одежду, застегнул пуговицы. И больному ему хотелось перед ней быть в наилучшем виде. Но кто-то успел разуть его и не оставил ботинок, а он с утра ходил по полю, по пахоте, и ноги у него были пыльные и грязные. Сергею стало стыдно, и он не знал, куда девать ноги. Когда он заглядывал под диван, разыскивая ботинки, в комнату вошла Наталья Петровна. Он выпрямился, покраснел.
– Куда это вы? – удивленно и вместе с тем строго спросила она и решительно приказала: – Ложитесь! Ложитесь! – И взяв его за плечи, почти силой заставила лечь на диван.
Ей рассказали, в каком он состоянии, и Наталья Петровна, обрадованная, что он на ногах, нарочно шепотом спросила:
– Как уши?
– Слышу. Только вы на порог – и я сразу же услышал. – Он, видно, сам верил в такое чудо.
Анна Исааковна, вошедшая следом за врачом, молча вышла и неслышно закрыла за собой дверь.
– Напугали вы меня, – созналась Наталья Петровна, с ласковой улыбкой проверяя его пульс.
Взгляд её не отрывался от часов наруке. А Сергей в это время смотрел на нее, и она казалась ему ещё более красивой и желанной, чем всегда.
– Я на другом конце была, у Атроха, когда услышала от ребят…
Она не сказала о том, что бежала до самого медпункта, но Сергей запомнил её слова: «Как я бежала!» – там, за дверью, и сейчас видел, как горели её щеки, глаза, как под белым халатом поднималась и опускалась грудь, а по руке её, как по проводнику, ему передавались частые и гулкие удары её сердца. Должно быть, по дороге у неё рассыпались волосы, и сейчас они наспех были повязаны марлевой косынкой. Из-под косынки выбивались мокрые русые пряди.
Её тревога, её волнение воскресили в Сергее надежду, которая уже почти угасла. Он сжал её холодную руку, не дав досчитать пульс. Прошептал:
– Наташа…
Она вздрогнула от неожиданности, отняла руку и отошла к окну. С минуту длилось неловкое молчание. Потом она потянула к себе веточку сирени ещё несколько веток, прижатых створкой окна, высвободились и обрызгали её и стол крупными каплями.
Сергей встал и громко крикнул:
– Анна Исааковна, дайте мне мои ботинки!
Наталья Петровна присела на табурет, повернулась к Сергею. Лицо её было уже спокойно, держалась она уверенно, и, может быть, только руки выдавали волнение: слишком быстро переплетала она резиновые трубки фонендоскопа и, должно быть, довольно сильно зажала пальцы, они побелели.
Сергей не мог оторвать взгляда от её рук. С детства влюбленный в технику, он испытывал особое уважение к нужным и полезным вещам и теперь боролся с желанием предупредить её, что так она может испортить, разорвать трубки, но у него не хватило решимости: а вдруг она скажет сейчас что-то очень важное, может быть то, чего он так долго ждал?..
– Обещайте, что полежите дома, иначе я вас не отпущу, Сергей Степанович.
После этих её обыденных слов он не выдержал и сказал:
– Разорвете трубки, Наталья Петровна. – И только потам ответил: – У меня в Селище комбайн стоит. Надо ехать…
– Нет, нет, – запротестовала она, поднявшись и как бы намереваясь загородить собой дверь. – Если вы такой, снимайте рубашку! Я должна вас выслушать.
Зашелестела сирень, брызнула дождем, и в проеме окна Сергей увидел своего брата Алексея. Похожие друг на друга, братья во многом и разнились: младший – выше ростом, светлый, с гладкими и мягкими, как лен, волосами, в то время как Сергей почти брюнет, и волосы у него, красивые, густые, чуть вьющиеся, лежат крупными волнами. Облупленные на солнцепеке нос и щеки Алеши были густо усеяны веснушками, и от этого он выглядел моложе своих семнадцати лет – казался мальчишкой. Но фигура этого «мальчишки» заслоняла все окно. Одет он был в замасленный комбинезон, в волосах торчал ржаной колос.
Увидев врача, Алексей смутился, застенчиво попросил извинения и тут же по-мужски, солидно спросил у брата:
– Ну, как ты, Сергей?
– Ничего, Алёша. Только вот Наталья Петровка домой не отпускает. У тебя там как?
– Так ты полежи. Это же не шутка… Напугал ты всех, брат. Мать на лугу… Может, и хорошо, что не было её в деревне. Я уже послал успокоить, что все в порядке… А то ляпнет кто-нибудь не подумавши – не добежит старуха. – Последние слова Алексей сказал, обращаясь к врачу. Он положил свои сильные, испачканные мазутом руки на белый подоконник, но тут же поспешно убрал их и спрятал за спину. – А у меня что! Комбайн в порядке. Только вот дождь помешал.
Наталья Петровна с интересом разглядывала Алёшу. Она знала его ещё малышом, как знала каждого человека в окрестных селах, и в том числе большую семью Костянков, но Алёша был самый незаметный и скромный из них. Он никогда не болел, и в последние годы Наталье Петровне почти не приходилось с ним иметь дело. И вдруг с радостью и удивлением она открыла нового взрослого и занятного человека.
– Так что ты полежи, брат, – рассудительно продолжал Алексей. – А в Селище поедут. Директор знает. Он здесь, пришел тебя проведать, но Исааковна никого не пускает. И Данила Платонович здесь…
– Горе мне с вами. Старику тоже нельзя выходить, а он гуляет под дождем. – Наталья Петровна укоризненно покачала головой и вышла из комнаты, озабоченная и грустная.
2
Машина остановилась на перекрестке. Шофёр, молодой парень, почти мальчишка, высунулся из кабины.
– Эй, товарищ интеллигент!.. Приехали!
Хотя в кузове было человек шесть и среди них люди, одетые по-городскому, Лемяшевич понял, что это относится к нему; должно быть, соломенная шляпа послужила причиной такого обращения. Он ловко перемахнул через борт на мокрый песок дороги.
– Смотрите, какой дождь тут прошел, а там и не капнуло. Хотя бы и у нас покропило, – размышляла вслух старая колхозница. Она подала Лемяшевичу чемоданчик и пузатый портфель.
Шофёр выскочил из машины и озабоченно постукивал носком сапога по заплатанным баллонам. Не глядя на Лемяшевича, он обращался, однако, к нему:
– За этой рощицей – ваши Криницы. Километра два, а может, и того нет. Вон деревья высокие… парк… Не заблудитесь.
В кузове засмеялись. Лемяшевич понял, что до деревни совсем не два километра, но смолчал: шофёр предупредил его, когда он садился, что до Криниц довезти не сможет – едет мимо.
– Сколько с меня? – спросил Лемяшевич, доставая из кармана кошелёк.
– Четвертак, – быстро ответил шофёр, хлопнув ладонями и потирая руки, как бы от удовольствия, что получит такую сумму.
– Двадцать пять рублей? – удивился Лемяшевич. – По рублю за километр? Недурно! Это вы со всех так дерете?
– Не-ет… Только с уполномоченных. Они командировочные получают. – Теперь парень стоял прямо против него, с любопытством разглядывал своего пассажира, и в карих, по-детски ясных глазах его прыгали озорные огоньки.
– Павлик, а может, это и не уполномоченный. Может, учитель, – снова отозвалась из кузова говорливая женщина. – Они съезжаются сейчас – кто откуда.
– Учитель? – живо спросил Павлик, перебив старуху.
– Учитель, – усмехнулся Лемяшевич.
– Тогда гоните пять рублей.
Получив деньги, шофёр весело пожелал счастливого пути. Когда машина уже тронулась, застенчивая девушка, всю, дорогу потихоньку чему-то улыбавшаяся, крикнула:
– Даниле Платоновичу привет передайте!
Лемяшевич долго смотрел вслед машине. Четвертый человек передавал привет старому учителю, имя которого он впервые услышал от Журавских. Это обстоятельство, а также встречи в районе, беседа с попутчиками, простыми и сердечными людьми, расстилающиеся по обе стороны дороги поля, где кипела работа, – все пережитое за день вызвало какую-то светлую приподнятость. Лемяшевич с радостью почувствовал, что исчезли все колебания, сомнения: правильно ли он сделал, что прервал учебу, бросил столицу и поехал сюда, в эту «полесскую глушь»?
Он стоял и думал о том, что сейчас произошло. Была ли это только шутка шофёра? Или, может, люди и в самом деле так относятся к уполномоченным? А как тогда понимать их отношение к учителю? Уважение это или нечто иное? Припомнился другой случай, сегодня утром в районной чайной. После бессонной ночи в поезде еда не шла ему в горло, и он попросил официантку принести пятьдесят граммов водки. Девушка принесла сто пятьдесят и, когда он повторил свою просьбу, удивилась:
– Всего пятьдесят? У нас никто по столечку не пьет. Только учитель один, когда приезжает в район, по двадцать пять граммов заказывает, и то не сразу выпивает.
И она фыркнула.
Должно быть, только тем и прославился человек на весь район, что выпивает по двадцать пять граммов. Нельзя сказать, что дурная слава, но все-таки неприятно слышать о таком явном позерстве, хотя ещё неприятнее и обиднее было слышать – ему рассказывали в районе – о систематических пьянках бывшего директора криницкой школы. «Весь коллектив и все родители возмущались».
«Да… много спрашивается с наставника, тем более с директора, который должен воспитывать и учеников и учителей. Ну что ж, это и хорошо. Для того я и ехал, чтоб лучше узнать жизнь, людей… И самому у них поучиться…»
Лемяшевич закурил, огляделся. Вокруг расстилалось поле, ещё довольно пёстрое: за золотистой спелой рожью зеленел картофель, с другой стороны синел люпин. По обе стороны узкой полевой дороги, по которой ему надо было идти, лежала стерня; рожь убирали комбайном, на поле остались кучи соломы и виднелись следы шин. Должно быть, дождь остановил уборку: вдали у березняка, где кончалась стерня и снова начиналось желто-белое море ржи, неподвижно стоял комбайн.
Лемяшевич поднял чемодан, портфель и бодрым шагом двинулся по направлению к Криницам.
Возле березняка навстречу ему вышел высокий человек в светлой шляпе и белом пиджачке. Человек появился из-за березок как-то вдруг, неожиданно, будто сидел там в засаде, и сразу же, на расстоянии добрых десяти шагов, поздоровался: поднял шляпу.
– Могу вас удивить. Я догадываюсь, кто вы. Что? Не верите? А?
– Почему? Верю. – Лемяшевич остановился, поставил чемодан на землю, поджидая, пока незнакомец подойдет.
– Вы наш новый директор. – Человек протянул руку и представился: —Заведующий учебной частью Орешкин Виктор Павлович.
– Очень приятно. Лемяшевич.
Они крепко пожали друг другу руки, как добрые друзья или старые знакомые, и пошли рядом. Орешкин был выше ростом и шагал солидно, не спеша, и стремительному, подвижному Лемяшевичу пришлось замедлить шаг, а когда нарушился ритм, он сразу почувствовал вес своего багажа.
Орешкин поспешил объяснить свое появление здесь, так далеко от деревни:
– Гуляю… У нас тут час назад гроза прошла. Чувствуете озон?.. Легко дышать. А? И знаете, молнией чуть не убило механика МТС…
Лемяшевич с любопытством следил за каждым движением нового знакомого, жадно ловил каждое его слово. Об этом человеке Журавские ничего ему не говорили, должно быть, не знали его, а заведующий районо охарактеризовал коротко: «Завуч у вас опытный».
Орешкин то и дело поправлял воротничок своей вышитой рубашки, вылезавшей из-под пиджака, и почему-то поглаживал ладонью левый нагрудный карман. Со стороны казалось, что человек нежно гладит свое сердце, как бы ласкает его: «Какое ты у меня хорошее!»
Вышли из березняка, и взору открылась большая деревня. В центре, на пригорке, стояло одноэтажное деревянное здание под железной крышей, блестевшей на солнце после дождя.
– Школа, – кивнул Орешкин.
Улицы деревни расходились от школы в три стороны, самая длинная из них тянулась с запада на восток. Эту улицу недалеко от школы, в лощине, перерезал ольшаник, там протекал ручей. Хаты деревни скрывались в зелени садов.
На западе виднелся старый, поределый парк, суховерхие осокори которого Лемяшевич видел ещё с шоссе: на них показывал шофёр, как на ориентир.
Сразу за деревней стеной стоял лиственный лес, и даже отсюда, на расстоянии добрых трех километров, можно было разглядеть высокие, с густыми кронами дубы.
– Место красивое, – заметил Лемяшевич, останавливаясь, чтобы взять чемодан в другую руку, так как был он все-таки довольно тяжелый.
– Место? Да… Там, у леса, речка… хорошая речка… Прозрачная, рыбка водится. Можно выкупаться, можно с удочкой посидеть. А через самую деревню ручьи протекают. Везде воды хоть отбавляй. А? Ручей, что возле школы, Криницей называют, а возле МТС, – Орешкин показал рукой на парк, – там Светлая Криница, как видно, святой когда-то была. Отсюда и название деревни – Криницы. Что? Конечно, это уже не та деревня, в которой работал Лобанович.[1]1
Герой трилогии Якуба Коласа «На росстанях».
[Закрыть] Однако всё равно ещё глушь… Глушь… А?.. Единственное удовлетворение – в работе.
Лемяшевича раздражала нелепая привычка завуча переспрашивать: «А? Что?» Он перевел разговор на школу – спросил о ремонте, об учительском коллективе. Орешкин оживился, стал ещё многословнее и даже меньше «акал».
– Школа? Не стану хвастаться, Михаил Кириллович… Лемяшевич удивился тому, что завуч знает его имя-отчество.
– Увидите собственными глазами. Но скажу: все лето у меня была одна только забота – ремонт. В отпуск не пошёл, путевку на курорт предлагали – а подлечиться надо бы! – отказался. А?
«Это называется «не стану хвастаться», – подумал Лемяшевич, пряча улыбку.
– Коллектив? Ничего. Обыкновенный. Как завуч, пожаловаться не могу. Есть молодёжь, неопытные… Есть опытные… Был человек даже чересчур опытный.
Навстречу им приближалась «Победа», и они сошли с дороги в разные стороны; на какой-то миг машина разделила их и прервала беседу. Лемяшевич увидел в машине за рулем секретаря райкома, с которым познакомился сегодня утром.
– Секретарь райкома Бородка, – сообщил Орешкин, когда они снова сошлись, и прибавил: – Сила, я вам скажу. Весь район на своих плечах держит. – И, оглянувшись на машину, вернулся к рассказу о коллективе: – Тут у нас работал некто Шаблюк, старый педагог… Безусловно, человек заслуженный… Что-то около полувека трудился на ниве народного просвещения. Но, знаете, поглядишь этак с позиций поколения, воспитанного советской властью, и… – Орешкин щелкнул языком и развел руками. – Лет сорок Шаблюк проработал в Криницах. Ну, известно, перекумился со всеми, дом себе построил – другого такого во всем сельсовете не найдёшь, сад, пчёл ульев двадцать…
Лемяшевич не сразу уразумел, что речь идет о том самом Даниле Платоновиче, о котором говорили Журавские и которому разные люди передавали привет.
– Отсюда и психология… Началась война, немцы пришли, всенародное горе. Ему предложили эвакуироваться… Отказался. Остался в деревне… А? Почему остался? Ясно. Усадебку пожалел… И жил все два с половиной года спокойно, и немцы его не трогали. Почему, спрашивается, не трогали, если был он советский учитель, пускай даже и беспартийный? Что? Говорят, с партизанами был связан. Но кто был – того знают… О тех пишут.
Лемяшевич все больше настораживался. Всегда невольно возникает антипатия к человеку, который за глаза хает других. О Шаблюке Лемяшевичу говорили люди уважаемые или совсем посторонние, которым не было никакой нужды кривить душой, говорили тепло и сердечно.
Орешкин как бы спохватился:
– Вы не подумайте, что я лично имею что-нибудь против Шаблюка. А? Упаси боже! Я очень его уважаю, я его друг, но я – ради объективности, чтоб вы были в курсе. Старик уже на пенсии, а спокойно жить не может. Любая жалоба на местные власти непременно отредактирована и переписана им. И в школьные дела хочет вмешиваться. А? Не может понять, что отстал, что практика его противоречит современной педагогической науке…
«Практика человека, который полстолетия обучал детей, противоречит педагогической науке? Интересно, черт возьми!»– подумал Лемяшевич, а вслух спросил:
– И давно не работает Шаблюк?
– С весны ушел на пенсию. Болел… А теперь опять заглядывает в школу. Тянет его…
– И вам это не нравится? – сухо спросил Лемяшевич. Орешкин внимательно посмотрел на него, погладил свое сердце, приветливо улыбнулся.
– Что вы! Я ведь дружески, объективности ради. Я и Даниле Платоновичу это говорил. Я ничего против него не имею. Но, понимаете, когда из-за своего какого-то, может быть, старческого чудачества он поддерживает некоторых скандалистов, то уж извините… Мне интересы дела дороже всего. А скандалисты есть. А? Есть. В нашем коллективе… Сами увидите.
Лемяшевичу не захотелось больше выслушивать аттестации людей, которых он не знал, с которыми ни разу не встречался. Хотя все выглядело пристойно: завуч хочет рассказать новому директору о коллективе, охарактеризовать преподавателей. Наконец ничего особенного нет и в том, что он не любит старого учителя-пенсионера, тот мог досадить ему чем-нибудь, вмешаться в его обязанности – старики бывают надоедливы. Каждый имеет право на симпатии и антипатии. Но с оккупацией – это пахнет поклёпом, ибо не могли Журавские так любить человека, если бы хоть что-нибудь в словах Орешкина было правдой. Желая переменить тему разговора, Лемяшевич спросил про урожай.
– Урожай? – удивился Орешкин. – Да как вам сказать… Кажется, так себе. Пески здесь.
– А лён вот неплохой. – По одну сторону дороги стоял спелый уже, густой и высокий лён, звенел головками. – Как вы думаете, сколько возьмут с гектара?
Орешкин смешался, куда девалось его красноречие.
– Как вам сказать… А-а? Центнеров, должно быть, ну… – он долго смотрел на лён, как бы прикидывая урожай, – десять…
– Чего?
– Как чего?
– Ну, лен дает волокно и семя…
– Всего вместе, конечно…
Лемяшевич улыбнулся, отвернувшись к льняному полю.
– Всего вместе?.. Нет, видно, не будет и вместе. Центнера четыре волокна.
– Ну вот… А вы говорите – хороший урожай, – как будто обрадовался Орешкин.
Лемяшевич не ответил.
Некоторое время шли молча. Снова начало припекать солнце. Легко дышала земля, от нее поднимался прозрачный пар. Полевыми тропками шли из деревни группы женщин. Одна группа вышла им навстречу. Поздоровались. Разминувшись, женщины долго оглядывались и о чем-то спорили.








