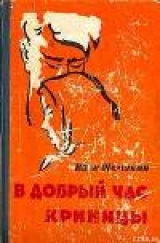
Текст книги "Криницы"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– Мы так долго дружили, – задумчиво и грустно сказала Катя. – А теперь ты меня не любишь.
Рая злобно блеснула глазами.
– Я тебя ненавижу, если хочешь знать, не только… Катя отшатнулась и даже сделала движение рукой, как бы защищаясь, но рука её повисла в воздухе.
– Меня? За что? – прошептала она испуганно.
Раиса, верно, поняла, что сказала лишнее, и злобный блеск погас в её глазах.
– Отстань ты, Катька, от меня, – бесстрастно, обычным тоном сказала она. – Ты просто жить людям не даешь своими допросами.
– Нет, ты скажи – за что ты меня ненавидишь?
– Какая ты скучная, Катя, с тобой и пошутить нельзя. Катя смешалась: а может быть, это и в самом деле шутка?
Она ждала, что подруга сейчас весело засмеется, может, даже, как раньше, бросится на шею и признается, что она просто отлично сыграла выдуманную роль – ей, как будущей актрисе, это необходимо. Но ничего этого не случилось и не могло случиться. Так не шутят, и шутки не растягивают на целый год. Она сказала правду!
Рая наклонилась, подняла с земли прут и погнала корову. Катя, опомнившись, пошла за ней следом.
– Я знаю, за что ты злишься на меня, – жестко сказала она; слово «ненавидишь» ей даже произнести было трудно. – Ты думаешь – я люблю Алёшу, и из-за этого бесишься. Ты задираешь нос, как какая-нибудь шляхтянка…
– Что-о? – Рая обернулась и презрительно захохотала. – И люби себе на здоровье! А мне он нужен, как собаке палка, твой задрипанный Алёша! Счастье нашла!
Катя простила бы, если б обидели её, но обижали Алёшу, пренебрегали им, и этого она никому простить не могла. Задыхаясь от сдерживаемого гнева, она заговорила медленно, с паузами, но слова её падали, как чугунные ядра, прямо в лицо растерянной Раисы:
– Ты-ы… ты корчишь из себя барышню… И это так отвратительно!.. Так противно… Тьфу! Плюнуть хочется… Ведь гы же комсомолка! – Потом не выдержала все-таки, крикнула – А про Алёшу… Мы не позволим тебе так говорить про Алёшу!.. «Задрипанный». Ты – чистоплюйка!.. Белоручка! Он тебя… тебя… уважает… – Голос Кати задрожал от слез, но она поборола свою слабость. – Алёша – настоящий человек… А ты, ты заводишь шуры-муры с этим старым слизняком… только потому, что он умеет бренчать на этом твоём ломаном пианино, из которого клопы ползут. Ты должна выгнать его из дома! Нечего ему жить у вас.
Раиса, не говоря ни слова, стегнула корову прутом, та сперва остановилась и с удивлением и укором посмотрела на хозяйку, но, получив еще разок, ударила себя хвостом и побежала. Раиса пошла следом за ней.
16
В тот же вечер Лемяшевич говорил с Аксиньей Федосовной о её дочери. Разговор был не случайный. У директора давно возникло это намерение, как только он получше присмотрелся к ученикам. А пристальное изучение каждого школьника он как раз и начал с десятого класса; им, выпускникам, людям почти уже взрослым, он отдавал свое главное внимание. Лемяшевич понял, что по сути только теперь начинает настоящую творческую работу над своей диссертацией, и это окрыляло и вдохновляло его, хотя он еще и не написал ни строчки.
С Аксиньей Федосовной он встретился на заседании правления колхоза и нарочно сел рядом. Заседание было обычное, рядовое. На обсуждении стоял один главный хозяйственный вопрос, который, как это часто бывает в колхозах, включает в себя несколько других: об уборке картофеля, о выполнении поставок картофеля и капусты, о продаже этих продуктов, так как присутствовал представитель райпотребсоюза. По таким вопросам всегда много говорят, часто довольно жестко критикуют отстающих бригадиров и колхозников, заготовительные организаций, но очень редко принимают конкретные решения. Да и что тут примешь? Надо выполнять – и все!
Так было и на этот раз.
После основного вопроса шло «разное»: десяток дел «второстепенных», «мелких», как их часто называют, несмотря на то, что именно эти житейские мелочи и привлекают на заседания множество людей и часто оказывают влияние на всю дальнейшую работу – поднимают активность колхозников или, наоборот, глушат её.
Заседание было многолюдным. Пересмотр норм на строительные работы, раздача на трудодни яблок, назначение нового заведующего свинофермой, радиофикация Тополя – самой далекой бригады, плата за электроэнергию, помощь старикам, направление на учебу – все эти мелкие вопросы задевали интересы многих людей. Но это обычное как будто бы заседание проходило на этот раз не совсем обычно. Всех удивил председатель. Редко кто видел таким Мохнача: аккуратно побритый, в свежей рубашке, лучшем своем костюме и начищенных сапогах. От этого он выглядел более молодым, подтянутым. Кто-то, увидев его, с удивлением бесцеремонно крикнул:
– Ого! Потап сегодня прямо жених!
И вёл он себя необычно. Колхозники уже привыкли, что он, когда говорит, смотрит не на людей, а куда-то в стол или под ноги тому, с кем разговаривает. Выступления его были путаные, маловразумительные. Обычно он сам вносил все предложения и чрезвычайно редко ставил их на голосование на заседаниях правления и даже на общем собрании. Если ему возражали, он старался поскорее замять вопрос и перейти к следующему, а потом все равно делал по-своему, либо отвечал: «Ладно, поговорю там, – и махал рукой в пространство, имея, должно быть, в виду райцентр, но показывал он почему-то всегда в противоположную сторону, куда-то на юг. – Есть повыше нас». Неизвестно, советовался он где-нибудь или нет, однако через некоторое время почти всегда делал так, как сам решил.
И вдруг сегодня Потап Миронович Мохнач стал не похож на самого себя. Он явился на заседание не только выбритый я по-праздничному одетый, но какой-то оживленный, разговорчивый, приветливый. Говорил более энергично – и потому интересно, время от времени поднимал голову смотрел в лица членам правления, сидевшим в первом ряду, несколько раз даже улыбнулся, хотя улыбка была какая-то неуверенная, и часто спрашивал: «Как товарищи думают, правильно я говорю?»
Когда дошли до «разного», он обратился к собранию:
– Товарищи, прошу, вносите предложения. Давайте подумаем, товарищи. Мы должны решать коллективно… А как же! Все мы хозяева, товарищи…
Никогда раньше он так часто не повторял это благородное слово «товарищи».
Лемяшевич бывал уже и на общем собрании и на заседаниях правления и после многих встреч, начиная от первой, на лугу, и кончая разговором в сельмаге, хорошо изучил Мохнача, а потому теперь сидел и ломал голову: что могло так внезапно изменить этого человека? Неужели все его прежнее поведение было только следствием особых условий работы и жизни? Или, может быть, это сегодняшнее у него не от души, а просто игра с корыстной целью? Но какова же цель? Зачем ему понадобилось выставлять себя перед колхозниками лучше, чем он есть? Чего он хочет этим добиться? А может быть, у него случилось какое-нибудь радостное событие и он таким образом хочет поделиться с людьми своей радостью? Все его недоумения разрешила Аксинья Федосовна. Она вдруг тяжело вздохнула и, наклонившись к Лемяшевичу, зашептала ему на ухо, не обращая внимания на то, что её шепот слышен всем соседям и они с любопытством оглядываются.
– Слаб наш Потап. Придется и его погнать. – Она сказала это так, как будто судьба Мохнача зависела от нее одной. Лемяшевич удивился. Не так давно, в день своего приезда в Криницы, он слышал от неё совсем другой отзыв о председателе – она хвалила Мохнача, возражала дочке, когда та сказала, что народ его не любит.
Что же между ними произошло за эти два месяца? Опять-таки загадка. Заинтригованный, Лемяшевич хотел было напомнить ей её прежние слова, но Аксинья Федосовна опять зашептала:
– Пока чувствовал свою силу, вон как держался! Еще бы, хозяин, власть! Что ему правление! А почувствовал слабость – вишь, как завертелся… не узнать. Прямо-таки артист… «Товарищи, товарищи…» Мы все товарищи, когда хорошо работаем… А не умеешь работать, так какой ты нам товарищ? И нечего тебе перед народом хвостом вертеть. Мы тебя насквозь видим…
Лемяшевича удивила проницательность этой женщины. Она первая разгадала причину внезапной перемены Мохнача, и разгадала почти точно. Великое движение за укрепление колхозных кадров заставило этого человека, как и многих других, ему подобных, впервые критически взглянуть на себя, на свою деятельность, на результат своей работы. Взглянул – и увидел, что не отвечает он тем требованиям, какие предъявляются к председателю колхоза. Но сознание, что теперь, потеряв должность, нелегко будет получить другую такую же, или, может быть, даже искреннее убеждение, что он может стать лучше, может «подтянуться», заставляет его держаться за место. Лемяшевич вспомнил рассказ Сергея Костянка про главного механика МТС, как тот кричал: «Я – практик!» Несомненно, Мохнач тоже из породы Барановых, только выдержки у него больше и «техника» иная, более хитрая и сложная, Аксинья Федосовна решительно выступила против одного предложения председателя. Мохнач надумал значительно повысить для служащих плату за пользование электроэнергией. Обосновывал он это тем, что учителя, медработники, служащие МТС больше тратят энергии, так как у них не по одной-две, а по нескольку лампочек и только у них есть электроприборы.
– Так пускай платят за колхозное добро. А кто считает, что много, пускай счётчик ставит – будем по счётчику брать… А как же? Чтоб порядок был, как в городе… Все это – колхозная копейка… А колхозная копейка – наша копейка, товарищи…
Лемяшевич тоже считал, что по сути это правильно, только, пожалуй, Мохнач назвал слишком большую цифру. Он видел, что и члены правления, сидевшие рядом, склонны поддержать это предложение. Но тут тяжело повернулась его соседка слева, Аксинья Федосовна, и, задев его локтем, встала.
– Нет! Неправильно! Копеечники мы после этого! У нас тысячи пропадают – мимо проходим и не видим. А тут нашли, за чей счёт кассу пополнять… Эх, вы! – Она повернулась к сидевшим и укоризненно покачала головой. – С кого мы хотим драть эти несчастные копейки? С учителя, который глаза слепит над тетрадками наших детей, который в люди наших детей выводит.
– Ничего, заплатят… Они тысячи загребают! – крикнул задорный голос в задних рядах.
– Со служащих МТС? Которые нашу землю обрабатывают…
– Землю трактористы обрабатывают! – отозвался тот же голос.
Аксинья Федосовна на миг умолкла, поднялась на носки и, оглянувшись на задние ряды, сурово спросила:
– Кто это там такой умник? Не тот ли, что семнадцать трудодней за год выработал?
Колхозники засмеялись, зашевелились. В комнате почувствовалось оживление: народ любит, когда спорят.
Аксинья Федосовна энергичным движением сдвинула с головы платок, как бы готовясь к бою.
– Партия присылает нам людей, специалистов из города, от света и тепла… А мы давайте подумаем, за что бы ещё с них слупить. Давайте за воду из наших Криниц установим плату. Криницы же у нас святые…
Слова эти многих рассмешили, но Лемяшевич чувствовал, видел, что большинство все ещё не на её стороне, что основной массе всё равно, как будет решен этот как будто бы мелкий вопрос. Им – лишь бы перепалка была.
– Государство вон все налоги сняло с учителей и врачей, – продолжала Аксинья Федосовна уже немного спокойнее.
– Так почему бы им теперь не заплатить в колхоз лишнюю копейку? – спросил кто-то другой, из пожилых.
– Опять копейка! – с раздражением крикнула Аксинья Федосовна. – Ведь не в копейке дело! А в совести нашей!..
Платят люди и так в два раза больше, чем колхозники… Так нет, мало… Надо ещё… Давайте сдерем с Натальи Петровны деньги за свет, за дрова, за то, что корова пасётся, – за всё… Она же богатая. Она за шестьсот рублей день и ночь бегает из деревни в деревню…
И вдруг после этих слов шум утих, люди как бы насторожились. Лемяшевич даже не сразу понял, в чём дело.
– Она ведь ни одного воскресника не пропустила… Полола, жала и трудодней не требовала. Богатая!
– Оксана, Наталью Петровну ты не трожь… Наталье Петровне мы всегда исключение сделаем, – сказал председатель ревизионной комиссии Иван Снегирь – её деверь.
Лемяшевич обернулся, посмотрел на лица колхозников и увидел, что сейчас почти все на стороне Снегирихи. Хитрая и умная женщина знала их «слабое» место – общую любовь и уважение к Наталье Петровне. Всем сразу стало неловко и совестно, что придется потребовать чрезмерно высокую плату с такого человека, как врач. Чтоб это сделать, в самом деле надо быть копеечником. Лемяшевич испытывал не то что ревность к Наталье Петровне, а скорее другое, более сложное чувство, в котором соединялись и ревность, и зависть, и уважение, и восхищение, и гордость за человека. Удастся ли ему заслужить когда-нибудь такую любовь?
Общее настроение уловил, должно быть, и Мохнач, так как тут же дал отбой:
– Товарищи, я не настаиваю. Я хотел, чтоб лучше для колхоза… Но я – как народ. Возможно, мы тут чего-то недодумали, поторопились… Поговорим там, – он махнул рукой в пространство.
Аксинья Федосовна пренебрежительно покачала головой и еще раз вздохнула.
Расходились за полночь. Лемяшевич, выйдя вместе с Аксиньей Федосовной, предложил проводить её домой. Она засмеялась, обращаясь к женщинам:
– Бабы! Можете завидовать! Какую мне наш директор честь оказывает! – И шутливо взяла его под руку. – А может, вы ошиблись, Михаил Кириллович! Может, вам кто помоложе приглянулся?
Но, выйдя из толпы, она освободила свою руку, стала серьёзной, степенной, снова завела речь о колхозных делах:
– Мохначу – капут, как немцы говорили, хотя ему и хотелось бы удержаться. Теперь все, кто раньше чихал на колхоз, цепляются за него… Вкус почувствовали. Не было бы перелома этого – остался бы Мохнач, терпели бы как-нибудь. Но теперь – нет, дудки, не станем терпеть. Теперь знаем, что пришлют уже не Потапа, А кому не хочется лучшего?
Она говорила не умолкая и высказывала довольно интересные мысли. Приближались к её дому. Лемяшевичу не хотелось затевать разговор о Рае прямо под окнами, где мог подслушать Орешкин. Предложить ей пройтись до конца улицы – тоже неловко. И он, улучив момент, перебил собеседницу:
– Аксинья Федосовна, я хотел поговорить с вами насчет вашей дочери.
– Дочери? – сразу встревожилась она. – А что такое?
– Да ничего особенного… Но, знаете, нас, педагогов, всегда беспокоит поведение, несвойственное школьнику. Например, не ходит с другими ребятами на работу в колхоз…
– У нее рука болит. Я могу взять справку от докторки.
– Или отказывается участвовать в хоровом кружке.
– А-а… – И это «а-а» прозвучало, как: «Только и всего? О глупостях заводишь разговор, директор». Но она сделала вид, что удивилась – Что ж это она, такая певунья? Хорошо, я ей скажу.
– Да не только в работе и в кружке дело… Как бы вам сказать?.. – Лемяшевич долго готовился к этому разговору, однако теперь чувствовал, что все равно нелегко ему коротко и ясно, простыми словами высказать свои мысли. Слова лезли все какие-то книжные, казенные. – Нам не нравится, что она избегает своих одноклассников, ставит себя над коллективом…
– Как же это она избегает? Я её все время вижу с девчатами. Редко одна бывает… Мы люди простые. Колхозники…
– Но все-таки согласитесь, что она ведет себя не так, как раньше…
– А откуда вам знать, какая она была раньше? Вы у нас недавно… – Разговор явно раздражал Аксинью Федосовну, и в голосе её послышались неприязненные нотки.
Они остановились возле её дома. Электростанция еще работала – механики знали, что собрания никогда рано не кончаются, – и из окон почти каждой хаты лился яркий свет.
Светилось и окно комнатушки завуча. Орешкин, конечно, не спал, и Михаил Кириллович старался говорить как можно тише, Но Аксинья Федосовна, должно быть нарочно, отвечала в полный голос.
– Хорошо, я у вас недавно, – согласился Лемяшевич. – Но давайте говорить откровенно… Рая уже взрослая девушка, притом девушка с фантазией, с богатым воображением… У нее формируется характер. Ей нужна своя среда, нужно быть среди ровесников… – Он снова почувствовал, что говорит слишком книжно, и рассердился на себя. – Короче говоря – зачем вам в доме этот… наш завуч? Его постоянное влияние…
– А-а… – Но это было уже совсем другое «а-а», злое, угрожающее. – Вам завуч на мозоль наступил?
– Да не в завуче дело, ну его! Меня Рая беспокоит.
– А вы не беспокойтесь… Я сама побеспокоюсь о своей дочери… – сказала она громко, но как будто миролюбиво. И вдруг, словно что-то сообразив, наклонилась к нему и зло зашептала – В чём вы подозреваете её?.. Она ещё ребенок… Как вам не стыдно!
– Я ни в чем её не подозреваю, Аксинья Федосовна… Я говорил о её воспитании… Самый факт её ежедневного общения с преподавателем запросто… отрывает её от коллектива.
– Плохой ваш коллектив! Вы его испортили… А теперь хотите свалить с больной головы на здоровую… Вы на себя поглядите… Любят ли вас учителя?..
Она нарочно говорила громко. Лемяшевич услышал, как тихонько скрипнула форточка в окне, и у него пропала охота спорить с этой самоуверенной, самолюбивой и грубоватой женщиной, отстаивать свою правоту. Кроме того, он больно переживал свою ошибку, значительно больнее, чем её необоснованные обвинения. Он решился на этот разговор потому, что был уверен, в особенности после сегодняшнего заседания, что это умный и принципиальный человек. И вот… Когда дело дошло до того, что ей, естественно, дороже всего на свете, куда девался её трезвый ум, её принципиальность! Понимай тут людей! Он молчал.
– Я, товарищ директор, прожила на свете – слава богу… И сама разбираюсь в людях. Так вот вам что думает старая колхозница… Виктор Павлович, которого вы неведомо за что невзлюбили, настоящий человек и учитель. Во всяком случае, не вам чета… А вы не доучились и теперь лезете в чужую душу, словно поп. А я с молодых лет попов не люблю.
Михаил Кириллович оглянулся и в полосе света, падавшей из окна на цветник, увидел длинную тень Орешкина. Ему стало смешно.
– Настоящий человек не станет подслушивать чужие разговоры, – сказал он, удивив Аксинью Федосовну своим неожиданным смехом. А потом привел её в еще большее недоумение, когда совершенно дружелюбно попрощался – Доброй ночи, дорогая Аксинья Федосовна! Всего вам наилучшего!
17
Это была осень великих сдвигов.
В мастерские МТС, в колхозы, ближе к земле, ехали тысячи людей, оставляя обжитые места. Ехали туда, куда звала партия. Горячая наступила пора в работе городских и сельских партийных комитетов.
Бородка понимал всю грандиозность этой перестройки и поначалу обрадовался, но не будущим результатам её, а самой возможности «поработать в полную силу», «штурмануть» и таким образом показать себя. Но оказалось, что штурмом тут ничего не добьешься. Мало помогала его кипучая деятель-нбсть, его непрерывная езда по колхозам. Чтобы укрепить МТС и колхозы лучшими кадрами, потребовалось нечто иное – иной строй мыслей, иной стиль работы с людьми. Он же пока нашел один выход: настойчиво стал требовать от областных организаций присылки специалистов. То и дело ездил в обком. И вот однажды Малашенко, к которому он заходил запросто, как к старому другу, сказал ему уже не по-дружески, а довольно официально:
– Что это вы, товарищ Бородка, все от обкома требуете? Агрономов вам дай, механизаторов дай, председателей колхозов – тоже. А ваши собственные кадры? Кого из районного актива вы послали в колхозы? Нет подходящих людей? Значит, у вас самые плохие кадры, самый плохой район? А вы нам пыль в глаза пускали. Поглядите, что делается у ваших соседей! Началось настоящее движение за посылку ответственных работников на село. В Сосновке, например, второй и третий секретари сами заявления подали. Пожалуйста… в Базилевичах… в Калиновичах… А вы всё сверху ждете!
Артем Захарович из обкома поехал не в колхозы, а обратно в райцентр, по дороге обдумывая, кого направить в колхозы, с кого начать. И – странное дело! – как он ни раздумывал, как ни перемещал работников, выходило, что и в самом деле очень мало людей стоящих, которых с легким сердцем можно послать председателями колхозов, будучи уверенным, что они не подведут, что с ними можно будет выполнять любые задачи. Третий секретарь? Туберкулёзник, каждый год на полгода из строя выбывает. Второй секретарь? Этот ничего, пожалуй, смог бы. Но кто ж останется тогда в райкоме? Заведующий сельхозотделом и заместитель председателя райисполкома? Эти и в конюхи не годятся, не то что… «Да-а…, подобрал кадры, товарищ Бородка, – кольнул он самого себя. – Кого же всё-таки? Лемяшевича?» Видно, здорово въелся ему в печёнку этот Лемяшевич, что он так часто о нем вспоминает. «Нет, не подойдет… Если б он был специалист, а так – снова можно погореть. Прокурора? Что ж! Этот сможет… Пускай идёт поработает. Это ему не красивые слова говорить! Пускай оттуда, из колхоза, покритикует. Кого еще? Редактора? Тоже может… Человек с большим чувством ответственности за дело. Такой не подведет… Директора крахмального завода можно…»
Довольный, что все-таки нашлись в районе люди, которым можно доверить колхозы, Артем Захарович с обидой подумал: «Ничего, товарищ Малашенко, не отстанем и мы».
В райкоме его помощник среди других бумаг принёс несколько дел о приёме в партию, поступивших из первичных организаций. Артём Захарович, хотя были у него дела и более срочные, стал тут же просматривать папки: интересно, какие организации растут, что за люди, – он ведь знал почти всех в своем районе. И вдруг, будто не папка ему в руки попала, а раскаленный уголь… он вздрогнул и оглянулся, хотя в кабинете, кроме него, никого не было.
«Бородка Алена Семеновна».
Артем Захарович не сразу поверил своим глазам, не сразу раскрыл папку. На миг усомнился, мелькнула надежда: «Не она, кто-то другой». Но во всём районе – это ему точно известно – нет ни одного Бородки.
Он раскрыл папку и засмеялся, его вдруг охватило непонятное веселье: его жена, с которой он прожил двадцать лет, вырастил детей, вступает в партию, а он до сих пор ничего не знает, и, если б не был секретарем, неизвестно, когда узнал бы. Он внимательно и с интересом перечитал анкету, биографию. Веселье уступило место злобному раздражению, вызванному чувством личной обиды. Особенно рассердился он, когда прочитал, что первую рекомендацию, еще месяц назад, ей дал Волотович. «Так вот оно что, уважаемая Алёна Семеновна! Мужу – ни слова, он для тебя – враг. Ближайший твой советчик – Волотович, который подкапывается под Бородку. Да… Месть, достойная женщины. А под её влиянием дети… Скоро дети отвернутся, Коля у Волотовича готов дневать и ночевать… Волотович!»
Мысли эти прервал телефонный звонок. Говорил заместитель редактора областной газеты Стуков, старый знакомый Бородки, они вместе когда-то работали.
– Что у тебя новенького? Как перестраиваешься? – поздоровавшись, спросил Стуков. – Выдвинул бы какое-нибудь начинание, а мы бы осветили, чтоб на всю республику прогремело.
– Легко вам освещать готовенькое, писакам, – недовольно ответил Бородка. – Начинание! Это тебе не газета: сел, написал – и любое начинание готово. Привыкли вы с маху начинания фабриковать! А ты на мое место сядь да погляди, как это новое начинается…
– Ты что-то, брат, пессимистом становишься. Народ радуется, а ты… Испугался! Не бойся, у тебя позиции крепкие!
– Иди ты…
– Шучу, Артем Захарович! Мне тоже нередко настроение портят… Я к тебе вот по какому делу… Получили мы письмо… о директоре Криницкой школы. Послушай… я – главное, самую суть…
Бородка, услышав, что речь идет о Лемяшевиче, сразу вспомнил свои прерванные мысли о председателе райисполкома.
«Волотович – Лемяшевич! Опять! – В памяти всплыл августовский разговор. – Чёрт знает что! Все неприятности связаны с этими двумя… И каждый раз какое-то фатальное совпадение. Волотович – Лемяшевич… Глупости, разумеется, а настроение портит… Ага, кто-то и до него добрался… Что? Доски продавал? Ах, вот ты какая штучка! Так, так!»
Занятый своими мыслями, он сперва слушал рассеянно и улавливал только то, что совпадало с его настроением. Пропустил мимо ушей и конец – фамилии людей, подписавшихся под письмом.
– Что ты на это скажешь? – спросил Стуков.
– Там где-то в начале говорится: не везет школе на директоров… Правильно говорится. Дрянь, конечно, директор! Выскочка, самоуверен, хотел поставить себя над райкомом… И пьет! Мне рассказывали.
– Значит, всё правильно? Можно давать? Думаем в форме фельетона от лица читателей. Написано живо, остро, почти и править не надо. А нас критиковали, что мы мало фельетонов даем. Значит, под твою ответственность?
– Почему под мою? У меня и без этого хватает за что отвечать!
– Но ведь я официально проверяю факты. Ты – секретарь райкома…
– Ну, давай! И отцепитесь вы от меня со своим Лемяшевичем!
– Лечи нервы, Артём! – пошутил в ответ Стуков. Бородка бросил телефонную трубку и, сразу забыв об этом разговоре, снова вернулся к мыслям о Волотовиче. Трудно объяснить, в какой связи, благодаря какому логическому ходу вдруг возникла мысль, за которую он с радостью ухватился как за великолепную находку. «Посмотрим, как ты завертишься, старый демагог!» – думал он, расхаживая по кабинету в ожидании председателя райисполкома. Когда тот наконец пришел, Бородка сразу без всяких предисловий сказал:
– Недоволен обком, Павел Иванович, нашей работой по подбору кадров для колхозов. Недоволен!
– Ясно, будет недоволен, – согласился Волотович, привычным жестом доставая из кармана очки.
Бородка вперил в него испытующий взгляд, – Ты меня, Павел Иванович, правильно, пожалуйста, пойми. Одни фамилии названы были категорически: должен ехать – и никаких разговоров! Что касается других, спросили: «А вы, товарищ Бородка, с людьми по-партийному, – он вытянул раскрытую ладонь так, точно взвешивал это емкое слово, – говорили?» – «Нет, не говорил». Что я мог ответить. Вот потому, мол, вы и отстаете… «А вы поговорите». И назвали фамилии… и в том числе… – Бородка приподнялся, вертя в руках карандаш и не сводя глаз с Волотовича. – Между прочим, Павел Иванович, твой коллега из Сосняков уже в колхозе.
Павел Иванович достал платок, вытер лоб, лысину. «Ага, пот прошиб? Других агитировать легче. И критиковать тоже… А ты сам… сам пример покажи!»
Рука Волотовича, державшая очки, заметно дрожала. Бородка был уверен, что сейчас он неприязненно спросит: «Избавиться захотел, товарищ Бородка?» – и готовил ответ; им вдруг овладело твердое убеждение, что он действует по-партийному и не имеет уже морального права отступить ни на шаг.
Но Волотович смущённо и в то же время по-хорошему улыбнулся и, наклонившись над столом, тихо и дружески спросил:
– А справлюсь, Артем Захарович? Скажи по совести: веришь ты в мои силы? Мне пятьдесят четыре года…
Бородка никак не ожидал такого поворота и растерялся, как школьник перед учителем, который разгадал все его проказы. Волотович быстро обошел вокруг стола, стал рядом и опять заговорил просто и душевно:
– Я, Артем Захарович, думаю об этом с того самого вечера, как прочитал постановление. Но, представь, сомневаюсь… Чертовы сомнения! А идти туда, – он махнул рукой в пространство, – надо с твердой, непоколебимой верой в свои силы, в то, что ты не подведешь людей. Вот мы руководили… много лет… Я – двадцать один в районном масштабе… И тот из нас, кто поднялся до этих масштабов, давал указания председателям колхозов, ругал их, рекомендовал колхозникам выгнать или выбрать нового, никогда не задавая вопроса себе: «А сам ты справился бы с таким хозяйством, особенно сейчас, после укрупнения, когда колхозы вон какие, по пять тысяч гектаров?» Мы даже, наверно, обиделись бы, если бы нам раньше кто-нибудь сказал: «Иди в колхоз». Мы считали, что колхоз – это для Мохнача или Литвинки, а мы – номенклатурные. Председатель райисполкома, секретарь райкома да и заведующий отделом попадали туда только в одном случае: объявят строгий выговор, выгонят с треском за провал, тогда – как наказание – в колхоз. В промышленности назначат секретаря райкома директором завода, и никто не считает это понижением… А ведь в колхозе, может быть, в сто раз труднее, чем этому директору… Колхоз – это целый комбинат… А мы туда Мохнача с его двумя классами приходской школы… И вот сейчас, знаешь, не один задумался… Скажи, Артём, откровенно: веришь? Справлюсь?
Бородка взял его руку, крепко сжал и произнес, как присягу, твердо и торжественно:
– Верю, Павел Иванович! Справишься! Спасибо тебе. – И, сев за стол, еще раз повторил: – Спасибо.
Сказал он это от всей души. Его поразила и тронула готовность Волотовича. Это были не слова, это было дело. Бородке стало стыдно за себя, за свои недавние мысли, за глупое желание отомстить неведомо за что этому седому человеку, старому коммунисту. Чем он хотел его напугать? Позор! Было стыдно и тяжело еще и оттого, что – он чувствовал—сам он не был готов на такой подвиг. А ведь ездил же он когда-то на Урал по мобилизации райкома. А в сорок первом? Без всяких колебаний пошел в лес, в партизаны. Что же произошло? Ему неловко было смотреть Волотовичу в глаза.
Что произошло? А ничего. Просто чувствует, что он нужнее партии и народу на должности секретаря. Нельзя же, чтобы все пошли в председатели колхозов только ради красивого жеста, для славы. Кто останется тогда в руководстве? Волотович – дело другое, он, видно, чувствует, что принесет больше пользы в колхозе…
Уладив со своей совестью, Бородка тут же вытащил стопку бумаги, бросил на стол и с веселой улыбкой посмотрел на Волотовича.
– А сомнения свои брось! Сдай в архив! Не бойся. Поможем. Какой колхоз думаешь выбрать?
– Колхоз? – Волотович присел напротив, лицо его выражало радостное волнение. – Думал и об этом. Давай в самый большой – в Криницы.
Бородка насторожился.
– Почему в Криницы? Мы Мохнача не собирались сменять.
– Нет, Артем Захарович, если мы хотим выполнять решения не на словах, а на деле, надо начинать именно с Мохнача. Хватит таких «хозяев»! – настойчиво и решительно возразил Волотович. – Человек абсолютно без перспективы.
Бородка поскреб затылок концом карандаша. На миг у него снова возникли подозрения, догадки, снова стали рядом две неприятные фамилии, но он отогнал все это. Слишком большое дело решалось, чтоб обращать внимание на личные симпатии и антипатии. Он понимал, что было бы более чем неумно ставить сейчас Волотовичу какие-нибудь препятствия в осуществлении его благородного намерения.
– Что ж… Криницы так Криницы. Так и запишем! – согласился он,








