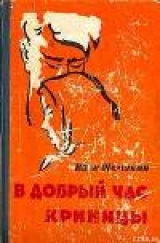
Текст книги "Криницы"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Не притворяйся, Наташа… Ты совершаешь насилие над собой… над чувством…
– Лена… Ей тринадцать лет…
– Мы не умеем вести счёт деньгам. Что делают наши экономисты? Я не понимаю, зачем ремонтировать хлам, который мы чиним. Мы больше затрачиваем…
– Доказывайте. Вы – хозяева.
– У нас на бумаге права большие, а на деле – план, и никаких разговоров.
– Вот-вот… То же, что с планированием посевов…
– Тебя пугает слово «отчим». Да разве же Сергей такой человек?
– Гости дорогие, давайте ещё по маленькой! Слышите, что делается на дворе? Под этот свист только и выпить. Наливай, Сергей!
– Да, злится зима.
– Пускай, больше снега – больше хлеба. А какая ещё забота у хлебороба?
– Только с ним… – дальше Лемяшевич не расслышал, – я не потому что… его сестра…
– Боже мой! Я уважаю его, но…
– А ты снегозадержание организовал? А то последний сметет с поля.
– Ого! Снегозадержание у нас в этом году как никогда! Налей там женщинам, Кириллович!
Лемяшевич налил женщинам густой вишневой настойки, но они даже не взглянули на него.
– Нет, не знала ты его, настоящего женского счастья. – Дарья Степановна, увлекшись, сказала это в голос.
Наталья Петровна сжала Дашину руку, оглянулась, и взгляд её встретился с его взглядом.
Одно мгновение они смотрели друг другу в глаза. Но как смотрели! Говорят, любовь и ненависть всегда рядом. И вот во взгляде Лемяшевича отразились оба эти чувства во всей их понятной для нее глубине. Она ужаснулась. Выпустила руку подруги, прижала ладонь к груди и, опустив глаза, тяжело вздохнула.
– Так что ж, за урожай этого года? – предложил Во-лотович.
– Выпьем за урожай, Наташа! – сказала Дарья Степановна, поднимая свою рюмку.
– Будет урожай, Павел Иванович! Будет! Я полвека землю пашу и знаю, когда он будет, а когда нет! – говорил, слегка захмелев, Степан Явменович.
– По зиме?
– Не по зиме – по людям. Как люди работают!
– Правильно, отец! Хорошо сказано!..
– Хочешь, я поговорю с Леной?
– Нет, нет…
Улита Антоновна, которая без конца подносила закуски и присаживалась на минутку то возле одного, то возле другого гостя, видно догадалась, о чём шепчутся старшая дочка с докторшей. Подошла, села рядом с Натальей Петровной, сказала бесхитростно:
– Наташенька, не мучай ты его и себя. Сохнет он по тебе, света не видит.
Лемяшевич хмыкнул и неуместно и довольно бестактно пошутил:
– Не мучайте людей, доктор.
Женщины удивленно посмотрели на него, но каждая удивилась по-своему, потому что поняли они его разно.
Лемяшевич вышел на кухню – просто так, вернулся и сел рядом с Сергеем.
Часов в одиннадцать, когда уже пели песни и танцевали, Наталью Петровну вызвали к больному.
Человек, с головы до ног облепленный снегом, с кнутом в руках, стоял на кухне. Она выслушала его, вернулась и, стоя в дверях, сказала, виновато улыбаясь, как бы прося прощения!
– Позвольте поблагодарить вас, дорогие хозяева. – Куда? – спросила Дарья Степановна.
– В Тополь.
Тополь – самый дальний поселок сельсовета, километрах в семи от Криниц.
– Ой-ой! Серьезное что-нибудь?
– Ребенок.
– Убедительно, – сказал Журавский. – Машина не пройдет?
– Где там! – отозвался из кухни приехавший. – К нам и до этой метели машины не ходили! А теперь – не знаю, как и на лошади доберемся.
Все с молчаливым сочувствием смотрели на Наталью Петровну. А она в душе была рада, что вырвется отсюда: упорное сватанье Даши разволновало её. Кроме того, она все время боялась, что, подвыпив, вдруг начнут обсуждать все это вслух, втянут Сергея, заставят её дать ответ.
– Возьми тулуп, Наташа, – заботливо предложила Улита Антоновна.
– Тулуп я захватил, – сказал человек из Тополя.
– В такую погоду не помешает и второй, ноги получше закутай, – как родной, наказывала старуха.
Наталья Петровна не спорила. Она быстро надела пальто, накинула на плечи тулуп, длинный, до самого пола, по-девичьи живо повернулась, подметя тулупом пол хаты, и выбежала в метель.
32
Больная – девочка четырех лет, худенькая, с тонкими ножками, с широко открытыми голубыми глазами – задыхалась. Мать, женщина уже пожилая, носила её на руках по хате и не приговаривала, не утешала, а стонала от отчаяния, Когда Наталья Петровна велела ей положить девочку на кро: вать, мать, послушно выполнив приказание, кинулась ей на шею и заголосила:
– Докторка ты наша дор-ро-га-ая, помира-ает мо-я-а Галька!
– Замолчите! – строго сказала Наталья Петровна, освобождаясь от её рук.
– Мое единственное дитятко. Ра-адость моя ненагля-адная!
– Не пугай ребенка! – с раздражением прикрикнула она и приказала хозяину: – Успокойте её! Клим робко сказал:
– Варя, а Варя!
Наталья Петровна ловко размотала с шеи девочки косынку, тряпки, вату – домашний компресс. Малышка погладила ручкой шею, потом схватила руку врача и жалостно, как бы моля о спасении, прошептала:
– Тётя!
Наталье Петровне самой стало тяжело дышать, она отвернулась от родителей, чтобы скрыть слезы. Много видела она страданий и смертей и уже умела сохранять внешнее спокойствие. Но от спокойствия этого ничего не оставалось, когда под угрозой была жизнь ребенка.
– Не бойся, моя хорошая, не бойся. Скажи, где у тебя болит, – И я вылечу… Скоро ты будешь бегать…
– На улице, – прошептала девочка запекшимися губами, Рядом всхлипнула мать.
– На улице, на улице, моя славная. Вон какие горы намело, на саночках будешь кататься. – Наталья Петровна, наклонившись над больной, гладила её ручки, грудь, щеки, одновременно осматривая и выслушивая её. – Открой ротик, Галька!
Нет, ошибки быть не могло, она правильно поставила диагноз ещё в дороге, расспросив отца. Тяжелая форма дифтерии. Видеть ей это не впервой, но никогда ещё она так не волновалась: болезнь запущена, на дворе – метель, везти в районную больницу невозможно и поздно. Жизнь ребёнка в её руках. Надо успокоиться, чтобы не выдать себя, не напугать родителей. Вот они стоят у постели, как у гроба. Варя зажимает косынкой рот, чтобы не закричать, не заголосить.
Клим, кусая обвислые усы, гладит рукав её кофточки и успокаивает жену все теми же словами:
– Варя, а Варя!
Надо дать им работу, чтобы они отошли, не мешали.
– Вскипятите воду! – Есть горячая вода.
– Не горячая, а кипяток. И огонь нужен! Огонь!
Они бросились выполнять её приказание. В это время она ввела первый кубик сыворотки. От укола девочка заплакала. Мать упустила чугун, на полу расплылась лужа, а она и не заметила – стояла неподвижно, с помертвевшим лицом и слушала. Наталье Петровне стало жалко женщину. Тяжелая у нее судьба.
Сирота, она всю жизнь прожила в людях и до сорока двух лет не вышла замуж. Вскоре после войны к ней посватался вдовец – вот этот самый Клим из Тополя, лет на двадцать старше её. У Клима когда-то была большая и дружная семья: три сына, две дочки, веселая и работящая жена. Но два сына погибли на фронте, жена померла от горя, дочки повыходили замуж, третий сын работал в городе, и старик остался бобылем.
Наталья Петровна хорошо помнила, как Варя обратилась к ней, напуганная непонятными болями в животе, рвотой и другими недомоганиями. Врач выслушала её и сказала: «Ничего особенного. Ребёнок будет у вас, Варя». – «Ребёнок? У меня – ребёнок?» Она смотрела на Наталью Петровну неестественно расширенными глазами, с выражением страха, радости, недоверия, надежды… и лицо её от этого стало наивным и смешным. Наталья Петровна не выдержала и рассмеялась. Смех её, должно быть, обидел будущую мать, она вздрогнула, вспомнила вдруг, что сидит голая, застыдилась, схватила свое платье, прикрылась им и, как девочка, бросилась за ширму.
Потом роды. Тяжёлые. Акушерка вызвала Наталью Петровну, и она провела в этой хате почти двое суток, помогая появлению на свет самого большого счастья женщины.
Наталья Петровна знала, как дрожала Варя все эти годы над своим единственным ребенком – над утехой и радостью своей жизни. Ей сорок седьмой год. А сейчас, в горе и отчаянии, она кажется совсем старухой. Наталья Петровна посмотрела на неё, как она стоит над пролитой водой, боясь шевельнуться, боясь подойти к постели, и ей самой стало жутко от мысли, что девочка может умереть. Сразу почему-то представилась своя дочка, представилась маленькой, беспомощной, больной. «Боже мой! Что со мной сегодня? Так нельзя. Нельзя думать про Лену. Я ничего не сумею сделать».
Она подошла, обняла Варю и ласково попросила:
– Успокойтесь, Варя. Все будет хорошо. Поверьте мне. Клим вытирал пол. В хате запахло дымом: ветер задувал в трубу, и дрова в печи не разгорались. За окнами свирепела вьюга. Сухой снег белыми ручейками струился по черным стеклам, внизу на створках расцветали фантастические узоры: вместе с вьюгой крепчал мороз. Ветер свистел в ветвях дерева, стоявшего возле хаты, свистел пронзительно, жалобно. На дворе что-то трещало и хлопало. Тускло горела лампа. На стенах качались тени. В душу заползал какой-то неясный страх.
Наталья Петровна стала рассказывать о других больных детях, убеждая несчастную мать, что нет болезней, которые нельзя было бы вылечить. Выслушала сердце малышки и довольным голосом сказала:
– Ну вот, все хорошо! После укола тебе легче, Галечка? Правда?
Нет, ей не делалось легче, она задыхалась, удары сердца слабели, несмотря на камфару. Но мать верила в чудодейственную силу уколов. Теперь она двигалась проворнее, как бы постепенно возвращаясь к жизни, и сама начала рассказывать, как её Галечка захворала, строила догадки, кто мог занести её, эту проклятую заразу.
Но чем легче становилось матери, тем тяжелее и страшнее делалось самой Наталье Петровне. «Зачем я говорю ей все это? Зачем я лгу? – мучительно думала она, наклоняясь над девочкой. – Я никогда раньше не лгала. Чем я утешу эту несчастную женщину, если ребенок умрет? Что я скажу? Нет, нет, я не допущу, чтоб девочка умерла!.. Она должна жить! Жить! В этом и мое счастье, и моя жизнь! Что это я брежу? При чем здесь моя жизнь?»
Через час она ввела всю дозу сыворотки. Это болезненный укол – внутримышечный, но девочка не заплакала. У нее поднималась температура, она теряла сознание. Наталья Петровна испуганно взяла её на руки. «Только спокойно! Только спокойно! И следить за сердцем! Боже мой! Выдержало бы твое маленькое сердечко! А я сделаю все, чтобы ты жила».
Мать бросилась к ней с криком:
– Она помирает! Докторка, дорогая!
– Не бойтесь. Пожалуйста, не бойтесь!
Но она сама видела, что ждать, пока начнет действовать сыворотка, нельзя, девочка не выдержит. Надо оперировать! Но как? Она производила несколько раз трахеотомию, но в таких условиях, на глазах у матери, которая от горя потеряла голову, делать такую операцию – резать горло… Невозможно! А что возможно? Что возможно? Интубация? Это лучше – бескровно, и у нее есть все необходимое. Но она делала эту операцию всего один раз, когда была на курсах усовершенствования. Делала с помощью сестры, с санитарами. И в книге написано – только в условиях больницы и с опытным персоналом! А если ребенок умирает?! Если близко нет опытных людей?..
– Сама сделаю! – не подумала, а громко и решительно произнесла она и быстро стала готовиться.
Когда все было налажено, она подала девочку отцу:
– Держите вот так ноги, руки. Не жалейте, если хотите, чтоб она осталась жить!
Но когда она решительно раскрыла девочке рот расширителем, Варя снова кинулась к ней:
– Ой, не надо!
Наталья Петровна оттолкнула её;
– Не мешайте!
Операция удалась. Легкие получили воздух через трубку, и девочке сразу стало легче, её положили на кровать, она уснула. Наталья Петровна выпрямилась, вытерла косынкой пот, вздохнула и попросила воды. Это был самый тяжелый час во всей её практике. Выпив воды, она села на лавку у стола. Присел и Клим у печки на низенькую скамеечку, по-старчески сгорбившись. Только мать не отходила больше от постели. Теперь девочка дышала бесшумно, ровно, только часто вздрагивала и раскрывала глаза.
Девочка спит, нитка от трубки, привязанная к уху, лежит на её бледной щеке. Это уже почти победа! Наталья Петровна снова присела к столу и… уснула: шел четвертый час ночи, а у нее был трудный день. И ей приснилось… весна… май… Она идет с Лемяшевичем по знакомому лугу за рекой, по густой высокой траве, по цветам – таким ярким, что от них в глазах пестрит. Михась до боли сжимает её руку и счастливо смеется. А ей страшно. Они подходят к лесу, который почему-то очень шумит, хотя ветра и нет, и видят за дубами Сергея. Он следит за ними. Михась хватает её на руки, прижимает к груди и хочет бежать. Но трава оплетает ему ноги, и он… не может сдвинуться с места и всё крепче прижимает её к груди. У неё болит щека, и руке больно…
Она очнулась. В самом деле замлела рука, на которой она лежала, и щека болит – впилась пуговица, что была на рукаве халата. Она вспомнила сон и вздрогнула. «Что это со мной делается? Который уже раз все то же? И так странно!»
Встал в памяти сегодняшний вечер. «Как он смотрел! Он слышал, как Даша меня сватала. Даша умная, а не может понять… Нет, Даша по-своему права… Сергей – хороший, добрый… Что это я? Убеждаю себя, заставляю верить, что он хороший. Начинаю сама с собой хитрить. Что с тобой, Наталья Петровна? Да и в твои ли годы думать об этом? Мои годы! А знала ли я в свои годы настоящее счастье? Испытала ли я счастье иметь семью? Муж, дети… Даже горе в семье переносится легче…» Она опомнилась, подошла к больной.
– Спит, – чуть слышно прошептала мать; она сидела на табурете у постели и не сводила с дочери глаз.
– Вы тоже прилегли бы, Варя… Отдохните.
– Что вы, докторка! Разве я усну? А вы ложитесь, я на лежанке постелила… Дай бог вам здоровья!
Разбудила её часа через два перепуганная Варя. От кашля вылетела интубационная трубка, и девочка снова стала задыхаться. Пришлось повторить эту тяжелую операцию. И так – трижды за утро. Малышку это до того напугало, что она начинала дрожать, когда Наталья Петровна приближалась к ней, и звала на помощь:
– Мамочка!.. Мама! Больно!
Наталья Петровна сама еле держалась на ногах. Ее вдруг начало раздражать завывание ветра, хлопанье ставен и монотонный, надоедливый скрип за окном.
– Что это… скрипит?
– Берёза, – ответил Клим. – На дворе страшный ветер. Она поморщилась.
Он натянул кожух и взял из-под лавки топор. Она подумала о березе и остановила его:
– Не надо. Что вы! Не надо рубить!:
– Да там одна ветка… Упирается в ставню… Я давно отрубить хотел.
Девочке стало легче. Наталья Петровна прилегла и опять заснула. Когда проснулась, увидела, что на дворе давно уже день, хотя вьюга метет с прежней силой и в снежной завирухе не видно даже хат по другую сторону улицы. Нельзя было и думать о том, чтоб на лошади везти больную в районную больницу. Надо лечить здесь и в то же время принять меры, чтоб не заразились другие дети. Она сама пошла по хатам – предупредить взрослых, осмотреть малышей. Одному мальчику с подозрительными налетами в горле ввела сыворотку. Потом, по колени проваливаясь в сугробы, разыскивала бригадира. Он в компании мужчин выпивал. Причину выпивки объяснил просто: «Все равно на двор носа нельзя высунуть». Она попросила лошадь и послала одного паренька в Криницы с запиской к Анне Исааковне, чтоб та немедленно сообщила в райздрав о случае дифтерии, вызвала санитарную машину, эпидемиологов, прислала медикаменты и присмотрела там за Леной.
Когда она вернулась к своей больной, Галя не испугалась её, а встретила слабой, застенчивой улыбкой. Наталья Петровна поняла, что опасность миновала, что начало действовать самое надежное средство – сыворотка. От радости на глазах у нее заблестели слезы.
– Вот мы и победили! – уверенно объявила она.
– Буду за вас богу молиться, родная вы моя! – плакала от радости Варя.
Машина из района пришла лишь на следующее утро, когда немного унялась метель, да и то добралась она только до Задубья. Два километра закутанного ребенка несли на руках – отец, мать, сестра из районной больницы.
Наталья Петровна осталась вместе с эпидемиологами. Вечером вернулся Клим и с благодарностью сообщил: Галька в больнице, чувствует себя совсем хорошо. Тогда усталой Наталье Петровне до смерти захотелось домой, к своей дочке. И хотя час был поздний, она попросила Клима запрячь лошадь и отвезти её в Криницы.
33
Метель утихла, в просветы между тучами выглядывал молодой проказник месяц. Выглянет, спрячется, а через минуту опять глянет на укрытую снегом землю. Но из разорванных туч все ещё сыпал снег, легкий, искристый. Дорогу совсем замело, ехали не по большаку, обсаженному деревьями, а стороной, по полю, где снега было меньше. Лошадь то проваливалась на межах по брюхо, то на взгорках попадала на голую землю и останавливалась.
Сидеть в тяжелом тулупе было неловко, ныла спина, и Наталья Петровна легла. Снежинки нежно целовали губы, веки… Пахло сеном. Чудесно пахнет сено зимой! От его летнего аромата становится тепло и начинает казаться, что это пахнет снег.
Приятная усталость разлилась по телу – усталость человека, который честно поработал и имеет право отдохнуть. Хорошо на душе, легко, светло! Кажется, никогда ещё не испытывала она такой радости, такого счастья от того, что не впустила горе в чужую хату, что одолела безжалостную и страшную силу – смерть. «Да, это счастье, счастье не только для Вари, Клима, Гальки, это и мое счастье! Если б всегда было так легко, так радостно… Не знать бы тревог… беспокойства». Она вздрогнула, потому что снова встал перед ней Михаил Кириллович с этим его взглядом. «Чего ты хочешь от меня? Зачем так на меня смотришь? И с любовью, и с ненавистью… Для тебя нестерпимо, что меня сватают?.. Хорошо, я признаюсь: я тебя люблю… Боже мой! Что это я!» Она испуганно подняла голову и глянула на широкую спину Клима – не услышал ли он её мыслей? Нет, он спокойно почмокивал, понукая лошадь, и дергал вожжи. Лошадь фыркала. Снежинки стали крупнее и гуще. В стороне замелькали тусклые огоньки…. – Где это мы, Клим Федорович?
– А мы Задубье объезжаем лугом. По улице не проехать – так намело.
Наталья Петровна закрыла глаза. «Как там моя Леночка?» Но напрасно она хотела отвлечься, думая о дочери. Он не отступал, он стоял рядом. «Да, я тебя люблю. Но я боюсь тебя, боюсь за Лену… Зачем ты приехал? Я жила спокойно, ничто меня не тревожило. Работала, растила дочку. Ты пойми, – чуть не со слезами молила она, – не могу я. Ведь ты педагог, ты должен это понять… Я три года отказывала Сергею. Три года!.. Я его лучше знаю, чем тебя. Он очень хороший! И я… – Она взволновалась и обрадовалась своей мысли. – Так куда проще… К этому все готовы, даже Лена… Никто меня не осудит, наоборот, поздравлять будут… А ты… ты человек порядочный, ты не позволишь себе домогаться любви замужней женщины. И все сразу станет на свои места. Сергей и Ленку никогда не обидит – в этом я уверена…»
Она долго убеждала себя, что Сергей лучший человек в мире и что самое разумное, чтоб сохранить уважение окружающих, свой покой и покой дочки, – не откладывая больше, выйти за него. Чтоб не возвращаться к этим мыслям, она заговорила с Климом о поездке в район, потом – о делах в бригаде (это была самая отстающая бригада, и Волотович недавно сменил там бригадира).
Незаметно доехали до Криниц. Деревня спала: не работала станция, и люди, привыкшие к электричеству, редко теперь пользовались лампами. Только кое-где светились окна, главным образом в хатах, где были ученики старших классов, и в квартирах учителей.
Попрощавшись с Климом, Наталья Петровна забежала на медицинский пункт, оставила там инструменты, кожух, умылась и, успокоившаяся, но с неясной грустью на душе, как будто потеряла что-то очень дорогое, направилась домой.
Проходя мимо школы, она увидела освещенные окна директорской квартиры и остановилась у входа на школьный двор, где сходились многочисленные тропки, протоптанные школьниками. Окна приворожили её, она не могла оторвать от них глаз, как ребенок от манящей тайны. Что там, в этих комнатах, за этими простыми занавесками?
Колыхнулась в одном окне тень человека. Она почувствовала, как застучало сердце. Это он! Что он делает? Один или кто-нибудь у него есть? Где-то в глубине души шевельнулось женское, ревнивое чувство, давно уже она не испытывала его. «А может быть, там Сергей? Он часто тут засиживается…»
Незаметно для себя она очутилась на школьном дворе, по ту сторону забора. Сердце её с каждым шагом билось все сильней и сильней.
Она оглянулась. Теперь отступление невозможно: а вдруг кто-нибудь видел?
«Но что я скажу, если зайду? Как объясню свой приход? – У неё перехватило дыхание, она прижала руки к груди. – Я скажу… я скажу, что ищу Волотовича, что срочно нужна машина или лошадь, чтоб отвезти больного».
Она обрадовалась этой невинной выдумке и смелей двинулась вперед, не подумав, что Волотович, может статься, как раз будет здесь, в гостях у Лемяшевича.
«Зачем тебе туда идти? – звучал в ней голос благоразумия, но она отгоняла его, обманывая самое себя. – Я погляжу, как он живет, мне ни разу не пришлось побывать у него дома… А мне интересно…»
Она остановилась на крыльце, чувствуя предательскую тяжесть в ногах, словно к ним подвесили пудовые гири. «Если он станет спрашивать – кто, не отвечу и убегу», – решила она, чтоб подбодрить себя.
Но он ничего не спросил, он открыл сразу и так скоро, что она не успела опомниться. И не удивился, увидя её, только очень обрадовался, будто долго-долго ждал, но твердо верил, что она непременно придет.
– Наташа! – прошептал он и тут же, на пороге, обнял и поцеловал$7
Она не оттолкнула его. Но ей почему-то захотелось плакать, слезы душили её, она не могла вымолвить ни слова, пока Михаил Кириллович, обняв за плечи, вел её в комнату. Тут она улыбнулась ему виновато и растерянно. А он снова стал целовать её губы, щеки, глаза. Тогда она сказала:
– Миша! Не надо! Я только что от дифтеритного больного!
– Вот и хорошо! Пусть я умру, как Дымов, от дифтерии, от коклюша, от всех детских болезней… от всех…
– Зачем же тебе умирать?
– Правда, зачем мне умирать, когда у меня такое счастье?
Он размотал её платок, помог снять пальто. Она стояла посреди комнаты, стройная, как девушка, в зеленом шерстяном платье, и ловкими, привычными движениями красивых рук поправляла свои чудесные волосы, утром наспех свернутые в большой пышный узел.
Лемяшевич, повесив пальто, с нежностью любовался ею. Он не верил своему счастью. Наташа, о которой он столько думал и мечтал, – в его комнате, такая близкая, простая, он может подойти и без конца целовать её. С юношеским пылом он покрывал поцелуями её волосы, шею, потом прижал её ладони к своим щекам.
– У тебя холодные руки… Ты только сейчас из Тополя? Двое суток там провела? Страшно подумать, что я не буду видеть тебя по двое суток. Ты погляди, как пылает печь. Садись, погрейся. А я чай вскипячу. Ты хочешь чаю?
– Я есть хочу. С утра ничего не ела. Я требовательная гостья, – засмеялась Наталья Петровна.
– А ты не гостья, ты – хозяйка. У меня есть печенье.
Он вышел в другую комнату. Наталья Петровна присела на перевернутый табурет, застланный одеялом, протянула руки к жаркому дыханию огня.
«Только что здесь сидел он, – подумала она и подкинула в печку дров, свежие поленья весело затрещали. – Я – хозяйка… Что же это?» Она прислушалась к себе – что там у нее в душе? Не было ни страха, ни стыда, ни раскаяния. Хотелось тепла и ласки. Она не вспомнила в этот момент ни о Сергее, ни о своем недавнем, казалось твердом, решении.
Лемяшевич вернулся и снова в бурном порыве чувств бросился к ней, опустился на пол, положил голову ей на колени.
– Если бы ты знала, сколько счастья ты мне принесла!: Я словно предчувствовал. Я даже не мог работать… Потом мне показалось, что холодно. Я принес дров, разжег печку… и вот сидел здесь и все думал о тебе. Я решил, что завтра увижусь с тобой и все скажу, скажу, как я люблю тебя… – Он посмотрел ей в глаза и попросил: – Скажи, что и ты любишь.
– Я пришла… – Она ласково взъерошила его волосы. – Это больше, чем слова… А знаешь, я стояла на крыльце и думала: если станешь спрашивать – кто, я не отвечу и убегу. Хорошо, что ты не спросил. Нет, видно, никуда бы я не убежала…
– А я услышал шаги, стук, и сразу почему-то решил: ты! Я все время думал о тебе. Думал и боялся…
– Боялся?! Мне кажется, что все это сон. Проснусь – и ничего не будет. Так неожиданно… Знаешь, несколько месяцев назад я дала себе клятву, что никогда не полюблю тебя. Когда я увидела тебя в первый раз, я испугалась. Мне стало страшно, что ты омрачишь юность моей дочери… А для меня не было на свете ничего дороже… Мне даже хотелось, чтоб ты оказался дурным человеком… пьяницей, как твой предшественник, или связался с какой-нибудь Приходченко. Прости меня… В мои годы от человека, которому собираешься доверить свою судьбу, многого требуешь.
– Наташа!
– Я верю тебе, мой славный. Ты – хороший, ты – честный. Знаешь, меня не раз уговаривали выйти замуж, называли «монашкой», «черствой душой». Боже мой! Если бы они знали, как мне было нелегко! Как мне хотелось любить! Хотелось ласки… Вот такой ласки, – она подняла его голову и крепко поцеловала в губы. – А теперь посмотри мне в глаза и скажи: ты никогда не обидишь Лену?
– Наташа!
– Нет, ты скажи.
– Лена уже большая. Я уверен, что мы будем с ней самыми лучшими друзьями… Раньше я и не подозревал, что так умею дружить с детьми. Это – народ, который нельзя обмануть, перед которым нельзя хитрить и от которого ничего не скроешь… Лена меня уважает, я наблюдал за ней – и вижу.
– Как учителя.
– Не возненавидит же она меня только за то, что я стану её отчимом. Она сумеет разобраться, что хорошо, что плохо. Ты все ещё считаешь её маленькой.
– О нет! Она не маленькая. Как я была бы рада, если б вы стали друзьями!
Говорят, влюбленные всегда эгоисты, в минуты встреч для них ничто не существует на свете, кроме них самих и их любви. Может быть, этот «эгоизм» и был причиной того, что они ни разу не упомянули имени Сергея, хотя разговаривали чуть не до рассвета и переговорили, казалось, обо всем, даже успели поспорить, кому куда переселяться: ей ли с Леной в школьную квартиру или ему к ним,








