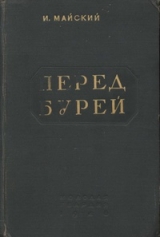
Текст книги "Перед бурей"
Автор книги: Иван Майский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
в несколько километров, желто-серая полоса Иртыша,
справа катила свои мощные темнобурые воды Обь. Обе
гигантские струи сливались, но далеко, насколько хватал
глаз, можно было ясно видеть линию водораздела. Как
широка была здесь река? Мне она казалась безбрежной.
С высоты мыса видна была только вода, вода, вода... Кое-
где слегка туманились плоские острова, поросшие ивня
ком... И дальше, под самым горизонтом, с трудом разли
чалась синеватая линия другого берега. Это было точно
море.
– Сколько верст наперерез? – спросил отец, сделав
широкий жест в сторону реки.
Сопровождавший нас пожилой крестьянин как-то за
мысловато сплюнул, потер себе переносицу и, пожав пле
чами, ответил:
– Верстов восемнадцать будет... В волну и... и... не
пробуй! Все одно забьет.
94
Мы долго не могли оторваться от этого величавого зре
лища...
Раз в сутки наш пароход, носивший название «Галкин-
Врасский», останавливался где-нибудь около более крупно
го селения для того, чтобы взять дрова. В течение двух-
трех часов матросы торопливо бегали с парохода на
берег и обратно, таская на носилках большие охапки этой
обязательной для пароходной машины пищи. Пассажиры,
которые иногда бывали на пароходе, а также «свободное»
население нашей баржи (то есть офицер, врач, фельдшер,
матросы, солдаты конвойной команды) пользовались этим
временем, чтобы немного «размять ноги», бродили по де
ревне и ее окрестностям, осматривали местные достопри
мечательности, покупали на импровизированном базаре у
ядреных, толстолицых «чалдонок» молоко, шаньги, ягоду,
рыбу, жареную птицу.
Впрочем, у моего отца на пристанях часто оказывалось
совсем особое дело. Медицинская помощь населению в то
время была поставлена очень плохо. На сотни верст в
окружности не бывало ни врача, ни больницы. Прибреж
ные жители знали, что с арестантской баржей всегда пла-
вает «дохтур». И едва мы успевали пристать к берегу, к а к
к отцу устанавливалась длинная очередь пациентов. Конеч
но, строго формально он не обязан был их лечить. На этом
основании некоторые коллеги отца, также плававшие на
арестантских баржах, просто «гнали в шею» приходивших
на остановках больных. Но отец считал, что медицинские
знания ему даны для того, чтобы служить народу, – и
потому наша баржа на пристанях превращалась в прием
ную врача, густо набитую народом. Отец старался делать,
что мог. Бывали замечательные случаи.
Помню, в селе Демьянском, на Иртыше, отца позвали
на трудные роды. Матери и ребенку грозила смерть. Отец,
вступил в упорное единоборство с природой. Час проходил
за часом. Погрузка дров уже кончилась. Пароход должен
был уходить. Капитан посылал к отцу одного гонца за
другим, требуя его возвращения на баржу. Но отец от
правлял их каждый раз назад с одним и тем же ответом:
«Сейчас», а сам продолжал оставаться на месте «боя».
В результате пароход опоздал на три часа, но зато мать и
ребенок были спасены.
В другой раз дело происходило в Сургуте – крохотном
уездном городке, расположенном при впадении реки Вах
95
в Обь. К отцу привели уже немолодого остяка, которого в
тайге, дня за два перед тем, сильно «поцарапал» мишка.
Рана была ужасная: вся кожа, с волосами, была содрана
с верхней части головы рассвирепевшим медведем, его мо
гучие лапы оставили ясные следы и на черепной коробке
охотника. Все это было густо залито запекшейся кровью и
замотано какими-то грязными, слипшимися тряпками.
Остяк почти лишился чувств, пока отец освобождал его
рану от этих тряпок. Потом отец произвел обследование,
прочистил, промыл рану, насколько возможно было, привел
в порядок черепную коробку, забинтовал голову и, нако
нец, дал пострадавшему некоторые простейшие указания
насчет дальнейшего поведения. Отец был, однако, далек
от оптимизма.
– Сомневаюсь, чтобы он выжил, – заметил отец, ког
да остяка вывели из лазарета.
И, однако, он выжил! Это было настоящее чудо, кото
рому помогла могучая природа охотника. Через два рейса
остяк пришел опять на баржу – уже здоровый, веселый —
благодарить отца. Он принес с собой в качестве подарка
мешок кедровых орехов в шишках. Не принять подарок —
значило кровно оскорбить охотника. Отец принял подарок.
Орехи оказались прекрасные, и мы без перерыва щелкали
их на всем остальном пути до Томска.
В эту же остановку в Сургуте отец имел не совсем
обычный визит. К нему пришел местный священник, отец
Евлампий, и просил уделить кой-какие медикаменты из
аптечных запасов арестантской баржи. Отец, вообще не
любивший духовенства, вначале держался сухо и офици
ально. Однако посетитель мало походил на обычный тип
«попа», с которым мы привыкли встречаться в Омске, и
разговор скоро принял более естественный и даже друже
ский характер. Оказалось, что отец Евлампий вот уже
свыше пятнадцати лет живет в Сургуте и все свои силы
посвящает работе среди остяков. Приход у него гигант
ский – свыше тысячи верст в поперечнике, и подавляющее
большинство населения в этом приходе остяки – малень
кое финское племя, с незапамятных времен живущее в
бассейне течения Оби. Отец Евлампий хорошо знал остя
ков, изучил их язык, нравы, быт, религию. Православные
миссионеры той эпохи обычно относились к просвещаемым
ими «неверным» с высокомерием и презрением. В отце
Евлампий, однако, этого совсем не замечалось. Наоборот,
96
он говорил об остяках с большим сочувствием, почти с
нежностью.
– Меня поражает сила прирожденного им инстинкта,—
рассказывал Евлампий. – Я часто выхожу побродить в лес
в окрестностях Сургута. Беру с собой маленьких остяцких
ребятишек. Отойдем две-три версты, а то и больше. Я уже
заблудился, не могу найти дороги домой. А ребятам хоть
бы что! Я всегда на них полагаюсь: непременно выведут
куда надо.
Евлампий много говорил о трудностях своей жизни и
работы. Сургут – о д н о из стариннейших русских поселений
в Сибири: оно основано в 1593 году, но это настоящий край
земли. В городке тысяча жителей – почти исключительно
рыбаки и охотники. Исправник, церковь, приходская школа,
казенная винная лавка, тюрьма. Телеграфа нет. Летом
связь с внешним миром поддерживается пароходами.
В остальное время городок отрезан от всего на свете. По
крайней мере, раз в год Евлампий объезжает всю свою
паству. Он берет каюк (большая гребная лодка с малень
кой каютой без окон) и отправляется в долгий путь – от
одного остяцкого поселка до другого. Расстояния между
поселками огромные – сто, двести и больше верст. В каж
дом поселке Евлампий остается по неделе, по две – творит
службы, венчает, крестит, хоронит (пост-фактум), пропове
дует «слово божие», оказывает медицинскую помощь, раз
решает споры и конфликты. Остяки формально числятся
православными, однако Евлампий не скрывал, что своим
языческим богам они больше верят, чем «святой троице».
– Самое трудное, – говорил Евлампий, – это река Вах.
Подыматься по ней мне приходится почти тысячу верст.
Места дикие, нелюдимые, холодные. Осенью ледоход все
гда начинается с Ваха. Коли лед пошел по Ваху – значит
кончено: всю Обь льдом запрудит. И люди по Ваху тоже
подстать: темные, хмурые, упрямые. Никому не верят.
Чуть что, норовят в лес уйти. А в лесу кто же их найдет?
Тайга-матушка без конца-краю. От Сургута до Енисея —
почитай тысячу верст – одна сплошная тайга без пере
рыва. Даже остяки бродят лишь по краям тайги. Редко
кто заходит глубже ста – ста пятидесяти верст от тече
ния рек. А дальше? Что там дальше? Никто не знает.
Там никогда не ступала нога человека.
Мы вышли с отцом на берег проводить отца Евлампия.
Уже темнело. Матросы заканчивали погрузку дров, и
97
пароход готовился к отплытию. В маленьких сургутских
домиках один за другим зажигались тусклые керосиновые
огоньки. За серо-деревянной панорамой убогого городка
неподвижно чернела темная стена беспредельной тайги.
В небе загорались первые звезды. Все было тихо, мрачно,
могуче, первобытно... И только этот маленький пароход,
затерявшийся в безбрежности водной стихии, с его элек
трическими огнями, с его гулом машин, с его лихорадочно
бегающими людьми резко нарушал гармонию общей карти
ны. Он казался здесь дерзким пришельцем из совсем дру
гого мира – мира движения, мысли, борьбы, цивилизации.
Он казался здесь вестником совсем другой эпохи – эпохи
стали и нефти, железных мостов и паровых молотов. Кон
траст был поразительный, и я, несмотря на всю мою
юность, не мог его не почувствовать.
– А не надоело вам жить в этом мертвом месте? —
спросил Евлампия мой отец.
Евлампий вздохнул, бросил взгляд на объемистый свер
ток, который он держал в левой руке (медикаменты, по
лученные на барже), и каким-то особенным тоном от
ветил:
– Что значит «мертвое место»? Это мертвое место для
меня полно жизни.
И затем уже более обыкновенным голосом добавил:
– Мне два раза предлагали перевод в Тобольск, но я
отказывался... Там все так сложно... Там трудно жить
простому человеку... Здесь мне лучше! Я это чувствую...
Мы расстались. Евлампий зашагал по направлению к
городу, и скоро его высокая, худощавая фигура скрылась
в темноте.
В тот вечер я долго думал об этом странном, необык
новенном священнике. Мой детский ум не мог ясно осо
знать, что отец Евлампий являлся запоздалым пережитком
давно ушедшей исторической эпохи, той эпохи, когда ста
рое православие еще имело своих идейных «подвижников».
Теперь подобные «подвижники» оказывались ему совсем
не ко двору, и оно ссылало их в такие медвежьи углы,
каким был Сургут. Я не мог в тот вечер отчетливо сфор
мулировать свои мысли, но я инстинктивно чувствовал, что
стою перед какой-то новой загадкой жизни, на которую у
меня нет удовлетворяющего ответа.
98

10. Я ЗНАКОМЛЮСЬ С «ПОЛИТИЧЕСКИМИ»
Однажды ранним августовским утром, когда я, как
всегда, прибежал в штурвальную будку, Горюнов с ноткой
таинственности в голосе проговорил:
– Политических везем... В седьмой камере.
– Что ты? – воскликнул я, пораженный этой но
востью. – Сколько их? Много?
– Быдто немного, – неопределенно отозвался Горю
нов. – Вчерась вечером взяли в Тюмени.
Мы действительно только на рассвете вышли из Тюме
ни и с трудом пробирались между мелей и перекатов со
вершенно обезводевшей Туры. Впереди на пароходе носо
вой матрос то и дело бросал в воду наметку 1
кричал, сигнализируя лоцману:
и громко
– Шесть с половиной... Шесть... Пять с половиной...
Пять...
Когда глубина доходила до пяти четвертей, капитан
кричал в машину: «Самый тихий!», и мы подвигались впе
ред не быстрее черепахи.
Но все это с получением горюновской новости, мгно
венно потеряло для меня всякий интерес. Я слышал уже
раньше о «политических арестантах» от родителей, от
дяди Чемоданова, но мое представление о них было смут
но и неопределенно. Главное же, сам я никогда их не ви
дал. И вот теперь мне представлялся случай встретиться
с ними лицом к лицу. Легко понять мое волнение, мое не
терпение завести знакомство со столь необыкновенными
людьми.
Все население нашей баржи уже знало о присутствии
«политических». Весть об этом разнеслась с быстротой
молнии. Я бросился к отцу и поделился с ним своей но
востью. Отец приподнял голову от каких-то записей, ко
торые он делал, и спокойно сказал:
– Да, с нами идет партия «политических» в двена
дцать человек.
В лице его при этом скользнуло какое-то особое выра
жение, но он не прибавил ни слова и вновь углубился в
свою работу. Тем не менее по жестам, тону и виду отца,
когда он говорил, я сразу понял, что отец очень заинтере-
Н а м е т к а—длинный и тонкий деревянный шест с отмеченными
на нем четвертями или футами, с помощью которого делаются промеры
глубины воды на мелких местах.
99
сован нашими необыкновенными пассажирами, – больше
того, что он относится к ним с скрытой симпатией.
В тот же день я увидел «политических». После обеда
все они вышли на свою забранную железной решеткой
палубу и расположились тут отдыхать. Я прилип к решет
ке с наружной стороны и старался не пропустить ни одно
го их жеста или движения. Партия действительно состоя
ла из двенадцати человек, из которых одиннадцать были
мужчины и одна женщина. У меня не сохранилось в памя
ти ни их имен (много позднее отец мне говорил, что неко
торые из них были нелегальные, шедшие в ссылку под
чужими фамилиями), ни каких-либо иных данных, позволяю
щих сделать заключение о том, кто были эти «политиче
ские». Повидимому, все они являлись эпигонами народни
чества и несколько критически относились к быстро
крепнувшей тогда социал-демократии. По крайней мере,
я несколько раз слышал, как, разговаривая между собой,
«политические» что-то с усмешкой говорили о «фабричном
котле» и «выучке у капитала». Больше всего меня заинте
ресовали двое – женщина и высокий седой старик, кото
рого я мысленно окрестил именем «дедушка». Женщина,
которую звали Зинаидой Павловной, была настоящей «хо
зяйкой» этой партии. Ей было лет за сорок, она носила
арестантский бушлат, говорила резко, четко, точно давала
приказания. Красивой назвать ее было нельзя, но в ее
смуглом выразительном лице с умными насмешливыми
глазами было много силы воли и энергии. «Дедушка»
представлял полную противоположность Зинаиде Павловне.
Он весь был мягкость и доброта, любил всех мирить и всем
говорить что-нибудь приятное. Рассказчик «дедушка» был
изумительный – заслушаешься! Память имел он великолеп
ную, прекрасно знал литературу, мог наизусть цитировать
длинные стихотворения и даже поэмы. Кроме того, «дедуш
ка» любил пение; сам не плохо пел и искусно дирижировал
хором. Все другие «политические» в этом охотно ему под
чинялись. Пели они часто, особенно ближе к вечеру, когда
заходящее солнце постепенно все ниже падало где-нибудь
за дальним мысом, зажигая пожаром полгоризонта. Пели
русские и украинские песни: «Дубинушку», «Не осенний
мелкий дождичек», «Реве тай стогне Днипр широкий»,
«Далеко, далеко степь за Волгу ушла». Пели также и ре
волюционные песни, которые я тогда впервые слышал и
100
из которых мне больше всех врезалась в память «Замучен
тяжелой неволей».
Хотя все «политические» казались мне совершенно за
мечательными людьми, но с «дедушкой» у меня скоро
установилась самая нежная дружба. Я просто обожал его,
и, вероятно, ни один любовник не ждет так свидания со
своей милой, как я каждый день ждал момента, когда
«политические» по окончании обеда появятся на палубе и
я смогу прибежать к решетке, чтобы поговорить с «дедуш
кой». Повидимому, и «дедушка» платил мне взаимностью,
потому что он никогда не уставал беседовать со мной,
обмениваться мыслями и впечатлениями, а особенно рас
сказывать. Рассказывал он много – о своей жизни, о чу
жих странах, о русской деревне, о тяготах крестьянской
доли, о несправедливости начальства, о жестокости по
мещиков. Все это он умел облекать в такую ясную, про
стую, понятную форму, что мой детский ум впитывал его
слова, как песок воду. Зинаида Павловна, увидя меня
у решетки, часто с добродушной усмешкой окликала «де
душку» :
– Ну, пропагандист, твой дружок пришел!
На это «дедушка» в тон отвечал:
– Будет толк, матушка, будет толк!
И мы вступали с «дедушкой» в бесконечные беседы.
Однажды «дедушка» меня спросил:
– Ты слышал про Некрасова?
– Как же, слышал! У вас дома есть полное собрание
сочинений Некрасова.
– Какие стихотворения Некрасова ты знаешь?
Я порылся в голове и ответил, что знаю «Крестьянские
дети», «Дедушка Мазай и зайцы» и еще некоторые другие.
– А «Железную дорогу» знаешь? – озадачил меня
«дедушка».
– Нет, не знаю.
– Вот то-то и оно! – укоризненно промолвил он. —
А это одно из самых лучших произведений Некрасова.
И «дедушка» тут же сразу стал его декламировать на-
память. Читал он хорошо, и «Железная дорога» произвела
на меня совершенно потрясающее впечатление. Особенно
поразили меня слова:
Труд этот, Ваня, был страшно громаден,
Не по плечу одному.
В мире есть царь, этот царь беспощаден,
Голод – названье ему.
Правит он в море судами,
В артели сгоняет людей,
Водит он армии, стоит за плечами
Каменотесов, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие, в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька. Насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты...
А по бокам-то все косточки русские.
Сколько их, Ваничка, знаешь ли ты?
Со слов «дедушки» я записал на бумажке это замеча
тельное стихотворение и в тот же день выучил его на
изусть. Весь вечер я только и думал, что о «Железной до
роге», и даже во сне мне мерещились толпы согбенных
тружеников «с Волхова, с мотушки-Волги, с Оки», которые
грозно машут руками и со всех сторон надвигаются на
меня, но вдруг откуда-то появляется милый «дедушка»,
берет меня за руку, подымает на высоту, и все кругом,
точно по мановению волшебного жезла, начинают весело
улыбаться и напевать какую-то изумительно красивую
песню.
«Железная дорога» сыграла большую роль в моем дет
ском развитии. Она как-то оформила и закрепила многие
из тех мыслей и чувств, которые пробудились во мне со
времени встречи с «политическими». Она дала «идеологи
ческое обоснование» той инстинктизной тяге к народу, ко
торую я и раньше в себе ощущал.
«Какой великий и прекрасный русский народ! – часто
думал теперь я. – Как много он страдал! Как желал бы я
помочь ему! Но как это сделать?..»
Ответа на последний вопрос у меня еще не было. Да и
могло ли быть иначе?..
Всему приходит конец, – пришел конец и нашему рей
су. Прощался я с «политическими» в Томске с глубокой
душевной драмой. Казалось, я расстаюсь с самыми близ
кими мне на свете людьми. Когда маленькую партию вы
вели с баржи, я бросился к «дедушке» и повис у него на
шее. Слезы выступили у меня на глазах. «Дедушка» тоже
был тронут. Присутствовавший при этой сцене томский
102
конвойный офицер презрительно поморщился и с расста
новкой бросил:
– К-ка-к-кая сентиментальность!
«Дедушка» отмахнулся от него, как от назойливой му
хи, и, обратившись ко мне, с большой нежностью произ
нес:
– Ну, Ванюша, прощай! Понравился ты мне. Выйдет
из тебя толк. Вот подрастешь и, так же как мы, пойдешь
по Владимирке.
Он поцеловал меня и быстро отошел в сторону, где
уже строилась вся партия арестантов.
– «Дедушка»! «Дедушка»! – закричал я, бросаясь за
ним. – Скажите, как вас звать, как ваша фамилия? Я на
пишу вам письмо...
– «Что в имени тебе моем?»—полушутливо продекла
мировал «дедушка».
Должно быть, он намекал на свою «нелегальность», но
я тогда этого не понял.
Раздалась команда, и вся партия осужденных, звеня
кандалами, серея арестантскими бушлатами с вшитыми
в них пестрыми тузами, двинулась по пыльной дороге
в город...
Пророчество «дедушки» исполнилось быстрее, чем мож
но было ожидать: ровно десять лет спустя я плыл на той
же барже и по тому же маршруту, но только по другую
сторону решетки...
Обратный путь из Томска в Тюмень прошел для меня
в хмурых тонах. После разлуки с «политическими» на
строение у меня сильно упало. Я испытывал грусть и не
удовлетворенность. Ничто больше меня не занимало. Что
бы немножко развлечься, я выпросил у Феоктистова ком
плект издававшегося тогда журнала «Наблюдатель» и
запоем читал в нем какой-то фантастический роман из
жизни древних обитателей Мексики. Однако это мало мне
помогло.
Вдобавок, осень уже начинала вступать в свои права.
Лили дожди. Днем небо было покрыто свинцовыми туча
ми. Ночью царила такая кромешная тьма, что я не пони
мал, как лоцман может находить фарватер. Иногда дули
103
резкие ветры, – тогда широкая гладь реки вздувалась
пенистыми волнами, и наш «Галкин-Врасский» старался
прятаться где-нибудь в узких протоках или за длинными
плоскими островами, тянувшимися почти на всем протя
жении Оби. На Иртыше пошли густые туманы: с баржи
часто не было видно даже пароходных огней. На Тоболе
из-за того же тумана чуть не произошло столкновение
между нашей баржей и корниловским пароходом «Отец».
На Туре, уже под самой Тюменью, поломалась машина
«Галкина-Врасского». Мы стояли целые сутки, пока при
шла вызванная по телеграфу «Фортуна» и, наконец, с
огромным опозданием доставила нас к месту назначения.
Все это не могло, конечно, способствовать особому подъ
ему духа.
В те же хмурые дни мне открылась тайна моего друга
Горюнова.
Мы только что вышли из Томска. Было тихо, тепло,
пароход почти неслышно скользил по кристально-чистым
водам Томи. Там, впереди, нас ждали мощные просторы
Оби, ветры, бури, туманы, но здесь, на юге, все еще пока
говорило о лете, солнце, цветах и ясном голубом небе.
Горюнов стоял ночную вахту, и я почти до рассвета про
сидел в штурвальной рубке. Мы были вдвоем, – вся
остальная баржа с п а л а , – и это невольно располагало к
откровенности, к воспоминаниям, к глубоким задушевным
разговорам.
– Вот, говорят, «политические», – точно отвечая на
какие-то свои мысли, вдруг начал Горюнов. – Н-да... Хо
рошие люди... Ничего не скажешь... А мало толку полу
чается!
– А ты знаешь «политических»? – пораженный слова
ми моего друга, быстро спросил я.
До сих пор на протяжении всего рейса, когда с нами
шла партия «дедушки», Горюнов ни звуком не обмолвился
о «политических», а вот теперь вдруг совсем неожиданно
заговорил о них. Это заставило меня насторожиться.
– Приходилось видать, – точно нехотя, протянул в от
вет Горюнов.
– Где? Когда? – заторопился я, чувствуя, что подхо
жу к какой-то интересной тайне. – Расскажи, Василий,
голубчик, пожалуйста.
На мгновение в штурвальной рубке воцарилось молча-
104
ние. В темноте мне не видно было лица Горюнова. Потом
опять раздался голос моего друга:
– Чего говорить-то... Было и быльем поросло.
– Нет, нет, Василий, – не отставал я, – непременно
расскажи. Это очень интересно.
В рубке опять воцарилось молчание. На этот раз оно
продолжалось довольно долго. В ночной тишине гулко
разносились удары пароходных колес. Шумное эхо отве
чало им с высоких берегов реки. Горюнов раза два попых
тел козьей ножкой и, наконец, решился:
– Ну, уж коли на то пошло...
Он как-то странно крякнул, точно сворачивал тяжелые
камни с дороги, сделал полный оборот штурвальным коле
сом и затем начал:
– Было это годов двадцать назад... Совсем я был мо
лодой мальчишка. С покрова, значит, меня оженили на
Параньке – девка была на селе... Шустрая девка, бедо-о¬
вая... А тут и весна пришла, сеять надо...
Горюнов на мгновение остановился, точно счищая
ржавчину с давно забытых воспоминаний, и потом не
сколько живее продолжал:
– Село наше не то чтобы очень большое, а так, под
ходяще... Дворов сто будет... Хлеб сеяли, ну а кто по ле
там и на пароходах служил... Мы недалеко от Истобен-
ского, вот с истобенскими, значит, на Обь да на Иртыш
ходили. Семья у нас была агромадная: отец, мать, дедуш
ка да детей десять человек. Я вот старшой был. Хлебо
пашествовал. Жили не важнецки. Земли было мало, ртов
много, да тут еще отец стал прихварывать. Когда и про
сто голодали...
Горюнов опять передохнул, раза два налег на штурвал
и вновь вернулся к своему рассказу.
– Вот пришла весна, сеять надо... Опять же скотину в
поле выгонять... С версту от нашего села речка проте
кает... Как скотина в поле, в речке поить ее надо. Другой
воды в окружности никакой нет. И, видишь ты, как оно
вышло. Старики сказывали: как на волю выходили, речка-
то эта нашему селу прирезана была. Да барин соседний
с начальством стакнулся, – ну, бумаги-то и переделали:
земля к нам отошла, а речка да земля перед речкой, так
сажен на сто – «Свиная горка» мы место это звали, —
у барина остались. Вот и вышла морока: хочешь скот по
ить– барину плати. Очень роптали наши мужики. Обма-
105
нули нас, говорят, продали... Да что поделаешь? Так каж
дый год и платили... Ну, а в энту весну дела не важнецки
пошли. Год выдался плохой, хлеба ни у кого нет, оголо
дали. А старый барин умер, приехал новый, да и говорит:
«Шаромыжники, разбойники! Грабили вы моего папашу!
Платили за воду по рублю, будете теперь платить по два!»
Обидно стало мужикам: «Как это мы его грабили? Он нас
грабил! А коли ты измываться над нами приехал, дык ни
чего платить не будем! Наша земля! Наша речка! Хватит,
натерпелись!» Ну, и что ж ты думаешь? Согнали скотину
со всего села, да и погнали ее на водопой... Ни копейки
не заплатили, – так, нахалом!
– Ну, и что же было дальше? – с замиранием души
спросил я.
– Дальше... Ну, известно, что было дальше. Барин в
город – жаловаться. Прислали жандармов... Почитай че
ловек тридцать приехало... На конях... Собрали сход, жан
дармов на улице поставили... Барин кричит: «Выдавай за
чинщиков!» Бегает, весь покраснел, как рак, глаза на лоб
лезут, того и гляди – лопнут. Кричит: «Выдавай! Не вы
дашь, – стрелять будем!» Ну, наши мужички обробели
поначалу быдто... Жмутся к стенке, молчат, в землю смот
рят... Ну, только голяк один – «Тихон без штанов» у нас
его звали – как взойдет да как заорет: «Ах вы, такие-
сякие, шкуру с нас драть приехали?» Да как почнет, да
как почнет их лаять... Тут и другие осмелели: «Наша реч
к а ! – кричат. – Бумаги украли!.. Продали!..» Что тут по
шло! Остервенел народ, на барина стал наступать... Ну,
тут жандармы враз... Как были на конях, так на народ и
полезли... Нагайками бьют, саблями машут... Бабы визг
подняли, ребятишки ревут... Уж и не помню, что дальше
было-то. Рассказывали потом, я совсем обеспамятовал, на
жандарма кинулся, вырвал у него нагайку да давай его
самого полосовать...
Словом, в деревне Горюнова произошло то, что на офи
циальном языке того времени носило наименование «аграр
ных беспорядков». И дальше все пошло, как полагается в
таких случаях. Крестьянская масса не выдала «зачинщи
ков», но жандармы все-таки арестовали десятка полтора
случайных людей и увезли их в город. В числе захвачен
ных оказался и Горюнов. Арестованные месяцев восемь
просидели в тюрьме, потом их судили, троих оправдали,
106
а остальных приговорили к различным срокам каторжных
работ и к поселению. Горюнов по молодости лет отделал
ся поселением. В глухую зиму вместе с другими сопро-
цессниками он был отправлен пешим этапом из Вятки в
Восточную Сибирь. Перевозки арестантов на барже в то
время еще не было. После долгих странствий и мытарств
Горюнов прибыл, наконец, на место своего поселения —
где-то в дальнем углу Забайкалья. Здесь он провел четы
ре года, и здесь же он имел случай столкнуться с «поли
тическими». Они научили его грамоте и вложили в его го
лову первые политические мысли.
– Хороший народ «политические», – как бы подводя
итог, еще раз повторил Горюнов, – очень для бедного че
ловека стараются. Только вот что-то все не выходит.
– Ну, а что было потом? – нетерпеливо перебил я.
– Значит, Манифест вышел... Освободили меня... Вер
нулся я на родину...
Голос Горюнова как-то сорвался, и в штурвальной руб
ке опять воцарилось молчание. Слышны были только гул
кие удары пароходных колес.
– Дома все вразвалку пошло, – овладев собой, про
должал Горюнов. – Отец умер вскоре, как меня взяли.
Матушка не могла осилить хозяйство, продала лошадь, ко
рову, стала побираться. Трое младших ребят умерли в
горячке. Другие пошли по людям.
– Ну, а Паранька?
Горюнов снова замолчал, и молчание его продолжалось
так долго, что я уже стал отчаиваться в ответе. Я почув
ствовал, что затронул какое-то особенно болезненное ме
сто, и даже пожалел о своем вопросе. Но Горюнов еще
раз преодолел свое волнение и с оттенком горечи в голосе
сказал:
– А Паранька, сказывают, спуталась с бариновым сы
ном... Ну, он, конечно, побаловался с ней, а как Паранька
затяжелела, выгнал на все четыре стороны... Она возьми
и утопись в речке... Известно – баба!
Родное село стало после этого Горюнову ненавистно.
Он ушел в Истобенское и стал ходить матросом на Оби.
Вот уже лет пятнадцать занимается этим промыслом. До
ма, в Истобенском, у него жена, двое сыновей и одна
дочь, он учит их в школе и надеется, что жизнь его детей
будет лучше и счастливее, чем его собственная.
107
В конце августа я стал собираться домой. Отец дол
жен был проплавать на барже еще весь сентябрь, но мне
надо было вернуться в Омск к началу учения. Придуман
был такой план: на другой арестантской барже, ходившей
в течение лета по тому же маршруту, что и наша, врачом
был наш омский знакомый Бориславский. С ним на барже
плавали два его сына – старший, Коля, только что окон
чивший гимназию, и младший, Петя, мой одноклассник.
Между нашими родителями было договорено, что меня
присоединяют к Бориславским, и все мы трое, под руко
водством семнадцатилетнего Коли, возвращаемся в Омск
на пароходе «Сарапулец». В пути между Тюменью и Том
ском, где-то неподалеку от Самаровского, меня пересадили
на баржу Бориславских, шедшую в Тюмень, и в Тобольске
трое молодых путешественников были спущены на берег,
для того чтобы дождаться здесь «Сарапульца» и двинуть
ся на нем домой вверх по Иртышу. Все было разработано
как будто бы точно, ясно, до мельчайших подробностей,
и намеченный план казался нашим родителям верхом со
вершенства. Но...
Гладко сказано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить.
Едва наша небольшая компания ступила на территорию
Тобольска, как начались неожиданности и злоключения.
Мы приехали в Тобольск утром и, по расписанию, должны
были в тот же вечер отплыть в Омск на «Сарапульце».
К обеду, однако, пришло известие, что «Сарапулец» по
терпел аварию, стал в ремонт, и его очередной рейс на
Омск отменяется. Сильно обескураженные, мы стали обхо
дить тобольские пристани и выяснять, нет ли в ближайшее
время какого-нибудь другого парохода в нужном нам на
правлении. Оказалось, что на следующий день из Тоболь
ска в Омск идет «Федор», принадлежавший компании Зло¬
казова, причем, как нас заверили, он поведет только одну
баржу и, стало быть, доберется до Омска в пять-шесть
дней. Это было и приятно, и неприятно. Приятно – потому
что не приходилось слишком долго ждать парохода, не
приятно – потому что новая ситуация ставила нас в очень
трудное финансовое положение. Родители снабдили нас
билетами второго класса на «Сарапулец» и известной сум
мой наличными, которой было вполне достаточно для
108
оплаты питания даже из пароходного буфета. Но «Сарапу
лец» принадлежал компании Курбатова, и билет на него
был недействителен для «Федора», принадлежавшего ком
пании Злоказова. Стало быть, нам надо было покупать
новые билеты, а сверх того, еще снимать до завтра номер
в гостинице. Молодые путешественники устроили военный
совет и, подсчитав свои ресурсы, пришли к выводу, что их
хватит лишь на билеты третьего класса. Так и сделали:
через полчаса три билета третьего класс до Омска лежали
у нас в кармане. В какой-то очень подозрительной
гостинице, носившей громкое название «Европа», мы сняли
номер на троих и заказали себе две «пары чаю». Потом
мы пошли бродить по городу; изучили во всех подробно
стях базар, поднялись на гору, где был когда-то кремль,








