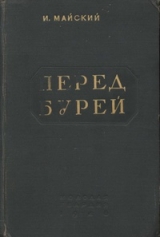
Текст книги "Перед бурей"
Автор книги: Иван Майский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
чужке и затем прибавлял: – С
каждым днем я открываю
в Гейне все новые и новые достоинства и убеждаюсь, что
этот вечно насмешливый, вечно скептический Аристофан
девятнадцатого века – один из величайших гениев и зна
токов человеческой души вообще, а души людей нашего
века в особенности. Гейне – это человечество. Он олице
творяет его в своем лице с таким совершеством, как
никто. В нем нашли свое отражение все хорошие и дурные
стороны человечества, вся широкая и пестрая панорама
житейского рынка, вся его боль и скорбь, вся его злость
и негодование. За это-то я так люблю Гейне! Короче, я
останусь ему неизменно верен».
Последнее замечание было пророческим. Из всех моих
литературных увлечений юности самым длительным и
прочным оказалось увлечение Гейне. Я сохранил его на
всю жизнь, и даже сейчас, в минуту раздумья или отдыха,
я люблю перелистать томик стихов этого ни с кем не срав
нимого и ни на кого не похожего поэта. В те годы мне
больше всего хотелось читать Гейне в подлиннике. И по
тому я решил изучать немецкий язык.
Моим учителем был органист лютеранской кирки в Ом
ске по фамилии Браун. Хотя в нашем городе он сходил
за «немца», на самом деле Браун был латыш из Риги,
кончивший там немецкую гимназию. Сколько ему было
лет, сказать не могу: Браун всегда обходил этот вопрос,
как и вообще все вопросы, относящиеся к его прошлому.
Только позднее я понял, почему. На вид моему учителю
можно было дать лет пятьдесят, и весь он со своим полу
седым низким «ежиком» на голове, всегда ярко отливав
шим помадой, со своими бритыми усами и бородой, с
глубокой сетью морщин на бледноватом лице, казался
каким-то полузасохшим сморщенным лимоном. Лишь глаза,
черные, острые, чуть-чуть испуганные, как-то не гармони
ровали с общим обликом Брауна: точно они были взяты
от другого человека и невпопад приставлены к этому
лицу. Одевался Браун скромно, но чистенько и аккуратно,
и, ходя по улице, любил курить трубку.
Вначале наши занятия шли очень официально. Один
урок мы посвящали чтению «Путевых картин» Гейне, дру
гой—разговору, причем беседовали мы на самые «беспар
тийные» темы: о погоде, о достопримечательностях
184
Омска, об отметках за четверть и тому подобных мало ин
тересных вещах. Понемногу, однако, лед стал таять, и
наши отношения начали принимать более человеческий ха
рактер. Большую роль в сближении с учителем сыграла
моя любовь к органу. Этот инструмент всегда возбуждал
во мне самое искреннее восхищение. До сих пор я счи
таю, что орган – самый могучий, самый вдохновенный
музыкальный инструмент из всех, созданных человече
ством. Больше, чем какой-либо иной, он способен поко
рять и завоевывать душу. Браун стал водить меня в кирку
в часы, свободные от богослужений, и разыгрывать предо
мной изумительные органные концерты. Музыкант он был
хороший и дело свое любил страстно. Бах, Моцарт,
Гайдн, Бетховен и многие другие композиторы прошли
здесь предо мной в своих величайших произведениях, и
здесь именно я впервые понял и почувствовал все несра
вненное величие Бетховена, который остался на всю даль
нейшую жизнь моим музыкальным «богом».
Орган проложил дорогу к моему сближению с учите
лем. Он жил при кирке в маленькой квартирке из двух кро
хотных комнаток с кухней и часто после «концерта» при
глашал меня к себе выпить стакан чаю. Жил он один, ста
рым холостяком, помещение свое содержал в идеальной
чистоте и сам вел все свое несложное хозяйство. Мало-
помалу я так освоился в квартирке Брауна, что стал чув
ствовать себя здесь, как дома, и позволял себе иногда
рыться на его книжных полках и в разных укромных уго
лочках. Как-то раз мы зашли к учителю после великолеп
ного концерта Баха—оба в очень приподнятом, почти радо
стном настроении. Были ранние зимние сумерки, и учитель
сразу пошел на кухню ставить чай. Я же подошел к не
большой этажерке и, порывшись немножко в каких-то
старых иллюстрированных журналах, вытащил сильно по
линявший от времени альбом фотографических карточек.
Машинально я стал его перелистывать. Лица мне были
совершенно незнакомые, но по костюмам и прическам
женщин видно было, что все портреты относились к эпо
хе 70—80-х годов прошлого века. Одна фотография при
влекла мое особенное внимание: она изображала молодую
девушку с длинной толстой косой, сильно напоминавшую
по типу гётевскую Гретхен. Лицо нельзя было назвать
красивым, но в нем было много какого-то нежного очаро
вания.
185
– Кто это? – спросил я учителя, когда он поставил
на стол чай и печенье.
Я никогда не забуду эффекта, произведенного моим не
винным вопросом. Браун внезапно изменился в лице, по
темнел, еще больше сморщился. Из груди его вырвался
какой-то странный звук, похожий не то на икоту, не то
на сдержанное рыдание. Учитель круто отошел от стола
и неподвижно остановился у замерзшего окна, уткнув
шись в него лицом. Я не мог понять, в чем дело, но сра
зу почувствовал, что своим вопросом я затронул какую-то
скрытую, незажившую рану. Я был смущен, но не знал,
как выйти из положения. Прошло несколько минут нелов
кого молчания. Наконец, Браун овладел собой, вернулся
к столу и налил мне и себе по стакану чаю. Однако все
его недавнее оживление, вызванное Бахом, исчезло без
следа. Он был теперь мрачен, угрюм и показался мне го
раздо более сутулым, чем обычно. Не говоря ни слова,
мы в тяжелом напряжении выпили чай, и я поднялся, что
бы поскорее уйти. Я хотел, однако, как-нибудь загладить
свою бестактность и на прощанье сказал:
– Извините меня, пожалуйста, за необдуманный во
прос... Я не знал... Я не думал причинить вам неприят
ность.
Какая-то тень прошла по лицу учителя, и он вяло от
ветил:
– Нет, нет, что же?.. Я понимаю... Не беспокойтесь...
Все проходит...
Я надел на себя шинель и собрался уходить. Но, когда
л уже брался за ручку двери, учитель вдруг судорожно
сорвался с своего места, подбежал ко мне и, схватив за
руку, молящим голосом заговорил:
– Не уходите, ради бога! Посидите со мной!.. Я боюсь,
я боюсь! Она опять придет! Она опять будет мучить меня!..
– Кто она? – с недоумением спросил я.
– Вы знаете, кто эта женщина, о которой вы спраши
вали? – глухо пробормотал учитель.
– Нет, не знаю. Кто она? – откликнулся я.
Браун передохнул, точно ему трудно было выговорить
слово, которое он собирался сказать, и затем почти про
шептал:
– Это моя жена...
Вдруг голос учителя сразу перешел на крик:
186
– Нет, я сказал неправду! Это не моя жена!.. Это моя
невеста!..
Я почувствовал, что предо мной какая-то тяжелая тай
на, какая-то старая, еще не изжитая драма, и мне стало
жалко этого глубоко раненного человека. Я разделся и
вернулся в комнату. В быстро надвигающихся сумерках
очертания вещей и предметов стали как-то смягчаться и
туманиться. Я сел на кресло в двух шагах от Брауна, но
в полумраке мне плохо было видно выражение его лица.
Он тяжело дышал и никак не мог успокоиться.
– Вы извините меня, что я вас задерживаю, – винова
тым голосом проговорил органист, – это скоро пройдет...
это скоро пройдет!
Я стал его успокаивать как мог. Я не просил Брауна
рассказать мне, что его так волнует, – мне казалось это
бестактным и жестоким. Но он сам, видимо, искал случая
облегчить свою душу, – должно быть, он долго, очень
долго молчал, – и скоро из его уст полились слова... Сна
чала трудно, коряво, с запинками и заминками, как телега
по дороге с ухабами, а потом все легче, все быстрее, все
неудержимее. Хорошо, что были сумерки. В сумерки, ког
да не видно выражения лица собеседника, легче всего го
ворить на интимные, волнующие темы. В тот вечер я
услыхал жуткую историю, которая могла бы показаться
страницей из мрачного средневекового романа, если бы
она – увы! – не являлась живой реальностью в обста
новке царской России.
Мой учитель был сыном мелкого лавочника из окре
стностей Риги. Отец его почитал образование, тянулся изо
всех сил и дал мальчику возможность окончить немецкую
гимназию в Риге. Ставши на свои ноги, Браун пошел учи
тельствовать. Он получил должность в школе, располо
женной в одном из крупных латышских сел, а сверх того,
выполнял обязанности органиста в местной церкви. Дела
у него сразу пошли успешно. Он был молод, полон надежд
и энергии, будущее рисовалось ему в радужных красках.
Работы было много, но он ее любил и справлялся с ней
хорошо. Население относилось к учителю с симпатией, а
скоро в дополнение ко всему этому пришла любовь. На
одной вечеринке Браун познакомился с дочкой местного
начальника почты, той самой девушкой, портрет которой
я видел в альбоме, почувствовал, что сердце его забилось
сильнее, и быстро убедился, что другое сердце отвечает
187
взаимностью. Роман продолжался несколько месяцев.
Взаимная страсть разгоралась все сильнее. Наконец, на
значена была свадьба – через несколько дней после боль
шой осенней ярмарки, устраивавшейся как раз в том селе,
где работал Браун. Молодой жених находился в состоя
нии восторженного опьянения, приготовлял свое жилище
к приему дорогой гостьи и с нетерпением ожидал дня,
когда это счастливое событие должно было совершиться.
Наступила ярмарка. Со всей округи собралась масса
народу. Приехал на ярмарку также сын важного немец-
кото барона, имевшего замок поблизости от села. Ходили
слухи, что предки барона разбойничали на большой доро
ге и что его родной дед был пиратом на Индийском океа
не, но попал в руки англичан и погиб на виселице. Нынеш
ний барон, однако, был большой человек при царском дво
ре и занимал разные высокие должности. Жил он большей
частью в Петербурге, а находившийся на месте управляю
щий драл три шкуры с окрестных крестьян и грозил ка
ждому недовольному. В этот год сын барона—молодой
конногвардейский офицер – проводил лето в замке, пьян
ствуя и безобразничая с привезенной им из столицы ком
панией. На ярмарке вся эта компания держалась шумно и
вызывающе, переворачивая телеги, сбивая с ног прохожих,
нахально приставая к женщинам. На беду, невеста Брауна
попалась на глаза баронскому сыну. Хорошенькая девуш
ка понравилась гвардейцу, и он бесцеремонно, на глазах
всего народа, облапил ее и стал целовать. Видевший это
Браун не мог удержаться, бросился на офицера и оттолк
нул его от невесты. Баронский сын пришел в ярость и,
наверное, тут же избил бы Брауна нагайкой, если бы не
вмешательство окружающей толпы. Знатный хулиган от
ступил пред разъяренными лицами и возмущенными крика
ми, но, уезжая, крепко выругался и погрозил Брауну ку
лаком:
– Я тебе это припомню!
И действительно, припомнил.
В назначенный день сыграли свадьбу. Было много го
стей, много вина, много добрых пожеланий. Когда все
разошлись и разъехались, молодые остались одни и, пол
ные счастья и любви, стали готовиться ко сну. Было уже
за полночь. Вдруг у входа в учительский дом, помещав
шийся на окраине села, раздался шум колес и вслед за
тем послышался громкий стук в дверь. Думая, что это
188
вернулся кто-то из недавних гостей, Браун открыл дверь
и сразу же был сбит с ног сильным ударом кулака в го
лову. Четверо здоровых парней из дворни барона ворва
лись в дом, схватили жену Брауна, заткнули ей рот, на
кинули на голову мешок и бросили в стоявшую у подъ
езда повозку. Браун пытался вырвать жену из рук
насильников, но был отброшен, смят и осыпан ударами.
Вслед за тем повозка с женой и ее похитителями скрылась
в темноте ночи. Не помня себя, не понимая толком, что
он делает, Браун бросился вслед за повозкой по дороге
к замку. Он бежал и кричал, призывая жену, проклиная
насильников, грозя всякими карами баронскому сыну. Ког
да Браун оказался, наконец, перед замком, ворота его
были наглухо закрыты. В окнах не видно было ни одного
огня. Он стал барабанить в ворота замка, стучал, кричал,
требовал, чтобы его впустили и отдали ему его жену. На
все вопли Брауна мрачный замок отвечал лишь мертвым
молчанием. Наконец, ключ заскрипел в воротах замка.
В душе Брауна вспыхнула потрясающая, невероятная на
дежда: может быть, это она, это его жена? Может быть,
баронский сын все-таки опомнился?.. Может быть,
уступая мольбам девушки, он, в конце концов, решил от
пустить ее?.. Но нет, три огромных волкодава выскочили
из ворот и бросились на Брауна. Он едва успел отскочить
и, схватив тяжелый сук, стал отбиваться от наседавших
на него собак. Ворота вновь захлопнулись, и Брауну ста
ло ясно, что оттуда, из замка, пощады ждать нельзя.
Преследуемый волкодавами, гонимый собственным отчая
нием, Браун в темноте ночи побежал назад, в село. Он
поднял с постели ничего не подозревавшего отца девуш
ки и рассказал ему о происшедшем. Начальник почты от
правил душераздирающую телеграмму в Ригу по началь
ству, прося помощи и защиты. Но было четыре часа утра,
все власти в Риге спали, а дежурный телеграфист не ре
шился в такую рань беспокоить высокое начальство. Он
просто ответил:
– Мало ли что бывает! Разберемся завтра.
Тем временем весть о похищении жены Брауна стала
распространяться по селу. Несмотря на ранний час, к до
му начальника почты стал собираться народ. Все возму
щались, кричали, ругали баронского сына, но никто не
решался сделать отсюда практические выводы. Напрасно
Браун умолял собравшихся вместе с ним итти к замку и
189
требовать немедленного освобождения его жены, – кре
стьяне переминались с ноги на ногу, чесали затылки и не
двигались. А один, более откровенный, сказал:
– Н-да, поди-ка, попробуй!.. Тоже тебе шею налома
ют... Барон-то при государе состоит.
Часы проходили. Наступил день. Начальник почты
вновь послал в Ригу отчаянную телеграмму. В ответ ему
сообщили, что обе телеграммы переданы по начальству,
но от начальства не было ни слуху, ни духу. Брауну ка
залось, что он сходит с ума.
Между тем по селу пошли неизвестно откуда взявшие
ся темные слухи, что нынче ночью в замке произошло
что-то страшное. Слухи эти росли, усиливались, пока, на
конец, не пришли из замка люди и шопотом, по секрету,
не рассказали, что случилось: похищенная жена Брауна
была передана в руки баронского сына и его компании.
Все они были вдребезги пьяны и едва ли даже ясно со
знавали, что делали. Несчастная девушка была изнасило
вана всеми по очереди. Совершенно обезумевшая, рано ут
ром она выбросилась из окошка замка и разбилась на
смерть...
Трудно описать состояние Брауна после этой истории.
Рассудок его помутился. Он пытался поджечь замок, но
это ему не удалось. Он хотел повеситься, но его от этого
спасли. Он заболел тяжелой нервной горячкой и много
месяцев пролежал в больнице. Он вышел оттуда разби
тым человеком: весь как-то сломался, постарел, потерял
почву под ногами. Он не мог больше оставаться в родных
местах, где все ему напоминало о только что пережитой
трагедии, и стал бродить по России. Был в Одессе, на
Кавказе, на Волге. В конце концов, восемь лет назад
судьба закинула его в Омск.
Браун навсегда остался холостяком: самая мысль о
женитьбе теперь стала для него предметом ужаса...
– А что же сталось с баронским сыном? – спросил я,
когда Браун кончил свой рассказ. – Был ли он наказан?
– Н а к а з а н ? – с горечью повторил мой вопрос Браун.—
Разве таких людей наказывают?.. Ведь его папаша был
близок к царю... Ну, на другой день после всего проис
шедшего приехали власти в замок, их там хорошо
угостили, напоили, а потом они составили протокол:
смерть, мол, произошла оттого, что девица была сильно
190
выпивши и в состоянии опьянении, случайно оступившись,
выпала в окно. Вон оно как вышло! Она же, мол, сама и
виновата. Тем дело и кончилось. Н-да, недаром говорит
ся: с сильным не борись, с богатым не судись.
Браун глубоко задумался. Я тоже молчал, потрясенный
рассказом, который только что услышал. Наступил вечер,,
и в комнате было совсем темно, но лампы зажигать не
хотелось.
Браун, наконец, очнулся и проговорил:
– Спасибо, что вы остались. Я выговорился, и мне
стало легче. Обычно я не думаю об этой давней истории.
Временами мне даже кажется, что я ее забыл. Но потом
вдруг что-нибудь напомнит мне о ней. Будто ножом по
сердцу полоснет... И тогда ко мне приходит она... Я вижу
ее такой, какой она была в момент ее похищения: руки
связаны, лицо белое, без кровинки, а глаза смотрят на ме
ня укоризненно, будто спрашивают: почему же ты меня не
спасешь?.. О! В такие минуты я готов повеситься...
Браун застонал и хрустнул пальцами. Я схватил его за
руку и стал успокаивать. Постепенно он оправился и как
будто бы пришел в себя. Потом уже совсем другим,
обыкновенным, повседневным голосом сказал:
– Совсем стемнело. Надо лампу зажечь. И вам пора
итти домой, а то ваша мамаша будет беспокоиться.
18. ОГНИ ЖИЗНИ ЗАГОРАЮТСЯ НАД МОИМ
ГОРИЗОНТОМ
Целую неделю после того я ходил под впечатлением
рассказа Брауна. Все думал и передумывал, все старался
доискаться до того, основного, главного, что вытекало из
этого рассказа. Кровь закипала у меня, когда я вспоминал
о той ужасной несправедливости, жертвой которой стал
Браун, и о том, что виновник гнусного преступления
остался безнаказанным. А почему? Только потому, что
сам он был гвардейский офицер, что отец его был близок
к царю, что оба они были представителями высшего со
словия в государстве. Классовая структура царского об
щества впервые встала предо мной в столь обнаженной, в
столь отталкивающей форме, и я невольно должен был
задуматься. Я начал рыться в памяти и перебирать фак
ты и впечатления прошлого, лежавшие там до сих пор,
191
как случайно набросанные кирпичи. Я вспомнил фельд
фебеля Степаныча и моего друга новобранца Карташева,
я вспомнил штурвального Горюнова и рассказы «дедушки-
политического», я вспомнил забитость и нищету подмо
сковных крестьян, с которой мне приходилось сталкивать
ся в Мазилове и Кирилловне, я вспомнил полуголодное
существование омских ремесленников, у которых я учился
столярному и слесарному делу, я вспомнил сотни иных
«мелочей жизни», которые раньше как-то незаметно про
ходили мимо моего сознания, но которые теперь приоб
рели в моих глазах совсем особенное значение. Я вспо
мнил все это, собрал вместе, суммировал и впервые пришел
к выводу, который в точной формулировке должен был
гласить: «Долой самодержавие!» Я не хочу сказать, что
у меня в тот момент нашлась именно такая точная форму
лировка, – конечно, нет. Я кончил гимназию, не видав ни
одной нелегальной брошюры или листовки, и лозунг «До
лой самодержавие!» воспринял уже только в Петербурге,
после поступления в университет. Однако существо тех
заключений, к которым я пришел в результате размышле
ний, вызванных рассказом Брауна, было именно таково.
Именно с этого момента в моей душе загорелась та
острая, жгучая ненависть к царизму, которая спустя ко
роткое время привела меня в лагерь революции.
Итак, путеводная цель была найдена. Но каков веду
щий к ней путь?
Здесь все для меня попрежнему оставалось в тумане.
Зимой 1898/99 года мы часто спорили с Олигером по
вопросу о легальных и нелегальных формах работы. Оли
гер отстаивал идею создания подпольного органа вроде
«Колокола» Герцена (мы в то время в нашей омской глу
ши не подозревали, что подпольные органы уже суще
ствуют), я же, наоборот, находил, что передовой ле
тальный орган вроде «Русского богатства» может прино
сить гораздо больше пользы. Вообще в то время я дока
зывал, что сейчас в России важнее всего просвещение
народа и что только просвещение может подготовить
широкие массы к восприятию «идей равенства и свободы».
Отсюда я делал вывод, что «мирный путь прогресса»
прочнее и успешнее, чем революционные катаклизмы. На
«Санитарной станции» и в Сарапуле мы много беседовали
на ту же тему с Пичужкой, причем моя кузина оказыва
лась еще более прямолинейной сторонницей «культурни-
192
чества», чем я. Отчасти под ее влиянием я любил в то
время провозглашать:
– Культура, и только культура, приведет человечество
к счастью!
В дальнейшем, однако, у меня появились сильные со
мнения в правильности этой «культурнической» концеп
ции, и позднее я с некоторой издевкой писал Пичужке,
что она собирается «малыми делами приносить великую
пользу». Мои сомнения еще больше возросли, когда
осенью 1900 года в Омске вдруг опять внезапно появился
Олигер.
За год нашей разлуки с моим другом произошло много
интересного. Саратов, где после ухода из нашей гимназии
он поступил в химико-техническое училище, не в пример
Омску, был в то время уже крупным революционным
центром. Здесь имелись уже социал-демократические груп
пы, организации учащихся, кружки на заводах, нелегаль
ная литература, прокламации. Олигер очень быстро ориен
тировался в этом подпольном мире и стал играть доволь
но крупную роль в организации молодежи. Учился он
мало и плохо, но зато охотно брался за различные риско
ванные поручения. В конце концов Олигер «провалился»
и вынужден был бежать от ареста. С большим трудом и
разными приключениями он нелегально перешел границу и
очутился в Кракове, входившем тогда в состав Австро-
Венгрии. Здесь он поболтался месяца два, проел все имев
шиеся у него деньги, пытался, но не сумел как-нибудь
устроиться и, в конце концов, решил пробираться до
дому. Олигер вновь нелегально перешел границу, но уже
в обратном направлении, и затем, далеко объезжая Сара
тов, старательно избегая встречи с жандармами, прибыл
потихоньку в свою отчизну – в Омск.
Мы встретились, как старые друзья, и наши отношения
стали крепнуть с каждым днем. Планы Олигера вначале
были самые неопределенные и подчас фантастические. То
он собирался стать актером, то хотел итти в моряки, мно
гозначительно подчеркивая, что дядя его пятнадцатилет
ним мальчиком бежал на корабль и после того проплавал
всю жизнь. Затем Олигер решил готовиться на аттестат
зрелости и держать экзамен экстерном вместе со всеми
нами весной 1901 года. Я стал помогать ему в подготовке.
В конечном счете и из этого проекта ничего не вышло,
и Олигер так и вышел в жизнь гимназическим недоучкой,
193
что, впрочем, нисколько не помешало его дальнейшей
карьере.
Мы виделись с Олигером почти ежедневно. Нам никог
да не было скучно, и мы всегда находили темы для самых
оживленных разговоров, засиживаясь друг у друга до глу
бокой ночи. Особенно я любил бывать у Олигера в его
маленькой, убого обставленной комнатушке. Обычно он
ложился на кровать, я ложился на стоявший поблизости
старый продавленный диван, и мы начинали разговаривать,
или, вернее, мыслить вслух. С невероятной легкостью
мы облетали воображением весь мир, касались самых раз
нообразных проблем, обменивались мнениями и спорили
по самым сложным и запутанным вопросам. Часто один
начинал высказывать какую-либо мысль, другой на лету
ее перехватывал и развивал дальше, потом первый вновь
вступал в игру, вносил поправки и дополнения, потом мы
оба лихорадочно неслись вперед в своих выкладках и по
строениях, потом мы вдруг обнаруживали, что зашли в
тупик и со смехом бросали в мусорный ящик заинтересо
вавшую нас идею. Все это было очень весело и занятно,
и в процессе такой умственной гимнастики наши диалек
тические способности, несомненно, развивались. Мы посто
янно делились с Олигером мыслями и чувствами, мечтали
о своем будущем (которое, конечно, должно было прине
сти нам славу и успехи!), говорили о человечестве, о его
прогрессе, о завоеваниях науки и достижениях литерату
ры и искусства.
Чаще всего и серьезнее всего мы говорили, однако, о
том, что нас тогда больше всего занимало, – как, каким
путем можно было бы покончить с самодержавием? Не
смотря на то, что Олигер уже несколько потерся в рево
люционных кругах и даже побывал «в эмиграции», ясного
ответа на этот вопрос у него не было. В голове у Олиге
ра была почти такая же путаница, как и у меня, допол
нительно еще сдобренная горячим воображением и пыл
костью темперамента. То он мечтал об убийстве царя и
его министров, то он предрекал массовое крестьянское
восстание, которое должно все снести с лица земли, то
ему рисовался великий ученый, который делает изуми
тельное, небывалое открытие, благодаря ему приобретает
власть над миром и грозно заявляет всем нынешним вла
дыкам:
– Уходите... или я вас уничтожу!
Все это казалось мне мало убедительным и вероятным,
и я ему постоянно говорил:
– То, да не то!
На что Олигер отвечал своим любимым изречением.
– Полюби нас черненькими, а беленькими-то нас вся
кий полюбит.
Постепенно, из споров, бесед, обмена мнений, у нас
стала вырисовываться известная концепция. Она сложи
лась в результате многих влияний, но главными из них
были: бунтарство Стеньки Разина, культ «героев», про
пагандировавшийся тогда народническим идеологом
Н. К. Михайловским, и аристократическое презрение
к «толпе», столь ярко выраженное у Байрона. Выводы, к
которым мы пришли, были мрачны и фантастичны.
– Мир должен быть очищен огнем! – со свойственной
ему горячностью восклицал Олигер.
– От старой жизни не должно остаться камня на кам
не! – вторил ему я.
И затем мы оба начинали усердно рыться в истории,
выискивая великих «героев», в свое время пронесшихся
грозой над миром. Атилла, Чингис-хан, Тамерлан, Напо
леон вдохновляли наше воображение.
– Мне страшно импонирует Наполеон,– как-то сказал
я Олигеру. – Это колоссальная фигура!
И в дополнение я с чувством продекламировал «Воз
душный корабль» Лермонтова и «Два гренадера» Гейне.
Оба эти стихотворения в то время производили на меня
сильнейшее впечатление.
Однажды в начале 1901 года я пришел к Олигеру и,
вытащив из кармана несколько мелко исписанных листоч
ков, повелительно сказал:
– Слушай!
И затем с некоторым волнением я прочитал ему напи
санное мной накануне стихотворение в прозе под загла
вием «Я хочу быть великой грозою». Здесь была ярко из
ложена вся наша тогдашняя философия. Начиналась моя
фантазия с того, что «великий дух предстал предо мною»
и, как водится в подобных случаях, весьма кстати спро
сил меня, чего я желаю? Желаю ли я стать великим по
этом, или великим мудрецом, или великим музыкантом,
скульптором, художником? Дух обещал исполнить всякое
мое желание. Но я отвечал:
– Я не хочу быть ни певцом, ни мудрецом, ни музы-
195
кантом, ни художником, ни скульптором, – я хочу быть ве
ликой грозою старого напорченного мира! Я хочу быть
мстителем за кровь, за слезы, за боль и обиды тысяч по
колений, я хочу быть грозным вождем всех униженных и
оскорбленных земли! Я не хочу любви,—я хочу ненависти!
«Великий дух» омрачился, услышав мое желание, и об
ратился ко мне с просьбой подумать хорошенько прежде,
чем решать окончательно. Но так как я настаивал на сво
ем желании, то «великий дух» сказал:
– Хорошо, я исполню твою волю.
И вот я стал «великой грозою». Толпы народа тесни
лись вокруг меня, знамена развевались в воздухе, мечи
сверкали, города горели, поля опустошались, кровь лилась
бесконечным потоком, и глубокая ночь освещалась заре
вом старого мира. Бурным, всеуничтожающим потоком
прошли мы шар земной от края До края и смели с лица
земли грандиозное здание старой, лживой и затхлой жиз
ни. А миллионные толпы оглушительно кричали:
– Слава нашему великому вождю! Слава ему вовеки!
Но, когда гроза, наконец, промчалась и «настало время
творить и созидать», люди приступили ко мне и стали
спрашивать:
– Скажи нам, вождь, что же нам теперь делать?
Но в ответ я молчал. Ибо я был грозой, а не миром.
Я умел разрушать, но не умел строить. Тогда толпа при
шла в ярость, взбунтовалась против меня и стала кричать:
– Зачем ты увлек нас за собой, проклятый безумец?
Я был низвергнут с высоты в бездну. Великий подъем
сменился великим разочарованием.
И вдруг вся жизнь человечества со всеми ее печалями
и радостями, тревогами и волнениями, показалась мне «та
кой грустной, бесконечно грустной, и жалкой, и смешной
историей»...
Олигеру моя фантазия страшно понравилась... Он нахо
дил ее не только хорошо написанной, но и очень глубо
кой по содержанию.
– Знаешь что? – вдруг воскликнул он с энтузиаз
мом. – Почему бы тебе не напечатать свое произведение
в газете? Ну, например, в «Сибирской жизни»?
«Сибирская жизнь» была крупная по тому времени том
ская газета, к которой все мы относились с почтением.
Это было не то, что наш омский «Степной край». То об-
196
стоятельство, что Олигер упомянул в данной связи имен
но о «Сибирской жизни», сильно льстило моему самолю
бию. Тем не менее я не чувствовал полного внутреннего
удовлетворения. Хотя мое стихотворение в прозе нрави
лось мне, как литературное произведение, оно лишь в
особо яркой форме подчеркивало незаконченность всей
нашей концепции, зияющую пустоту в столь увлекавших
нас тогда построениях. Прекрасно: мы приводим в движе
ние миллионные толпы угнетенных и обиженных, мы про
носимся грозой над миром и разрушаем до основания
старую, мерзкую жизнь, а дальше что? На этот основной
вопрос у меня не было ответа, и отсутствие его меня бес
покоило и раздражало.
Тем не менее совет Олигера пришелся, как говорится,
кстати. Я снес свое произведение омскому представителю
«Сибирской жизни», старому народнику Шахову, и с
трепетом стал ждать результатов. Каковы же были мои
восторг и упоение, когда недели две спустя я увидал
свою фантазию напечатанной в «Сибирской жизни»! Она
занимала две трети подвала на второй странице газеты,
и заголовок ее был выведен такой красивой, тонкой, поэ
тической вязью...
Это было настоящее торжество. К тому же я получил
гонорар – первый в моей жизни литературный гонорар —
6 рублей 69 копеек! Я повел Олигера и еще целую ком
панию друзей в гостиницу «Европа» (хотя это строго
запрещалось гимназическими правилами), и мы там устро
или настоящий «пир». Все поздравляли меня с успехом и
предрекали мне большую литературную карьеру. Это бы
ло приятно. Однако на следующий день я услышал нечто
иное. Жена Шахова – большая, мужеподобная женщина
с коротко подстриженными полуседыми волосами – при
гласила меня к себе и жестоко отчитала за идею моего
произведения.
– У тебя есть дарование, – грубовато говорила она,
величая меня на «ты», – но по содержанию твоя фантазия
никуда не годится. Мысли у тебя реакционные!
– Как реакционные? – с возмущением воскликнул я.
Я чувствовал себя тогда страшным «революционером».
Но Шахова со мной не соглашалась. Она, так же как и ее
муж, была старая народница и теперь атаковала меня со
своих позиций. Я молчал и слушал. Слова Шаховой были
для меня не во всем убедительны, но я чувствовал, что
197
их нельзя просто пропустить мимо ушей. Они давали свой
ответ на мучивший меня вопрос: что же дальше? Мне толь
ко казалось, что в этом ответе правда как-то странно
перемешана с неправдой. Впрочем, доказать этого даже
самому себе я тогда еще не мог.
Как бы то ни было, но в моей жизни была пройдена
важная веха: я стал «печататься» в газетах!
В ту же зиму моя «слава» поэта вышла за стены гим








