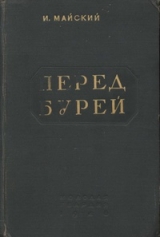
Текст книги "Перед бурей"
Автор книги: Иван Майский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
развиты новейшими европейскими авторами, – вторил мне
Олигер. – Надо изучать новые языки, на которых они пи
сали! Теперь не пятнадцатый век. Вы сами нас учили, что
«Тетрога mutantur et nos mutamur in illis» 1 .
Оправившийся от испуга Гоголев тоже перешел в на
ступление и своим звенящим, металлическим голосом
кричал:
– Зачем нам классические дряхлости? Лучше изучать
естественные науки!
Все остальные ученики, каждый по-своему, энергично
поддерживали нас – кто метким словом, кто шумно выра
женным одобрением. Михновский оказался атакованным со
всех сторон и не знал, куда деваться. На его счастье, про
звучал звонок, урок кончился, и наш рыжеголовый лати
нист, точно ошпаренный, выскочил из класса. По бледному
лицу его ходили красные пятна. А все ученики шумной,
возбужденной толпой высыпали за Михновским в коридор,
вихрем разнося по гимназии волнующие новости о событи
ях, только что разыгравшихся в шестом классе.
Весть о скандале на уроке Михновского очень скоро
вышла за стены гимназии и стала самой сенсационной
городской новостью. И вот что было замечательно: хо
тя кое-кто из людей «с положением» резко осуждал гим-
1
меняемся с ними».
Известное латинское изречение: «Времена изменяются, и мы из
1 5 3
назистов, большинство «общественного мнения» Омска,
включая многих представителей губернской и военной бю
рократии, явно сочувствовало «бунтовщикам». Разложение
царского режима на рубеже XX века зашло уже так да
леко, что всякий протест против этого режима или против
того или иного проявления этого режима находил больший
или меньший резонанс в самых разнообразных, подчас
совершенно неожиданных кругах. Именно сочувствие «об
щественного мнения» вынудило Мудроха, который перво
начально собирался «примерно наказать зачинщиков»,
отказаться от своего намерения и вообще постараться
замять всю эту неприятную для него историю.
15. КРУЖОК
Однажды в конце ноября мы возвращались домой из
гимназии вместе с Олигером. Мы жили поблизости и ча
с т о шли пешком, ведя по дороге разговоры и дискуссии
«а самые разнообразные темы. Вдруг Олигер неожиданно
выпалил:
– Знаешь, Иван, давай устроим кружок!
– Какой кружок? – с удивлением спросил я.
Я был в то время еще так наивен, а Омск в то время
был еще таким медвежьим углом, что до того я никогда
не слыхал ни о каких кружках.
– Как какой кружок? – в свою очередь, изумился
Олигер.
Олигер был года на полтора старше меня и больше на
слышан о различных явлениях жизни.
– Мы устроим кружок, – все больше увлекаясь своей
идеей, продолжал Олигер. —Привлечем самых развитых
из наших гимназистов, будем вместе читать и обсуждать
книги, журналы... Потом, что еще мы сможем сделать?..
Ну, конечно, вырабатывать взгляды, учиться... Но не так,
как в гимназии, а для себя... Понимаешь ли, для себя!
Идея Олигера мне тоже начинала нравиться. Скоро мы
обнаружили в этом отношении полное единство мнений.
Вместо того чтобы итти домой, мы пошли гулять на Иртыш
и по дороге стали обсуждать детали заманчивого пред
приятия. Мы знали, что родители ждут нас к обеду и что
наше отсутствие в положенный час вызовет с их стороны
беспокойство, а позднее—громы и молнии на нашу голову.
154
Но что все это значило в сравнении с теми изумительными
перспективами, которые теперь перед нами открывались?
Радостно возбужденные, с беспечно расстегнутыми шуба
ми, несмотря на мороз, противозаконно сбросив с плеч
ранцы и неся их подмышками, мы долго ходили по запоро
шенному снегом льду широкой реки. Ходили и разговари
вали, разговаривали и ходили.
Прежде всего надо было определить цель кружка. Это
не заняло у нас много времени. По существу цель кружка
уже была сформулирована Олигером, и с маленькими до
полнениями с моей стороны она была утверждена нами
обоими.
Без труда был разрешен также вопрос о месте собраний
кружка. Большинство «радикалов» нашего класса жило с
семьями, семьи были по преимуществу чиновничьи, воен
ные, среднекупеческие, – стало быть, квартиры имелись.
Правда, со стороны некоторых родителей можно было
ждать оппозиции к нашей затее, но все-таки несколько до
мов, где кружок мог бы собираться, сразу же намечалось.
Гораздо сложнее оказался вопрос о составе кружка.
Кого пригласить в кружок? Горячая дискуссия на льду
Иртыша концентрировалась главным образом около этой
темы.
Класс наш состоял из двадцати трех человек. Дух в
нем господствовал «радикальный», и число «развитых гим
назистов» было сравнительно велико. Все крепко стояли
Друг за друга, фискалов не было, и потому начальство
смотрело на наш класс очень косо, а инспектор Соловьев
даже считал, что подобный класс не может быть терпим
в гимназии. Мы с Олигером стали перебирать всех наших
товарищей и, в конце концов, остановились на пяти-шести,
которые вместе с нами двоими должны были составить
ядро кружка.
Здесь на первом месте стояли два брата Марковичи —
старший, Михаил, и младший, Натан. Они происходили из
довольно зажиточной еврейской семьи, связанной с мест
ным торговым миром. У них был двухэтажный дом в Ом
ске и большая заимка верстах в ста от города. Отец Мар
ковичей давно умер. Детей воспитывала мать – красивая
и изящная женщина большой интеллигентности, но мало
практичная и болезненная. Около нее постоянно вертелись
какие-то дяди и кузены, которые «помогали ей в делах».
Мне всегда казалось, что эта помощь обходилась вдове
155
Маркович в копеечку и оставляла звонкий металлический
след в карманах ее благодетелей. Дом Марковичей был
большой, уютный, хлебосольный, с большим количеством
мужской и женской молодежи разного возраста. В этот
дом можно было притти в любое время дня и ночи и быть
вполне уверенным, что тебя ласково встретят, обогреют,
напоят чаем, покормят, а если хочешь, то и дадут интерес
ную книжку для чтения, ибо вдова Маркович любила
литературу и имела обширную, культурно подобранную
библиотеку. Вдобавок, дом Марковичей стоял у самого
Иртыша, – это так ловко вязалось с катаньем на лодке, с
купаньем и другими развлечениями, естественно вырастаю
щими на берегах большой реки. Старший из братьев Мар
ковичей, Михаил, был несколько неподвижный, философ
ствующий еврейский мальчик, много читавший, развитой,
любивший смотреть «в глубь вещей». Младший, Натан,
был живее, практичнее, действеннее, но меньше читал и
еще меньше философствовал. В гимназии я был ближе с
Михаилом, который впоследствии стал адвокатом. В даль
нейшей жизни мне чаще пришлось сталкиваться с Ната
ном, ставшим доктором. В тот памятный день, когда мы
с Олигером на льду Иртыша набрасывали организацион
ную схему нашего кружка, братья Марковичи и их дом за
нимали почетное место в наших соображениях. Этот дом
должен был стать главной штаб-квартирой кружка.
Далее, мы решили включить в кружок того самого Го
голева, который явился исходным пунктом скандала на
уроке Михновского; Сорокина – несколько медлительного,
но развитого гимназиста из Семипалатинска, в дальнейшем
ставшего профессором медицины; Петросова – бойкого и
способного сына омского адвоката, и, наконец, Веселова—
крестьянского парня (теперь мы сказали бы «из кулацких
слоев»), обнаруживавшего редкие способности и резкую
оппозиционность. Мы долго обсуждали с Олигером еще
две кандидатуры – Михаила Усова и Коли Понягина.
Усов был первый ученик, много знал, много работал. Он
пользовался большим престижем в классе, но стоял как-то
в стороне от общественных интересов. Впоследствии из
Усова вышел крупный ученый-геолог, ставший одним из
корифеев сибирской науки. Понягин был сын преподавате
ля естествознания в женской гимназии, умный, симпатич
ный мальчик, страстно увлекавшийся ловлей бабочек, сбо
ром растений и т. п. Однако за гербариями и коллекциями
156
насекомых Понягин мало замечал окружающий мир со
всеми его неустройствами и противоречиями. По зрелом
размышлении мы с Олигером решили, что ни Усов, ни
Понягин не подходят к задачам нашего кружка, и оста
вили их в стороне.
Вскоре наш кружок заработал полным ходом. Это было
так ново, так увлекательно, так непохоже на все, что мы
знали и делали до тех пор. Собирались мы большей частью
у Марковичей, иногда у меня, иногда у Олигера или Пет¬
росова. Никакой строго определенной программы работ у
кружка не было. Не было также и какого-либо руководи
теля из старших. Наоборот, мы скрывали свою затею не
только от гимназических преподавателей, но и от родите
лей, ибо далеко не были уверены в их отношении к наше-
му предприятию. Как я писал около того времени Пичуж
ке, у нас в кружке процветала «буйная демократия», и
все были равны. Фактически наиболее активную роль в
кружке играли Олигер и я, нам секундировали прочие чле-
ны. Однако между Олигером и мной была большая раз
ница в темпераменте, умонастооении, вкусах, подходе к
вещам. Несмотря на то, что Олигер был сыном военного
аптекаря из прибалтийских немцев, натура у него была
художественная, эмоциональная, порывистая, с резкими
сменами настроений и необычайной впечатлительностью.
Строгий порядок был ему глубоко враждебен, его стихий
но тянуло к анархизму. Он увлекался романтизмом, любил
красивую фразу, пышный образ, охотно уносился в облака,
теряя почву под ногами. Я по сравнению с ним (но только
по сравнению с ним!) являл образец трезвости и рациона
листичности, стоял ногами на земле, поклонялся науке
и имел тенденцию к известной организованности. Мы часто
с Олигером сталкивались, вели полемику, спорили до изне
можения. Остальные кружковцы делились в своих симпа
тиях и, смотря по обстоятельствам, примыкали то ко мне,
то к Олигеру.
В результате жизнь кружка шла шумно, сумбурно, бес
порядочно, но страшно весело, с подъемом и с огромной
пользой для нашего развития. Предоставленные самим се
бе, мы экспериментировали, делали петли и зигзаги, от
крывали давно открытые истины, но все время кипели в
интенсивной работе мысли, в искании и нахождении пра
вильного пути.
Мы начали с коллективного чтения Писарева и Добро-
157
любова. Особенно сильное впечатление на нас произвела
знаменитая статья Добролюбова «Когда же придет на
стоящий день?» Мы долго обсуждали ее, сравнивали
«темное царство» середины прошлого века с «темным цар
ством» наших дней и единодушно приходили к выводу,
что до «настоящего дня» не близко и сейчас. Очень много
споров вызвала также статья Писарева «Пушкин и Белин
ский». Я целиком поддерживал «развенчание» Пушкина и
точку зрения утилитаризма, развиваемую Писаревым; Оли¬
гер, наоборот, отстаивал великого поэта. Это повело к
оживленной дискуссии о задачах литературы и искусства
вообще, о реализме и эстетизме, о «чистой поэзии» и
«поэзии гражданской». Уже тогда, в этих полудетских
спорах, я твердо стал на сторону реализма и «граждан
ской поэзии», – этим установкам я остался верен и в по
следующей жизни. В том, что мы в те дни думали и го
ворили, несомненно, было много наивного, мальчишеского,
смешного, но одновременно в этих спорах и обсуждениях
оттачивалась мысль, зрело сознание, накоплялись знания.
Большую роль в работе кружка играли проблемы нау
ки, в особенности проблемы астрономии. Об этом больше
всего позаботился я. Мое увлечение астрономией еще сто
яло на очень высоком уровне, и «звездные влияния»
постепенно покоряли всех членов кружка, включая Оли¬
гера. Я принес и прочитал модную в то время книжку
французского астронома К. Фламмариона «Конец мира»,
в легкой и увлекательной форме трактующую вопрос о ги
бели Земли, – это дало толчок горячей дискуссии, продол
жавшейся несколько вечеров, о происхождении солнечной
системы, о рождении и угасании звезд, о жизни на других
планетах, о бесконечности вселенной. В ходе нашей дис
куссии мы камня на камне не оставили от религиозного
учения о сотворении мира.
Мало-помалу мы перешли к чтению собственных произ
ведений в кружке. Я ознакомил кружок со своей статьей
«Наша гимназическая наука», о которой упоминал раньше.
Она нашла горячий отклик в сердцах всех членов кружка,
и мы долго и страстно обсуждали те «реформы», которые
следовало бы внести в систему средних учебных заведе
ний. Потом – это было уже в начале 1899 года – Олигер
прочитал нам только что написанную им повесть «Друг»,
которая произвела на нас тогда сильнейшее впечатление.
Повесть была выдержана в стиле полудетской трагической
158
романтики, но от этого она только еще больше нам нрави
лась. Содержание ее вкратце сводилось к следующему.
Герой повести Николай, от чьего имени ведется рас
сказ, имеет друга Петра Дартани, которого считает гением
и на которого почти молится. Петр – сын итальянского
анархиста и белокурой русской красавицы – молод, умен,
энциклопедически образован, но безнадежно болен тубер
кулезом. Мать Петра умерла, когда он был маленьким
мальчиком, отец после того с отчаянья покончил с собой.
Сирота Петр остался без призора и средств, и ему при
шлось бы совсем плохо, если бы какая-то бабушка во-вре¬
мя не умерла, оставив внуку порядочное состояние. В ми
нуту растроганности и откровенности Петр рассказывает
Николаю самый замечательный эпизод своей жизни —
встречу с знаменитым чудаком-астрономом Стеклевским,
устроившим свою собственную обсерваторию на вершине
горы в юго-западной части России. Петру тогда было
шестнадцать лет, и он явился к Стеклевскому с просьбой
взять его к себе в учебу. Услышав фамилию Петра, Стек¬
левский пришел в сильное волнение: оказывается, он был
другом его отца. Петр поселился у Стеклевского и начал
обучаться у него астрономическому делу.
Спустя некоторое время Стеклевский серьезно заболел
и перед смертью открыл свою тайну Петру: в молодости
Стеклевский был польским революционером-националистом
и участвовал в подготовке восстания 1863 года. Он уже
тогда поселился на горе, но сделал это из соображений
конспирации; в уединении он писал пламенные обращения
к польскому народу, которые потом печатались в соседнем
городе. Скоро, однако, Стеклевский, столкнувшись в среде
революционеров с одним предателем, разочаровался в ре
волюционерах вообще и решил посвятить себя астрономии.
Он уехал за границу, где, между прочим, впервые встре
тился с отцом Петра, и спустя три года вернулся опять на
свою гору, привезя с собой полное оборудование обсерва
тории и, в первую очередь, ее гордость и красу – знаме
нитый рефрактор, изготовленный по его собственным ука
заниям, рефрактор, дававший при шестнадцати дюймах
в диаметре изумительно ясное изображение с увеличением
в пять с половиной тысяч раз! С тех пор Стеклевский
превратился в ученого-отшельника, зарылся в книги и ас
трономические наблюдения, изучил астрономию, химию, фи
зику, геологию, ботанику, зоологию, даже теологию и ис-
торию, сделал массу важных открытий и изобретений.
И вот теперь он безвременно умирал на руках Петра.
И когда, наконец, знаменитый ученый испустил дух, Петр
решил, что тот заслуживает совсем исключительной моги
лы: он вложил тело Стеклевского в трубу его шестнадца
тидюймового рефрактора, а трубу эту замуровал в камен
ном склепе в толще горы. Так навсегда исчезли и Стек¬
левский и его ни с чем не сравнимый инструмент.
Закончив свой рассказ, Петр хватает в руки скрипку
вдобавок ко всему прочему, он был еще замечательным
виртуозом-композитором) и импровизирует величествен
ную «Песнь солнца», которая в потрясающих звуках вос
производит трагическую историю могучего светила – его
зарождение, его развитие, его буйный расцвет, его угаса
ние, его смерть...
Легко себе представить, как должно было действовать
подобное произведение на разгоряченное воображение пят¬
надцати-шестнадцатилетних мальчишек. Олигер сразу, од
ним ударом, был вознесен в наших глазах на пьедестал
«настоящего писателя» (каковым он впоследствии и стал).
Но кружок не только имел для нас огромное воспита
тельное значение, – он мобилизовал также нашу обще
ственную энергию, и нужен был только известный толчок
со стороны, для того чтобы эта энергия сразу же отлилась
в форму практических действий. Такой случай очень скоро
представился.
Россия в то время уже была беременна революцией
1905 года. Уже по промышленным центрам прокатилась
волна широких экономических стачек рабочих. Уже в Мин
ске состоялся Первый съезд Российской социал-демокра
тической рабочей партии. Уже либеральная буржуазия
крупных городов громко заговорила о необходимости кон
ституции. Уже радикальствующая интеллигенция стала
усердно перекрашиваться в розоватые тона легального
марксизма. Уже в темной глубине крестьянских масс на
чалась медленная, но грозная раскачка, несколько лет
спустя приведшая к мощному «аграрному движению».
Правда, все это происходило где-то там, далеко, в боль
шом и широком мире, от которого до нашего Омска «три
года скачи – не доскачешь». Но все-таки глубокое волне
ние, охватившее страну, какими-то неведомыми, подпоч
венными путями проникало и в наш медвежий угол, находя
здесь различные, подчас довольно неожиданные отклики.
160
В феврале 1899 года в Петербурге произошла первая
большая студенческая демонстрация, во время которой ка
заки избили нагайками сотни представителей учащейся
молодежи. По тем временам это было событием перво
классного значения. Весть о студенческой демонстрации
очень быстро разнеслась по всей стране, и даже царское
правительство вынуждено было опубликовать «официаль
ное сообщение» о ней в печати. Высланные из Петербур
га студенты приехали в Омск с целой кучей самых сен
сационных рассказов и привезли с собой вновь сочиненную
в столице песенку, припев которой гласил:
Нагаечка, нагаечка,
Нагаечка моя!
А помнишь ли, нагаечка,
Восьмое февраля?
Петербургская демонстрация, конечно, стала предметом
горячего обсуждения в нашем кружке, причем особенно
волновался по этому поводу Олигер. Разумеется, все мы
сочувствовали студентам и возмущались поведением цар
ского правительства, однако никаких продуманных полити
ческих выводов мы еще не в состоянии были сделать. Мы
чувствовали только, что откуда-то издалека, из столицы,
на нас пахнуло струей свежего воздуха и что это должно
иметь какое-то практическое отражение и в нашей привыч
ной омской жизни.
Однажды в начале марта, после очередного собрания
нашего кружка, мы возвращались втроем – я, Олигер и
Гоголев. Олигер был в каком-то особенно приподнятом на
строении и вдруг ни с того, ни с сего воскликнул:
– Непременно нужно выпустить прокламацию!
Я не знал, что значит прокламация, но считал нелов
ким обнаруживать свое невежество. Поэтому я сделал
умный вид и ответил:
– Что ж, давай выпустим!
Гоголев знал еще меньше меня, но, конечно, поспешил
присоединиться к большинству.
Олигер пришел в чрезвычайный восторг и предложил
не откладывать дела в долгий ящик. Он зазвал нас с Го
голевым к себе домой, и все мы трое спешно приступили
к «выпуску прокламации», или, точнее, Олигер командо
вал, а мы с Гоголевым исполняли его приказания. С не
обычайной быстротой сам Олигер набросал текст «прокла
мации». Я сейчас не могу восстановить ее точного содер-
161
жания, но помню, что выдержана она была в довольно
высокопарных выражениях, грозила «страшной расправой»
всем «кровавым собакам, пьющим народную кровь» и при
зывала граждан г. Омска «проснуться и взять в руки ду
бину покрепче». Мы с Гоголевым не знали, что сказать
по поводу произведения Олигера, но, в конце концов, ре
шили, что возражать нечего: очевидно, все «прокламации»
так пишутся. Олигер должен это лучше знать. Автор же
«прокламации», составив текст, долго мусолил карандаш
во рту и все придумывал, как бы подписать свое произве
дение. Не найдя, видимо, ничего более подходящего, он
вдруг выхватил карандаш изо рта и размашистым почер
ком поставил под текстом «прокламации» коротенькое
слово: «Мы».
Теперь надо было «прокламацию» размножить. Олигер
сбегал в военную аптеку, которой управлял его отец, и
тайком притащил оттуда небольшой гектограф с чернилами.
«Прокламация» была быстро переписана печатными бук
вами (чтобы не узнали почерка) при помощи гектографи
ческих чернил и затем отпечатана в количестве полусотни
экземпляров. Я в первый раз в жизни имел дело с гек
тографом, и работа на нем мне очень понравилась. В даль-
нейшей жизни эта гимназическая учеба мне весьма приго
дилась. Затем был сварен мучной клейстер, и мы стали
обсуждать, как лучше организовать расклейку нашего
произведения. Решено было так: каждый берет с собой
стакан клейстеру с кисточкой и пачку «прокламаций», и
все мы отправляемся в различные части города для рас
клейки. По окончании своей миссии вся тройка вновь
собирается у Олигера для обмена сообщениями о резуль
татах.
Признаюсь, у меня сильно билось сердце, когда я, рас
прощавшись на углу улицы с Олигером и Гоголевым, от
правился в свое первое нелегальное приключение. Было
уже поздно – около часу ночи. Омск спал глубоким сном.
Фонарей в городе в то время не было, и на улицах царила
кромешная тьма. Только в высоте сверкали звезды. Снег
крепко хрустел под моими ногами, а под шубой о колено
бился подвязанный к поясу стакан с клейстером. Я быстро
побежал по своему участку, выбирая дома и наклеивая на
них прокламации. От времени до времени я останавливал
ся и прислушивался: не идет ли кто? Но везде царила
мертвая тишина. Только на базаре я услышал издали рав-
162
номерный стук колотушника1
и поспешно притаился за
одной из лавок. Последний листок я наклеил на парадные
двери жандармского управления, и, чрезвычайно доволь
ный удачным выполнением своей миссии, я быстрым ша
гом направился к дому Олигера, по дороге глотая свежий
морозный воздух. К двум часам ночи весь наш «триум
вират» вновь собрался: дело было сделано, полсотни ребя
ческих «прокламаций» белели на домах и заборах омских
улиц. Мы были страшно взволнованы и стали ждать по
следствий своего выступления.
На следующий день город был полон шопотов, слухов,
толков о «подметных письмах» (слова «прокламация» не
существовало в лексиконе тогдашних омичей), а жандарм
ский полковник Розов находился в состоянии полного
остолбенения. Обленившийся и обрюзгший от полного без
делья, ибо до того в Омске не было никакой «крамолы»;
Розов ездил к генерал-губернатору с докладом, нарядил
следствие для поимки «злоумышленников» и бестолково
метался по своему кабинету в ожидании его результатов.
О «прокламации» стало известно в гимназии, и все – уче
ники и преподаватели – терялись в догадках о том, кто
бы мог это сделать. Мы же, трое мальчишек, крепко дер
жали язык за зубами (ничего не знали даже другие члены
нашего кружка) и с смешанным чувствам гордости и тре
пета наблюдали вызванную нашими действиями суматоху.
Через неделю стало ясно, что Розов не сумеет открыть
«злоумышленников», а еще через неделю шум, порожден
ный «прокламацией», стал стихать, тем более, что на гори
зонте нашей гимназической жизни внезапно обнаружились
новые крупные события.
В конце марта учитель словесности Петров задал нам
для домашнего сочинения тему: «Литература екатеринин
ской эпохи». Тема имела весьма отдаленное отношение к
современности, но такова уже атмосфера предреволюци
онной эпохи, что любая, даже самая маленькая искра
способна вызвать сильный электрический разряд. Мы об
суждали заданную тему на нашем кружке и решили раз
работать ее так, чтобы «небу было жарко». Как всегда,
Олигер со своим горячим темпераментом вынесся вперед
и задал тон всему нашему выступлению. Щеголяя цитатами
и словечками, Олигер в своем сочинении писал, что «Екате-
1
с деревянными колотушками.
В Омске в то время ночные сторожа на главных улицах ходили
163
рина столкнула с престола своего слабоумного мужа»,
что, будучи очень капризной женщиной, она «раздаривала
сотни тысяч крепостных своим многочисленным любовни
кам», что, ведя просвещенную переписку с Вольтером и
Дидро, царица в то же время не терпела критики своих
действий со стороны русских писателей и что все эти и
многие другие обстоятельства наложили свой отпечаток на
«литературу екатерининской эпохи». Все изложение Оли
гера было красочно, бойко, складно, но несколько беспо
рядочно, а главное – недопустимо дерзко по условиям то-
го времени. В таком же духе, хотя несколько скромнее по
форме, написал сочинение я. И так же поступили Гоголев,
Марковичи, Веселов и прочие члены нашего кружка. Не
все обладали литературными данными Олигера, не все
шли так далеко, как он, в «политическом освещении»
темы, но основное настроение у всех было одинаково.
В назначенный срок мы сдали свои тетрадки Петрову, а
три дня спустя в гимназии разразилась еще никогда небы
валая гроза.
Когда Петров с целой кипой просмотренных сочинений
вошел в класс и грузно опустился на кафедру, мы сразу
по выражению его лица поняли, что предстоит буря. Дей
ствительно, раздав почти все тетрадки их владельцам,
Петров отложил в сторону три-четыре (в их числе я узнал
и свою) и затем, метнув грозный взгляд в мою сторону,
он громко крикнул:
– Олигер!
Олигер медленно поднялся со своей парты.
– Я поставил вам, Олигер, за ваше сочинение два бал
ла, – продолжал зловещим тоном Петров: – пять и еди
ницу. Как вы думаете, почему?
– Не знаю, – недоумевающе подняв плечи, ответил
Олигер.
– Не знаете? Не знаете? – вдруг, точно сорвавшись,
закричал Петров. – Так знайте! Пять вам поставлено за
литературную форму, а единица – за содержание. Да-с,
содержание у вас возмутительное! Вы осмеливаетесь напа
дать на наши государственные законы и учреждения. Это
неслыханно! Это потрясение основ!
Олигер молчал, угрюмо смотря вниз на свою парту, а
Петров, взяв в руки мое сочинение, грозно продолжал:
– А вы что тут понаписали? Вы изобразили великую
императрицу какой-то жалкой плагиаторшей у француз-
164
ских энциклопедистов? Вы осмеливаетесь утверждать, что
Екатерина писала свои либеральные послания западным
философам под вопли крепостных, которых пороли на ко
нюшне по приказу самой императрицы? Это же возмути
тельно!
И, заметив, что я, как ни в
сижу на парте, Петров вдруг дико заорал:
– Встать! Встать, когда я говорю!
чем не бывало, спокойно
Я неохотно поднялся и бросил вызывающий взгляд на
учителя.
Петров взялся за третью тетрадку и возмущенно обру
шился на Гоголева. Особое преступление Гоголева состоя
ло в
том, что он рассказал в
своем сочинении знаменитую
историю о «потемкинских деревнях». Далее атаке, хотя
уже в более мягких тонах, подверглись сочинения Михаи
ла Марковича и Петросова. Теперь в классе стояло у сво
их парт уже пять человек, а грозное красноречие Петрова
лилось попрежнему неудержимой рекой. Мне это надоело,
и я, воспользовавшись первым перерывом в его потоке,
сказал:
– Не понимаю, Николай Иванович, чего вы возмущае
тесь? Каждый имеет право высказывать свое мнение.
– Что? Что вы сказали? – возопил Петров. – Вы хо
тите, чтобы каждый негодяй мог пачкать бумагу своей во
нючей жидкостью?.. Слава богу, у нас есть цензура!
Тут вмешался Гоголев и бросил:
– А зачем цензура? Она не нужна.
Бешенство Петрова дошло до точки кипения. Он гром
ко застучал кулаками по кафедре и стал кричать, что уче
ники, подобные Гоголеву, недостойны пребывания в стенах
гимназии и что он поставит вопрос об его исключении
пред педагогическим советом. Эта угроза разъярила весь
класс: мы стали оглушительно хлопать крышками наших
парт и создали такой шум, что побледневший от испуга
Петров поспешил выскочить в коридор, не дождавшись
конца урока. В страшном волнении и предчувствии «боль
ших» событий в дальнейшем мы разошлись в тот день по
домам.
Наши ожидания сбылись. На следующее утро нам было
объявлено, что урока словесности не будет, а вместо него
к нам придет... сам Мудрох! Мы сразу поняли, что это
неспроста. Действительно, в одиннадцать часов утра в
класс ввалилась грузная, большая фигура директора в со-
165
провождении нашего классного наставника. Мудрох не
взошел на кафедру, а остановился около нее и уставился
пристальным взглядом на вставших при его появлении уче
ников. Так, молча, переводя взор с одного гимназиста на
другого, он простоял несколько минут. Не думал ли он
нас этим путем гипнотизировать? Затем директор откинул
ся назад, отставил одну ногу вперед и, засунув два паль
ца правой руки между жилетными пуговицами, начал
своим противным скрипучим голосом:
– Я хочу с вами поговорить. У вас неправильные
мысли в голове. Вы будете иметь неприятности. Но я еще
вас спасу.
Убежденный в магической силе своих слов, Мудрох
стал длинно, нудно доказывать, каким счастьем для нас
является быть «верными подданными его величества госу
даря императора». Ссылаясь на собственный опыт, Мудрох
рисовал самую мрачную картину политического хаоса, сла
бости, продажности, преступления, господствующих в
странах с конституционным образом правления, и при этом
все время повторял:
– Так есть в Австро-Венгерской империи.
И затем, в виде противопоставления, Мудрох широкими
мазками набрасывал порядок, мощь, благополучие, непод
купность, процветание, господствующие в Российской им
перии, где нет никакой конституции, а есть только парь,
считающий всех своих подданных своими «детьми».
Он подымал при этом глаза к потолку и почти молитвен
но складывал руки. Закончил Мудрох так:
– Я вам сказал, и вы должны меня слушать. А не по
слушаете – худо будет.
И затем, круто повернувшись, директор, не глядя ни
на кого, величественно вышел из класса.
Как ни были мы тогда политически-наивны, но эффект
от речи Мудроха получился совсем не тот, на который он,
очевидно, рассчитывал. Нам трудно, конечно, было судить,
насколько правильна нарисованная им картина австро-вен
герских порядков, но зато порядки российские мы знали
очень хорошо. И
зил общее настроение (у одних более, у других менее осо
потому Олигер довольно правильно отра
знанное), когда после ухода директора смачно плюнул на
пол и с расстановкой бросил:
– У-у! Продажная шкура!
Рассказанная история имела своим последствием до-
166
вольно чувствительные оргвыводы: половине класса была
поставлена за год тройка за поведение (взыскание очень
суровое по тем временам). В эту половину попал и я, а
Олигера решено было исключить из гимназии. Отец Оли¬
гера, понимая, что это означало бы волчий билет для
Николая, пустил в ход все свои связи и добился того,
что Олигеру предоставлено было уйти из гимназии «по
собственному желанию». Весной перед экзаменами он ис
чез из нашего класса, а осенью уехал в Саратов, где по
ступил в химико-техническое училище. Около того же вре
мени Гоголев перевелся в Петрозаводск, а Петросов —
в Екатеринбург. Наш кружок расстроился, но память о со
бытиях минувшей зимы осталась. В своем дневнике 18 сен
тября 1899 года я в несколько высокопарно-романтических
тонах писал:
«А какова была прошлая зима! Она явилась бурной,
боевой эпохой в моей жизни, но сколько счастья в этих








