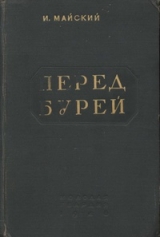
Текст книги "Перед бурей"
Автор книги: Иван Майский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
В полдень обед. С аппетитом едим щи или окрошку,
уплетаем за обе щеки на десерт чудно пахнущую лесную
землянику. Потом опять поле, опять игры и беготня до
вечернего чая, а потом постель и крепкий, непробудный
сон детства.
Так проходил день за днем. Я не помню, чтобы в это
лето в Мазилове я много читал. Я просто жил раститель
ной жизнью, накоплял здоровье, отдыхал от гимназии...
В субботу вечером все мгновенно переворачивалось. Из
79
города приезжал дядя Миша, как мы звали Лилиного му
жа, и с ним точно буря налетала.
Невысокого роста, коренастый, с блестящими карими
глазами, с нечесаной черной бородой и гривой торчащих
в разные стороны черных волос, дядя Миша был олице
творением живости, подвижности, энергии. Он сам громко,
заразительно смеялся и любил, чтобы и все кругом тоже
смеялись. Он всегда был полон страшно интересных мыс
лей, предложений, планов, проектов. Его голова все время
быстро работала, как какой-то умственный мотор. Влетая
в дом и наскоро целуясь с взрослыми и ребятами, дядя
Миша сразу же кричал:
– Детишки, завтра утром идем на плотину рыбу удить!
Я удочки привез.
Мы реагировали, конечно, радостными возгласами.
А дядя тут же продолжал:
– Только чур у меня не плакать! Кто заплачет, брошу
в пруд, на удочку ловить буду.
Мы отвечали дяде взрывами хохота. Потом дядя на
чинал всех нас тормошить – в куче или поодиночке. Бо
ролся со мной, носил на шее маленького Миньку, таскал
подмышками Юленьку и Гуньку и вообще проделывал
бездну всяких шалостей и глупостей, приводивших нас,
ребят, в самый дикий восторг.
Рано утром в воскресенье старшие дети действительно
отправлялись с дядей Мишей на рыбную ловлю, или на
Чортов Мост, или в какую-либо дальнюю прогулку за Мо
сква-реку, или на ярмарку, только что открывшуюся в со
седнем селе, где так весело было кружиться на карусели
и где продавались такие вкусные пряники. Эти экскурсии
с дядей были для нас ни с чем несравнимым наслажде
нием. Потом мы возвращались домой, после обеда дядя
ложился прикорнуть на часок, а дальше... дальше он либо
рассказывал нам какие-либо страшно интересные истории,
которые мы слушали, затаив дыхание, либо принимался за
карандаш. Дядя отличался большим художественным та
лантом, и под его кистью на наших глазах с необычайной
легкостью вырастали дома, поля, горные хребты, морские
пейзажи. Все выходило, как живое. Помню, однажды был
серый, дождливый день, с хмурым небом и быстро бегу
щими облаками. Мокрые галки сидели уныло на деревьях.
Из окон нашей дачи видна была разбитая деревенская
дорога, превратившаяся в сплошное море грязи. За ней
80
открывалось широкое желтое поле колосящейся ржи. При
рода навевала тоску, грусть и скуку. И мне было тоскливо,
грустно и скучно. Мы никуда не ходили, и дядя с утра
занялся рисованием. Он выглянул в окно и что-то невнятно
хмыкнул про себя. Потом взял кусок ватманской бумаги и
краски.
– Дядя, неужели тебе интересно рисовать эту гряз
ную дорогу? – изумился я. – Что в ней красивого?
– А почему бы и нет? – откликнулся дядя. – Вот по
годи, пока я окончу.
Дядя быстро заработал кисточками, от времени до вре
мени пристально поглядывая в окошко. Через час картина
была готова. Я взглянул на нее и ахнул. Предо мной
лежал прелестный акварельный пейзаж, и даже эта гряз
ная, разбитая дорога выглядела на нем какой-то глубокой
и интересной. Дядя с улыбкой наблюдал эффект, произ
веденный на меня его работой, и затем прибавил:
– Художник может и из грязи сделать чудо красоты.
В живописи важно не только то, ч т о нарисовано, но и
к а к нарисовано. То же и вообще в искусстве.
Тогда я не вполне осознал значение этих слов. Сколько
раз позднее я имел случай убедиться в их глубокой пра
вильности!
От того далекого счастливо-детского лета у меня со
хранилось одно яркое воспоминание.
Однажды дядя Миша пошел с нами в большую прогул
ку. Мы долго бродили по полям и лугам, окружавшим
Мазилово, долго продирались сквозь чащу густого леса,
весело сбегавшего к Москва-реке, долго шли вверх по
течению вплоть до села Крылацкого. По дороге мы зашли
в сторожку лесника, где выпили по стакану молока с вкус
но пахнущим черным хлебом. В Крылацком мы купили
в лавочке мятных пряников. Потом двинулись в обратный
путь и на полдороге, у реки, решили сделать маленький
привал для краткого отдыха. Нас было четверо старших
ребят, и мы вволю побродили босыми ногами в воде и на
сладились вдоволь, швыряя камешки «блинками». Когда
мы, наконец, очнулись и подумали о продолжении пути,
дяди Миши на месте не оказалось. Вначале мы решили,
что он находится где-нибудь за прибрежными кустами и
с минуты на минуту вернется. Однако наше ожидание не
оправдалось. Прошло минут пятнадцать – дяди Миши не
было. Прошло полчаса – дяди Миши не было. Прошел
81
час – дяди Миши все не было. Мы не знали, что подумать.
Уже вечерело, а до дому еще было далеко. Вдобавок, мы
толком не знали дороги, да и дорога-то пролегала через
большой темный лес, итти по которому сейчас, на закате
солнца, было жутковато. Ну куда же все-таки мог девать
ся дядя? Мы кричали ему, звали его, просили откликнуть
ся – без всякого результата. Мы тревожно обходили близ
лежащие кусты и полянки – тоже без всякого результата.
Дядя точно сквозь землю провалился. Смущенные, встре
воженные, с заметно упавшим настроением, мы, четверо
клопов, устроили тут же на берегу «военный совет» и под
вели итоги.
– Не могли же черти его унести! – полусерьезно, по
луиронически воскликнул я.
– Конечно, нет! – откликнулась Пичужка. – Но что
же все-таки делать?
– Что делать? – несколько задорно повторил я. —
А вот что! Я—самый старший, я и поведу вас домой. А вы
слушайтесь и идите за мной. Только чтобы не отставать
и не нюнить! И когда через лес пойдем, чур не бояться!
Все поклялись, что не будут ни отставать, ни нюнить, ни
бояться, и затем наша маленькая партия решительно
тронулась в путь. Едва, однако, мы успели сделать шагов
тридцать, как вдруг на повороте тропинки перед нами
предстал... дядя Миша, взъерошенный больше, чем обык
новенно, с какой-то примятой бородой, но сам собой, соб
ственной особой. Мы все с восторгом бросились к нему.
– Где ты пропадал? Куда ты девался?
Дядя с улыбкой смотрел на нас.
– Никуда не девался! Я все время тут был.
– Не может быть! Мы все кругом обыскали.
Но дядя был совершенно прав. Оказывается, ему при
шла в голову мысль проверить наши детские мужество и на
ходчивость. Пока мы играли в воде, он спрятался за близ
лежащими кустами и оттуда внимательно следил за всеми
нашими действиями и словами. Он слышал все, в том чис
ле и мое восклицание о том, что не могли же унести его
черти. Когда мы тронулись в путь, дядя решил, что опыт
закончен.
– Выдержали экзамен, ребятки, – как-то особенно мяг
ко проговорил дядя и с непривычной нежностью погладил
меня по голове.

Мой дядя М. Л. Чемоданов.
Впрочем, дядя Миша был не только чудесный дядя, ко
торый вносил столько радости и оживления в дачную
жизнь своих детей и племянников. Дядя Миша был дейст
вительно замечательным, глубоко одаренным человеком,
которому, как это в старое время часто бывало на Руси,
не повезло в жизни, но который внес свою несомненную
лепту в подготовку революции 1905 года. И теперь,
оглядываясь назад, мне хочется воздать ему должное и
заслуженное.
Дядя Миша происходил из вятских лесов, где отец его
был сельским священником. Он принадлежал к той породе
мятежных поповичей, которые дали России Чернышевского
и Добролюбова. В детстве я этого не понимал, но сейчас,
вспоминая наружность дяди Миши, я склонен думать, что
в жилах его была изрядная примесь крови местных вотя
ков. Родился дядя в 1856 году. На медные гроши кончил
вятскую гимназию, пробиваясь главным образом уроками
и разрисовкой декораций для любительских спектаклей.
В 1876 году дядя поступил на медицинский факультет
Московского университета, который кончил только в
1882 году, с запозданием против нормы на два года. Это
запоздание проистекало отнюдь не из лени. Наоборот, оно
явилось результатом усердия, большого усердия дяди
в том деле, которому он отдал лучшее, что в нем было, —
усердия в борьбе за освобождение России от ига самодер
жавия.
Талант художника обнаружился у дяди с раннего дет
ства. Он рисовал в гимназии, он рисовал в университете.
От природы он был наделен острым, ядовитым карандашом
художника-карикатуриста, и Салтыков-Щедрин с ранней
юности стал его идеалом и вдохновителем. Молодому Че¬
моданову хотелось стать в карикатуре тем, чем великий
сатирик был в литературе. На первых порах судьба ему
как будто бы благоприятствовала. Карикатуры дяди Миши,
направленные против профессора химии Морковникова, с
которым в конце 70-х годов московское студенчество вело
борьбу, в немалой степени способствовали уходу профессо
ра и вместе с тем создали известность их юному автору.
Результатом было приглашение работать в юмористических
журналах тогдашней Москвы. В начале 1880 года дядя
Миша становится сотрудником сатирического органа
«Свет и тени», издававшегося Н. Л. Пушкаревым. Он
страшно увлекается этой работой и, наряду с медицинской
84
учебой, просиживает ночи над бьющими, остро отточен
ными карикатурами на животрепещущие темы. Тем
сколько угодно, а вдохновение молодого художника по
истине неиссякаемо. Но чем злее, беспощаднее становится
карандаш карикатуриста, тем свирепее делается царская
цензура. И, наконец, с высоты бюрократического Олимпа
внезапно раздается удар грома.
Вскоре после убийства Александра II, произведенного
террористами-народовольцами 1 марта 1881 года, дядя
Миша помещает на страницах «Свет и тени» прогремев
шую в то время карикатуру. На рисунке изображен боль
шой стол, покрытый зеленым сукном, и стоящий на нем
обычный канцелярский прибор с двумя чернильницами.
В каждую из чернильниц вертикально воткнуто гусиное пе
ро. Над перьями хитрой вязью сделана надпись: «Наше
оружие для разрешения насущных вопросов». На первый
взгляд, как будто бы довольно беззубая издевка над бю
рократическим бумагомаранием. Но присмотритесь к перь
ям и надписям внимательно, и вы откроете в их очертаниях
что-то совсем иное. Вы увидите виселицу с петлей, и си
луэты солдат, бьющих в барабаны, несущих розги, целя
щихся из ружей. Так вот каково истинное оружие» цар
ского правительства «для разрешения насущных вопро
сов»!
Старик-цензор, смотревший карикатуру, не заметил ее
внутреннего яда и пропустил. Начальство повыше открыло
злоумышленный замысел художника и пришло в ярость.
Старик-цензор за несколько месяцев до пенсии был от
ставлен от службы, а журнал «Свет и тени» закрыт. Дяде
же Мише пришлось спешно эвакуироваться из Москвы. Он
как-то рассказывал об этом эпизоде:
– Условились с Пушкаревым рисовать на животрепе
щущие темы... вот и доживотрепетался до виселицы!
Однако дядя Миша не угомонился. Из Москвы он попа
дает в Тифлис, где в то время издавался юмористический
журнал «Фаланга», старавшийся насадить в России полити
ческую карикатуру. Чемоданов с бешеной страстью вновь
бросается в борьбу. В течение нескольких месяцев он
колет, жалит, до крови кусает царскую реакцию на
страницах «Фаланги» – и опять внезапный удар грома
с бюрократического Олимпа: наместник Кавказа закрывает
журнал «за представление цензуре статей и рисунков,
неудобных к печатанию и по направлению вредных». Но
«Фаланга» не хочет умирать и спустя короткое время воз
рождается в форме журнала «Гусли». Однако цензура
тоже не хочет умирать, и очень скоро ее дамоклов меч
обрушивается и на «Гусли»: в июле 1882 года они замолк
ли навсегда.
Дядя Миша опять в Москве. Он кончает свой сильно
затянувшийся университет, но душой живет теперь в ре
дакции юмористического журнала «Будильник», где в то
время собралась совсем не плохая компания: В. Дороше
вич, поэт В. Гиляровский («Дядя Гиляй»), юморист П. Сер-
геенко (впоследствии толстовец), начинающий художник
Левитан, начинающий писатель Чехов, выступающий под
псевдонимом «Антоша Чехонте». Вплоть до конца 80-х го
дов дядя Миша, выступающий под псевдонимом М. Ли
лии (в честь тети Лили), ведет на страницах «Будильника»
отчаянную борьбу с надвигающейся беспросветной поли
тической реакцией. Его карикатуры этого периода явля
ются критической летописью тогдашней русской жизни.
Расслоение крестьянства, крепнущая буржуазия города и
деревни, дикий произвол самодержавия, бессилие земской
медицины и учительства в борьбе с темнотой народа, тру
сость и продажность печати – все это и многое другое
остро, реалистически показано в рисунке Чемоданова.
Но тучи на политическом горизонте России становятся
все гуще, общественная атмосфера все душнее, цензоры
все придирчивее и свирепее. На читательском рынке спрос
растет на легкую, обывательскую юмористику с ловлей же
нихов, травлей злополучной тещи, супружескими изменами
и т. п. Д я д я Миша не может и не хочет скатиться в это
болото пошлости и оскудения, и он решает бросить каран
даш карикатуриста. В одной из тетрадей Чемоданова есть
такая запись:
«Я хотел быть врачом, но думал врачевать не отдель
ных индивидуумов, а общественные язвы, и орудием исце
ления я избрал не скальпель, а перо и карандаш... Да, ору
дие сатиры было когда-то заманчиво для меня, я мечтал
быть Щедриным в своей карикатурной деятельности. Но
б е с п о щ а д н а я ц е н з у р а о б р е з а л а к р ы л ь я , и
я, убежденный в бесполезности или, по крайней мере, в
ничтожной полезности своей карикатуры при настоящих
цензурных условиях, складываю излюбленное оружие и
переменяю перо и карандаш на скальпель и стетоскоп».
Это трагический документ. Но он был продиктован чер-
86
ной реакцией безвременья конца 80-х годов, той самой ре
акцией, которая окрасила в такие мрачные тона и творче
ство Чехова.
Дядя Миша покидает Москву и едет на родину, в Вят
скую губернию, где работает в глухом селе в качестве зем
ского врача. Потом он опять возвращается в Москву и за
двадцать пять рублей в месяц (!) становится ординатором
знаменитого в то время профессора Склифассовского. Одно
временно он дает блестящие иллюстрации к учебнику ана
томии профессора Зернова. Потом он увлекается областью
зубоврачевания и становится ее фанатиком. В течение ряда
лет он редактирует журнал «Одонтологическое обозрение»,
работает на Высших зубоврачебных курсах, читает докла
ды в различных научных обществах и на съездах. Вместе
с тем дядя Миша становится одним из самых популярных
дантистов в Москве. В его приемной всегда длинная оче
редь больных – нередко самых именитых граждан горо
да, – которые терпеливо ждут часами. Пациенты, а осо
бенно пациентки, приходят к доктору с работой, с книгами,
с вязанием, с вышиванием, приносят бутерброды и фрукты,
располагаются по-домашнему, знакомятся, судачат, зани
маются сплетнями и флиртом. По Москве в то время хо
дил рассказ, как двое молодых людей, познакомившись на
приеме у дяди Миши, за время лечения зубов пережили
страстный роман, закончившийся счастливым браком. Дядя
Миша был посаженым отцом у них на свадьбе.
По натуре Чемоданов был человек крайне беспорядоч
ный, но работать любил «на совесть». Поэтому с каждым
пациентом он возился долго и обстоятельно. А так как
пациентов было много и дядя органически не способен был
выдерживать точные сроки, то в его порядке дня получал
ся невероятный хаос. Больных он начинал принимать с
семи часов утра, кончал работу поздней ночью. Спал не
сколько часов, питался урывками и в совершенно неполо
женное время. Сплошь да рядом он до такой степени утом
лялся, что, садясь один (вся семья уже спала) часа в два
ночи поесть, он засыпал за столом с непережеванной пи
щей во рту. Тетя Лиля рассказывала, что однажды крыса
(которых вообще в доме было много) вскочила на стол и
откусила половину котлеты, торчавшей из дядиного рта.
Но дядя спал и ничего не заметил.
Так проходят годы, 90-е годы.
Но вот в политической атмосфере России начинают дуть
87
все усиливающиеся революционные ветры. В темносвинцо¬
вом своде неба все чаще образуются прорывы, сквозь ко
торые на землю падают лучи солнца. Почва под ногами
царизма колеблется. В народных массах, и прежде всего в
рядах пролетариата, нарастают все большие беспокойство,
волнение, воля к борьбе за освобождение. Идет 1905 год.
И в душе дяди Миши, как в полупотухшем костре под
слоем пепла, вновь начинает разгораться тот боевой дух,
который согревал его в молодости. Чемоданов никогда не
был строго партийным человеком. В дни «Света и тени»
он отражал настроения революционного народничества, но
и тогда он не был «народником» в тесном смысле этого
слова. В годы безвременья он, подобно моим родителям,
стал одним из тех левых, прогрессивных, антицаристски
настроенных интеллигентов, которые, если можно так вы
разиться, представляли собой «легальную оппозицию» са
модержавию. И теперь, когда первые удары революцион
ной грозы разбудили в дяде Мише его старые боевые
инстинкты, он сначала выходит на арену в качестве рево
люционного одиночки. Он ходит на все митинги и собра
ния, он собирает деньги и подписывает адреса и петиции,
он говорит на съездах и требует освобождения арестован
ных. Но он не записывается ни в одну из партий. Мало-
помалу, однако, события и собственные настроения начи
нают все больше толкать Чемоданова туда, где горячее
всего кипит борьба против самодержавия. Дядя Миша
сближается с московскими большевиками. Он становится
сторонником вооруженного восстания. И тут он вновь воз
вращается к своему острому и убийственному оружию —
карандашу. Он выпускает целую серию талантливо сде
ланных политических открыток, которые с несравненной
силой наносят удары царизму, реакции, генералу Трепову,
«реформатору» Булыгину и ядовито высмеивают трус
ливо-соглашательскую позицию либеральной буржуа
зии. Заканчивается эта серия замечательной, истинно про
роческой карикатурой: царь пляшет на груде черепов, и
рядом тот же царь на виселице. Подпись гласит: «Допля
шется». Эти революционные открытки тайно печатаются
в одной из московских фотографий, распространяются в де
сятках тысяч экземпляров и приносят значительный доход,
который идет в кассу Московского комитета большевиков
и в политический Красный крест.
Но вот революция на отливе. Потрясенный царизм вре-
88
менно возвращает себе власть. Начинается дикая расправа
со всеми врагами самодержавия. Ее жертвой становится и
дядя Миша. Два обыска. Арест. Бутырская тюрьма. Кру
позное воспаление легких, схваченное в сырой, холодной
камере. Выпуск на поруки умирающего заключенного. От
чаянные попытки семьи и друзей предотвратить роковой
конец. Но уже поздно: царские палачи умеют делать свое
дело.
В январе 1907 года дядя Миша умер в возрасте всего
лишь пятидесяти двух лет.
Его имя, по справедливости, должно занять одно из вид
ных мест в истории русской политической карикатуры. Из
дание сборника лучших произведений Чемоданова явилось
бы полезным вкладом в библиотеку развития русской об
щественно-революционной мысли.
Мое первое более близкое знакомство с Чемодановым
произошло в Мазилове, когда мне было немногим больше
десяти лет. В дальнейшем, вплоть до поступления в уни
верситет, я не раз подолгу и часто сталкивался с ним то в
Москве, то в Омске. И когда сейчас, вспоминая свои дет
ство и раннюю юность, я стараюсь установить те влияния,
которые сделали меня революционером, я с благодарно
стью думаю о дяде Мише. В моем духовном развитии он
сыграл далеко не последнюю роль.
.9.
НА АРЕСТАНТСКОЙ БАРЖЕ
Осенью 1895 года наша семья вернулась из Петербурга
в Омск (на этот раз мы ехали уже по Сибирской железной
дороге, которая в то лето дошла до Омска), а весной сле
дующего, 1896 года мой отец был назначен сопровождать
арестантскую баржу, ходившую между Тюменью и Том
ском, и опять взял меня с собой в командировку.
В те годы транспортировка осужденных из Европейской
России в Сибирь несколько видоизменялась в зависимости
от времени года. Зимой этапы доставлялись поездами до
последнего железнодорожного пункта – Челябинска. От
сюда пешим порядком они шли на восток по маршруту
Омск – Томск – Иркутск – Чита и т. д., вплоть до Саха
лина. Летом этапы доставлялись поездами до Тюмени, от
сюда водой переправлялись в Томск и уже от Томска шли
тем же пешим порядком на Иркутск – Читу и т. д. В свя
зи с этим летом между Тюменью и Томском регулярно
89
курсировали два парохода, которые водили за собой по
одной арестантской барже. На такой барже имелись каме
ры для содержания преступников, забранная железной ре
шеткой открытая палуба, помещение для конвойной коман
ды человек в тридцать пять и две-три каюты для малень
кого лазарета. Баржу сопровождали начальник конвойной
команды и врач для оказания медицинской помощи в пу
ти. Маршрут от Тюмени до Томска шел по рекам Туре,
Тоболу, Иртышу, Оби и Томи. Длина его составляла три
тысячи верст. Весь путь покрывался в восемь-девять су
ток. За летний сезон баржа успевала сделать в среднем
семь оборотов и перевезти, как я уже упоминал раньше,
до тысячи арестантов – в тот период почти исключительно
уголовных. Вот на такую-то баржу я и попал в мае
1896 года.
Мне было двенадцать лет. Я только что перешел о
четвертый класс гимназии и чувствовал себя почти героем.
Жадными, любопытными глазами я смотрел на мир, я жа
ждал новых мест, новых людей, необыкновенных событий,
приключений. Легко себе представить, с какими чувствами
я ступил на борт арестантской баржи. Я весь был упоение
и ожидание. Я заранее широко открывал свою душу вос
приятию тех новых, исключительных впечатлений, которые,
как мне казалось, должно подарить мне это замечательное
лето. Я не ошибся: впечатлений оказалось много, и, как
всегда в жизни, приятных и неприятных вперемежку.
Начну с неприятных. Прежде всего это был начальник
конвойной команды капитан Феоктистов. Он не понравился
мне с первого взгляда. Феоктистов был высокий бравый
мужчина с острыми иголочками нафабренных усов, с кра
сивым наглым лицом, на котором всегда лежало выраже
ние петушиного задора и наивной самовлюбленности. Фе
октистов ловко пристукивал каблуками, крепко выпивал,
любил хорошо поесть, поиграть в картишки, смачно рас
сказать похабный анекдотец. «Дамочки» были его особая
слабость, и говорить о них он мог часами. На конечных
остановках – в Тюмени и Томске, где наша баржа обычно
стояла дня по два, Феоктистов всегда пропадал в каких-
то подозрительных притонах, откуда его привозили на из
возчике, красного и полувменяемого, за несколько минут
до отхода парохода. В пути он любил выходить на приста
нях, сально балагурить с крестьянами и покровительствен
но пощипывать смазливых «чалдонок». Подвыпивши, Фе-
90
октистов появлялся на палубе в расстегнутом кителе и,
бренча на гитаре, распевал:
Выхожу я из палатки,
Месяц светит во все лопатки
Ты скажи мне, ветер бурный,
Скоро ль буду я дежурный?
Это «глубокомысленное» четверостишие повторялось не
сколько раз подряд. Потом Феоктистов впадал в меланхо
лическое настроение, принимал томную позу и переходил
на элегию:
Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится, —
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
На первых порах Феоктистов пытался завести со мной
дружбу, зазывал к себе в каюту, пробовал подпаивать, но
из его усилий ничего не вышло. Отец от Феоктистова то
же сторонился, так что под конец его единственным об
ществом на барже стал старый ротный фельдшер, горький
пьяница и картежник, с которым бравый капитан обычно
«резался» в карты до глубокой ночи.
Другим тяжелым впечатлением, но уже несколько иного
порядка, были пассажиры нашей баржи – уголовные аре
станты. Мужчины и женщины, старые и молодые, наглые
и забитые, мрачные и веселые, в кандалах и без канда
лов, – все они шумной, серой, беспокойной толпой запол
няли трюмные камеры, кричали, ссорились, свистели,
плакали, били вшей, валялись на палубе, играли в карты,
доходили до поножовщины. Помню, во время одного из
рейсов среди осужденных произошла какая-то темная ссо
ра, в результате которой на следующее утро пожилой аре
стант, шедший на поселение, был найден мертвым, с про
ломленной головой. Несмотря на все крики и зуботычины
Феоктистова, несмотря на карцерный режим, введенный им
после этого на барже, виновных так и не удалось обнару
жить: «Иваны» крепко держали в своих руках всю аре
стантскую массу. Отец как раз в это лето производил свои
измерения «преступных черепов», о чем я упоминал выше,
и я помогал ему в этой работе. Каждый день конвойные
солдаты приводили в лазарет по нескольку арестантов для
исследования. Взятые в одиночку, они были людьми, инди
видуумами. Некоторые из них казались даже приятными
91
и интересными. Однако в общей массе арестанты произво
дили гнетущее, тоскливое, беспросветное впечатление, и
вместе с тем рождали у меня – я тогда никак не мог по
нять, почему, – ощущение какой-то душевной неловкости,
точно я был в какой-то мере ответственен за их горькую
судьбу.
Таковы были тени. Но наряду с ними был свет. Много
света!
Едва я ступил на баржу, как вновь ожила моя старая
страсть к воде, к кораблям, к судоходству. Я сразу же пе
резнакомился с командой и завел дружбу с водоливом и
штурвальными. Всего на барже было человек восемна
дцать, и все они происходили из одного и того же места—
села Истобенского, Вятской губернии. Не знаю, почему так
повелось, но только и те годы все западносибирское па
роходство, бороздившее воды бассейна Оби и Иртыша,
было укомплектовано выходцами из этого знаменитого
села или его окрестностей. Зиму они проводили у себя до
ма, в Вятской губернии, а с весны направлялись на реки
Западной Сибири и плавали здесь до глубокой осени.
«Истобенцы» представляли собой своеобразный «клан»,
крепко держались друг за друга, свято хранили свою «мо
нополию» и дружно сживали со света всякого «чужака»,
пытавшегося проникнуть в их твердыни. То же самое было
и на нашей барже. Водолив (то есть капитан баржи), Ми-
хайло Егорович, – коренастый мужчина лет пятидесяти,
с заметной полнотой и чисто русским лицом, обрамленным
широкой седеющей бородой, – не произвел на меня боль
шого впечатления. В дальнейшем мои отношения с ним все
время оставались внешне дружественными, но внутренно
формальными. Зато двое штурвальных, стоявших по
очереди за рулем, мне очень понравились, и один из
них – Василий Горюнов – сразу завоевал мое сердце. Это
был уже пожилой человек, с вихрастыми волосами, су
мрачным лицом и сеткой глубоких морщин на лбу. На пер
вый взгляд он мог показаться неприятным мизантропом, но
достаточно было как-нибудь увидать его улыбку – детски-
ясную, искреннюю, обворожительную, – чтобы сразу по
чувствовать, что вы имеете дело с натурой редкой добро
ты и благородства, которой бури жизни нанесли не один
тяжелый удар. В Горюнове невольно чувствовалась какая-
то невысказанная внутренняя печаль, но я только позднее
понял, откуда она происходила. Товарищи с оттенком
92
сдержанного почтения говорили, что «Васька книжки чи
тает», и часто спрашивали у него совета по разным недо
уменным вопросам. Действительно, Горюнов очень любил
читать. В его каютке можно было найти много дешевых
популярных изданий, все больше по естественной истории,
географии, астрономии. Особенно Горюнова увлекали ве
ликие мореплаватели, путешественники, открыватели новых
земель. Почему-то его воображение особенно воспламенил
Васко де-Гама. К случаю и не случаю Горюнов любил по
вторять это имя, прислушиваясь к звукам его, как к му
зыке.
– Васко де-Гама! – часто, как бы невзначай, говорил
Горюнов, склоняя голову набок. – Вот это да! Настоящий
мореплаватель! Что надо!
С молчаливого разрешения водолива я быстро превра
тился в юнгу-добровольца на барже. Я облазил все углы
и закоулки баржи, изучил снасти, овладел секретами сиг
нализации, знал, как надо бросать «легость», как отдавать
и принимать «чалки» 1, как спускать и подымать якорь. Но
больше всего мне нравилось стоять рядом с Горюновым в
штурвальной рубке и, внимательно следя за вечно меняю
щимся течением реки, помогать ему в работе рулевого.
Мало-помалу я так втянулся в эту работу, обнаружил та
кие успехи в умении быстро и во-время поворачивать
штурвальное колесо, что Горюнов стал доверять мне уп
равление баржей. Не то, чтобы он уходил из рубки и
оставлял меня за рулем одного, – конечно, нет! Это было
бы слишком рискованно. Но все чаще он бросал, обращаясь
ко мне:
– На, покрути, Ванюшка!
И затем, когда я, страшно польщенный, становился, как
«всамделишный» моряк, за штурвальное колесо, Горюнов
отходил в угол рубки, сворачивал козью ножку и, слегка
попыхивая цыгаркой, подолгу стоял, задумчиво глядя впе-
1
В то время на западносибирских пароходах применялась такая
система причала: когда пароход приставал к берегу, с борта на берег
сначала бросалась длинная тонкая веревка с грузилом на конце, ко
торую там ловил береговой матрос и начинал быстро тянуть ее к себе.
Тонкая веревка, в свою очередь, была привязана к тяжелому канату
с петлей. Вытянув тонкую веревку, береговой матрос затем вытягивал
и тяжелый канат и закидывал его петлю на врытую в землю тумбу
или же просто на какой-либо поблизости расположенный пень. После
того пароход подтягивался к берегу по канату и закреплялся в опре
деленном положении. Тонкая веревка именовалась «легостью», тол
стый канат назывался «чалкой».
93
ред, туда, где, клубясь и туманясь, медленно бежали на
встречу темные широкие воды и поросшие лесом обрыви
стые крутояры.
Кругом была дикая и могучая природа. Гигантские ре
ки, дремучая тайга, бесконечная линия берегов, широкое
белесоватое северное небо, которое по ночам так ярко
отражалось своими звездами в потемневшей глади воды.
И нигде, почти нигде, не было человека! Изредка под кру
тояром мелькнет маленькая рыбачья деревушка, изредка
пробежит группа островерхих остяцких чумов, прилепив
шихся на плоском берегу песчаного острова, изредка по
кажется струйка синеватого дыма над какой-либо одино
кой хижиной... И опять – вода, лес, небо, острова, стаи
птиц, пустынные берега, дикие звери... Я помню случай:
медведица с несколькими медвежатами выскочила из тай
ги к воде, и долгими, удивленными взглядами они прово
жали бежавший мимо пароход. И так день за днем. Ка
залось, мы плывем в бесконечность...
В памяти у меня осталось село Самаровское... Здесь
два сливающихся могучих потока – Обь и Иртыш – обра
зуют острый гористый мыс, весь заросший диким сосновым
лесом. По шаткой деревянной лестнице, специально устро
енной для проезжавшего через Самаровское в 1891 году
наследника престола – впоследствии Николая II, – мы с
отцом поднялись на вершину мыса. Картина, открывшая
ся нашему взору, была поразительна. Слева шла широкая,








