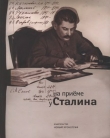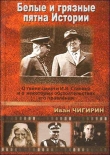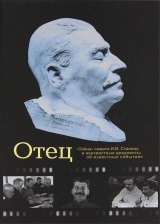
Текст книги "Отец. "Тайна" смерти И.В. Сталина и неизвестные документы об известных событиях"
Автор книги: Иван Чигирин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Не ругайте меня, что я взялся исправить недочёты своего письма с некоторым опозданием.
7/v-32r. С ком. прив. И. Сталин
(Подчёркнуто Сталиным).
Это письмо, скорее всего, было ответом на все перечисленные записки маршала. Стараясь не ущемить его болезненное самолюбие, Сталин очень мягко и терпеливо поставил ему задачу, рассказал, что на самом деле необходимо армии и какой она должна быть.
Через два месяца, 15 июля 1932 года Кагановичу и Молотову Сталин пишет из Сочи:
«...б) План развёртывания армии (в 1933 г.) в случае войны, представленный штабом слишком раздут, до безобразия раздут и очень обременителен для государства. Его надо переработать и сократить максимально.
в) Численность армии мирного времени на 1932 год (дана по плану штаба) слишком раздута (доходит до 1 миллиона 100 тысяч душ). Штаб забывает, что механизация армии во всех странах ведет к сокращению её численности. По плану штаба выходит, что механизация армии у нас должна повести к увеличению ее численности. Абсурд, демонстрирующий беспомощность наших людей перестроить армию на базе механизации. Я понимаю, что для перестройки нужно время, нужен некий переходный период. Но тогда нужно, во-первых, определить длительность этого переходного периода, сведя его к минимуму. Во-вторых, наряду с решением о численности нужно принять другое решение о календарных сроках сокращения численности армии по мере механизации армии. Без такого параллельного решения невозможного принять проект штаба о численности на 1932 г.» (Подчёркнуто Сталиным).
Не говоря о 8-миллионной армии, предложенной Тухачевским, Сталин даже армию в 1,1 млн. душ для мирного времени считал чрезмерной.
Приведённые документы в корне меняют на противоположное устоявшееся представление о «прогрессивном» Тухачевском и о «ретроградах» Ворошилове и Сталине. Именно Сталин настаивает не на количественной, а на качественной реорганизации армии за счёт её перевооружения с использованием новой техники.
В письме Сталина от 7 мая 1932 года совершенно чётко сказано, что армия нужна для защиты страны, для сохранения её независимости, а не для агрессии и не для «повышения её наступательной возможности», как предлагал в своей записке Тухачевский.
В докладе Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС «О культе личности...» М.Н. Тухачевский и другие военачальники были объявлены невинными жертвами сталинских репрессий.
Как показало время, это делалось не только для того, чтобы обвинить Сталина во всех бедах, за которые должна была нести ответственность партийная номенклатура, но, главное, для смены курса страны, по которому её вёл Сталин.
Совершенно не случайно, что предводителями и исполнителями государственного переворота, совершённого 26 июня 1953 г., были военные во главе с маршалом Жуковым. Без них Хрущёв не смог бы осуществить задуманное.
Во время правления Хрущёва и его последователей план, предложенный Тухачевским в 1930 г. по полной милитаризации страны, был претворён в жизнь.
Достаточно вспомнить непосильную для советского народа военную помощь «братьям по классу» во всех частях земного шара, партиям и государствам, едва намекавшим о социалистическом пути развития. Одновременно выполнялась другая задача – военно-промышленный комплекс обеспечивал безбедную жизнь партийной и военной элит.
Страна была изнасилована милитаризацией – все промышленные и непромышленные предприятия в большей или меньшей степени трудились для выполнения военных задач. Производство товаров для народа находилось на положении падчерицы.
Постоянно провоцируя Запад то обещаниями «закопать», то взрывами 50 мегатонных ядерных зарядов, то подвозом к его границам стратегических ракет (Карибский кризис) партийное руководство СССР постоянно подталкивало потенциального противника к ответным действиям. (Как увидит читатель, Троцкий в преддверии войны Германии против Советского Союза делал то же, но другими методами).
После смерти Сталина изменилась цель – армия стала нужна не для обороны страны, а для практического осуществления и торжества идей Троцкого о победе мировой революции. Под миролюбивыми лозунгами вместо обеспечения принципа разумной достаточности, на фоне обнищания населения, Хрущёв и Брежнев тратили на армию и на вооружение большую часть бюджета, огромные деньги. Эти расходы стали непосильными для страны и привели её к краху.
Например, брежневские стратеги поставили задачу иметь в войсках примерно 60 тыс. танков. Только за одну пятилетку (1981-1985) было построено 15120 единиц. Ход набрали такой, что к 1988 году, уже после смерти Брежнева, на вооружении Советской Армии стояло 63 900 танков общей стоимостью 15 миллиардов 975 миллионов рублей.
Здесь к месту процитировать Я.П. Рябова, который в 1976-1979 гг. в должности Секретаря ЦК КПСС, по линии партии руководил военно-промышленным комплексом СССР. В своей книге «Мой XX век. Записки секретаря ЦК КПСС» Я.П. Рябов приводит весьма убедительные примеры, как его многочисленные предложения о ликвидации танковых и других военных арсеналов ненужных и обременительных для страны наталкивались на «каменную стену» Устинова, Суслова и с их подачи, дряхлеющего Брежнева.
«...И это был не последний случай наших принципиальных расхождений, в том числе и моя записка в Политбюро в декабре 1978 г., в которой обоснованно, с расчётами, вносил предложение сократить поставку военной техники Министерству обороны в 1979 г. на 8 млрд. рублей, не ущемляя оборонной мощи страны. Эту записку я показал М.А. Суслову, он её одобрил и решил сам показать Брежневу. Не знаю, какой там проходил разговор, знаю только, что Устинов отчаянно возражал, звонил мне, я его пытался убедить в необходимости и обоснованности нашего предложения, но безуспешно. Через неделю меня пригласил Суслов, вручил мне мою записку и сказал: «Товарищ Рябов, предложение правильное, Вы над этим продолжайте работать, но рассматривать её сейчас на Политбюро несвоевременно».
Ещё пример из упомянутой книги:
«...не могу не вспомнить мои неоднократные разговоры, состоявшиеся по инициативе Е.П. Славского, министра среднего машиностроения. Он постоянно говорил, что требование Министерства обороны во главе с Д.Ф. Устиновым об оснащении Советской Армии новыми артиллерийскими ядерными снарядами – это «бред сивой кобылы». Он говорил, что Д.Ф. мыслит временами гражданской или Отечественной войны, когда бей в кого попало..., что ядерные артиллерийские боеприпасы весьма дорогостоящи, и их придётся делать в массовом количестве – это разорит страну.
...Поддерживая Ефима Павловича, я неоднократно беседовал по этим проблемам с Устиновым. К моему сожалению, Дмитрий Фёдорович протащил этот вопрос через Совет Обороны, несмотря на серьёзные замечания Славского».
Сказанное Сталиным в письме Ворошилову о записке Тухачевского по поводу бездумной милитаризации страны: «Осуществить» такой «план»– значит наверняка загубить хозяйство страны и армию» полностью сбылось.
А тогда, вероятно, маршал Тухачевский уже «закусил губу», счёл свои «выдающиеся способности» недооценёнными, а «извинения» Сталина запоздалыми, и, как показали дальнейшие события, приступил к подготовке и осуществлению заговора против существовавшей власти.
Если обратиться к немецким источникам, то сомнения в существовании заговора отпадают. В дневнике рейхсминистра Геббельса говорится о встрече Гитлера с высшим руководством нацистской партии и администраторами оккупированных территорий в мае 1943 года:
«Фюрер вспомнил дело Тухачевского и выразил мнение, что мы были абсолютно неправы, считая, что Сталин своими действиями разрушает Красную Армию. Всё было как раз наоборот: Сталин избавился от оппозиции в Красной Армии и тем самым положил конец пораженчеству».
Этим замечанием Гитлер признал, что оппозиция в Красной Армии существовала, и действия Сталина были оправданны.
Тухачевский и его окружение хотели другой власти в СССР -создания государства военной диктатуры с одновременным сотрудничеством с нацистами. Большая надежда возлагалась на Л.Д. Троцкого и его сторонников, которые призывали к свержению существовавшего в СССР строя. Тухачевский рассматривался немцами как военачальник высшего ранга, действия которого нацелены на то, чтобы был заключён союз между военным руководством СССР и Третьим рейхом. Такие планы Тухачевского находили понимание в Германии даже много позже ликвидации заговора.
Это подтверждается письмом министра иностранных дел Германии И. Риббентропа от 13 октября 1940 г. на имя И.В. Сталина.
После длинных пространных пояснений о ходе войны в Европе в течение последнего года и мотивации захвата ряда стран, министр пишет о желании стран оси Берлин – Рим – Токио «произвести переустройство вещей в мире», но уже с участием Советского Союза:
«Резюмируя вышеизложенное, я хотел бы сказать, что также и по мнению Фюрера историческая задача четырёх держав в липе Советского Союза. Италии. Японии и Германии, по видимому, состоит в том, чтобы устроить свою политику на долгий срок и путём разграничения своих интересов в масштабе столетий направить будущее своих народов по правильному пути.
Для того, чтобы глубже выяснить такие решающие для будущности наших народов вопросы и чтобы подвергнуть их обсуждению в более конкретной форме, мы приветствовали бы, если бы господин Молотов соизволил в ближайшее время навестить нас в Берлине. От имени Германского Правительства я имею честь сердечно его пригласить. После моего двух кратного посещения Москвы мне лично доставило бы особенное удовольствие повидать господина Молотова в Берлине. Его приезд дал бы фюреру возможность изложить господину Молотову лично свои мысли о дальнейшем устройстве отношений между нашими двумя странами. После своего возвращения господин Молотов смог бы в объемлющей форме доложить Вам о целях и намерениях фюрера. Если при этом, как я смею думать и ожидать, выявится возможность дальнейшего развития нашей общей политики в смысле изложенного мной выше, то я почту за удовольствие вновь приехать в Москву, чтобы с Вами, глубокоуважаемый господин Сталин, продолжить обмен мнениями и иметь беседу – может быть совместно с представителями Японии и Италии – об основах политики, которая только может принести всем нам практическую пользу.
С наилучшим приветом преданный Вам РИББЕНТРОП (подчёркнуто Риббентропом).
По сути, предлагалось, чтобы русские дивизии вместе с нацистами воевали в Европе сначала с английскими и французскими, а потом и с американскими войсками. Россия была бы втянута в страшнейшую бойню «по переустройству вещей в мире» по германскому сценарию.
С учётом главной доктрины Гитлера, сформулированной в его книге «Mein Kampf» (Моя борьба) о расширении жизненного пространства Германии за счёт российских земель, и алчущих японцев на востоке, судьба России уже тогда была бы катастрофической. После истощения войной «по переустройству», она была бы захвачена голыми руками «союзников».
Судя по записке М.Н. Тухачевского, которая приводилась выше, он уже тогда подталкивал СССР к «предстоящей большой войне» в Европе. Главная цель этой войны в 1930 году как оказалось, предполагалась маршалом как разделение сфер влияния между Германией и СССР, что подтверждает письмо Риббентропа от 13 октября 1940 г.
Если бы Сталин не ликвидировал заговор Тухачевского и поддался на провокацию «пакта 4-х», планы Германии осуществились бы значительно раньше, ив 1941 году карта мира была бы совершенно иной.
К 1941 году Троцкий и заговор военных были ликвидированы, но слишком велик был урон, нанесённый этими врагами. Тогда его невозможно было оценить и представить. Позже этот урон будет измеряться миллионами жизней народов нашей страны.
Идеи пораженчества, которые проповедовал Троцкий накануне войны и его мысли о том, что в случае германского нападения большевики предадут свой народ, были достаточно распространены и имели своих сторонников и последователей внутри страны.
Эти установки, внедряемые в войска оставшимися на свободе участниками заговора, оказывали деморализующее воздействие на армию.
Разложение войск противника во все времена считалось важнейшей составляющей в достижении победы. Проведённая пропагандистская работа, надо отдать врагу должное, была весьма эффективна.
Именно в этом, а не в плохом вооружении, не в репрессиях командного состава или в отсутствии выучки одна из главных причин, по которой советские войска в 1941 году массово сдавались в плен. Не из-за трусости же. Трусом русский солдат не был никогда.
Создание РОА генералом Власовым явилось прямым следствием предвоенной пропаганды Троцкого и действий Тухачевского.
Вред, нанесённый Троцким и Тухачевским народу, огромен.
Уничтожение этих врагов – не личные счёты отдельных личностей и не борьба за власть, а борьба за спасение страны и за жизнь народа.
Сама идея Тухачевского о совместных действиях советских и германских военных оказалась живучей даже без главного заговорщика.
Приведённый ниже пример наглядно показывает, что происходило на фронте в начале войны.
После ликвидации заговора многие связывавшие его нити оказались обрубленными и оставшиеся на свободе сторонники Троцкого и Тухачевского спокойно работали, продвигаясь по службе, и, как выяснилось, выжидали своего часа.
Когда грянуло 22 июня 1941 года, именно военачальники, прошедшие «школу Тухачевского», и морально разложенные ими войска явились первопричиной страшных поражений первого периода Великой Отечественной войны.
За многие годы сформировалось и устоялось мнение, что первые дни войны И.В. Сталин находился в состоянии прострации, и только настойчивость соратников вывела его из ступора. Эта версия, ставшая со временем аксиомой, была впервые озвучена Хрущёвым в развитие основных претензий к Сталину, выдвинутых на XX съезде КПСС в 1956 году. Такое весьма серьёзное обвинение сегодня поддерживается и тиражируется не только людьми, имеющими поверхностные знания об истории СССР, но и весьма зрелыми мужами, по должности обязанными быть в курсе исторических реалий. Тем более, если для руководства страны они являются главными источниками архивной правды.
Сначала предоставим слово Хрущёву:
«Война началась. Но каких-нибудь заявлений Советского правительства или же лично Сталина пока не было. Это производило нехорошее впечатление. Потом уже, днём в то воскресенье выступил Молотов. Он объявил, что началась война, что Гитлер напал на Советский Союз... То, что выступил Молотов, а не Сталин, – почему так получилось? Это тоже заставляло людей задумываться. Сейчас-то я знаю, почему Сталин тогда не выступил. Он был совершенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями. Потом, уже после войны, я узнал, что, когда началась война, Сталин был в Кремле. Это говорили мне Берия и Маленков.
Берия рассказал следующее: когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определённая группа, которая чаще всего собиралась у Сталина. Сталин был совершенно подавлен и сделал такое заявление: «Началась война, она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его про...». Буквально так и выразился. «Я, – говорит, – отказываюсь от руководства», – и ушёл. Ушёл, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. «Мы, рассказывал Берия, -остались. Что же делать дальше? После того как Сталин так себя показал, прошло какое-то время, посовещались мы с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым (хотя был ли там Ворошилов, не знаю, потому что в то время он находился в опале у Сталина из-за провала операции против Финляндии). Посовещались и решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности, использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я (рассказывает Берия) по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовывать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию? Тут мы стали его убеждать, что у нас огромная страна, что мы имеем возможность организоваться, мобилизовать промышленность и людей, призвать их к борьбе, одним словом, сделать всё, чтобы поднять народ против Гитлера. Сталин тут вроде бы пришёл в себя. Распределили мы, кто за что возьмётся по организации обороны, военной промышленности и прочего».
Я не сомневаюсь, что вышесказанное – правда. Конечно, у меня не было возможности спросить Сталина, было ли это именно так. Но у меня не имелось никаких поводов и не верить этому, потому что я видел Сталина как раз перед началом войны. А тут, собственно говоря, лишь продолжение. Он находился в состоянии шока». (Хрущёв Н.С. Воспоминания. Время. Люди. Власть. М., 1999).
Обратите внимание, что рассказ придуман и продуман весьма искусно. Он идёт якобы не от Хрущёва, а вложен в уста Берии, который давно убит, и подтвердить эти слова, естественно, не может.
В интервью «Независимой газете» Хрущёву вторит директор Государственного архива РФ С.В. Мироненко:
– Это случилось на начальном этапе войны. Сталин несколько дней не появлялся в Кремле. Вы понимаете – когда управление строго иерархическое, оно дает сбои: ведь все зависит от одного человека, а этого человека нет, то как же всем жить? Члены Политбюро собрались и решили, что поедут на дачу к Сталину. Это было не принято. Без вызова туда никто не попадал, но время было очень тяжелое, и они решили все-таки поехать. Приехали и видят: Сталин, как описывают очевидцы, похудевший, бледный. Он решил, что они приехали его арестовывать! Он переживал, у него был, по-видимому, тяжелый кризис. Его стали убеждать: Ленин оставил нам великую империю, а мы её, извините, прос... Такое довольно грубое прозвучало выражение. Встал Ворошилов, стал говорить: «Коба, ты что... Как же мы будем без тебя? Ты должен нас возглавить!» И Сталин дал себя уговорить. Немножко ожил. Все пошло дальше.
Обратимся к журналам записей лиц, принятых Сталиным. Они свидетельствуют о том, что перед самым началом и в первую неделю войны с 21 по 28 июня в кабинете у Сталина в Кремле побывали:
21 июня 1941 года с 18.27 до 23.00. Молотов, Ворошилов, Берия, Вознесенский, Маленков, Кузнецов, Тимошенко, Сафонов, Жуков, Будённый и Мехлис.
22 июня с 5.45 до 16.45 Молотов, Берия, Тимошенко, Мехлис, Жуков, Маленков, Микоян, Каганович Л.М., Ворошилов, Вышинский, Кузнецов, Димитров, Мануильский, Вышинский, Шапошников, Ватутин, Кулик.
23 июня с 3.20 до 6.25 и с 18.45 до 1.45. Молотов, Жигарев, Тимошенко, Меркулов, Ворошилов, Воскресенский, Мехлис, Каганович Л., Ватутин, Кузнецов, Берия, Власик.
24 июня с 16.20 до 21.30 принято 20 человек.
25 июня с 1.00 до 5.20 и с 19.40 до 1.00 принято 29 человек.
26 июня с 12.10 до 23.20 принято 28 человек.
27 июня с 16.30 до 2.40 принято 30 человек.
28 июня с 19.35 до 00.50 принят 21 человек.
О каком состоянии прострации И.В.Сталина идёт речь? Из этого общедоступного документа следует, что утверждение Хрущёва – наглая ложь. Если таких элементарных вещей не знает директор Государственного архива Российской Федерации господин Мироненко, то нужно ли удивляться тому, что руководство страны и Государственная Дума убеждены в том, что украинцев в 1932-1933 годах голодом морил Сталин, а поляков под Катынью расстрелял НКВД? Кстати, документы об этих событиях хранятся не где-то, а в архиве, которым руководит тот же С.В. Мироненко.
Много документов свидетельствует о том, что Сталин и руководство страны ожидали скорого начала войны, но информация, поступавшая из многих источников, была очень противоречивой, а, зачастую, и взаимоисключающей. Объявление мобилизации в таких обстоятельствах было бы истолковано Германией объявлением войны. (Именно так было спровоцировано начало Первой мировой войны).
Благодаря изысканиям серьёзного историка и скрупулёзного исследователя Сергея Кремлёва им установлено и документально подтверждено, что о начале войны Сталину «сообщил»... сам Гитлер:
«Сталин получает сообщения о близящейся войне от нелегалов и легальных закордонных резидентур Меркулова из НКГБ, от нелегалов генерала Голикова из ГРУ Генштаба, от военных атташе и по дипломатическим каналам. Но всё это может быть стратегической провокацией Запада, видящего в столкновении СССР и Германии собственное спасение. Однако есть созданная Берия разведка погранвойск, и вот её-то информации верить не только можно, но и нужно. Это интегральная информация от такой разветвлённой периферийной разведывательной сети, что она может быть лишь достоверной. И эта информация доказывает близость войны. Но как проверить всё окончательно?
Идеальный вариант – спросить самого Гитлера о его же подлинных намерениях. Не окружение фюрера, а его самого, потому что фюрер не раз неожиданно даже для окружения менял сроки реализации собственных приказов! Сроки наступления на Западном фронте в 1940 году изменялись Гитлером более 20 раз!
И Сталин 18 июня 1941 года обращается к Гитлеру о срочном направлении в Берлин Молотова для взаимных консультаций. Это не гипотеза, а факт, отмеченный в дневнике начальника Генштаба сухопутных войск рейха Франца Гальдера. Нормативный для любого серьезного историка войны источник был издан Военным издательством Министерства обороны СССР в 1968-1971 годах, и на странице 579-й 2-го тома среди других записей 20 июня 1941 года находим:
«Молотов хотел 18.06 говорить с фюрером».
Одна фраза... Хотел, но почему-то не поговорил! Не захотел.
И эта фраза, достоверно фиксирующая факт предложения Сталина Гитлеру о срочном визите Молотова в Берлин, полностью переворачивает всю картину последних предвоенных дней!
Полностью!
Однако зряшный труд – искать этот факт в любой официальной истории войны. Ведь этот факт рушит всю устоявшуюся – как у нас, так и на Западе -схему! Ведь реально все было иначе!
Сталин предложил – возможно, еще 17 июня 1941 года... Гитлер отказал ему не позднее 18 июня. Пойти на встречу с заместителем Сталина фюрер не
Даже если бы Гитлер начал тянуть с ответом, это было бы для Сталина доказательством близости войны. Но Гитлер вообще отказал. Сразу!
И Сталин понял: это война.
Поняв, что Гитлер решился-таки на войну с Россией, Сталин немедленно (не позднее вечера 18 июня) начал отдавать соответствующие распоряжения руководству Наркомата обороны. Руководство НКВД, то есть Берия с его пограничниками, предупреждать не было нужды – они сами предупредили Сталина. Вовремя!
.... Советская разведка буквально за день до войны «выудила» еще одну сенсационную информацию. Это подтверждается в записке Сталину, Молотову и Берия, направленной наркомом ГБ Меркуловым 21 июня 1941 года, с текстом беседы двух московских иностранных дипломатов, состоявшейся 20 июня.
« – Когда приехал ваш генерал-лейтенант?...
– Вчера. Он видел Тимошенко и Жукова.
– Вы с ним были?
– Но он ничего не спрашивал? Тимошенко знал, что он от вашего генерала подходящего ответа не получит... А здесь все беспокоятся – война, война.
– Да, русские узнали...»
Да, русские узнали!
И узнали заблаговременно потому, что усилия множества крупных и мелких разведчиков, предпринимаемые в последние месяцы, увенчал личный зондаж Сталина! Это был класс разведки в полном смысле слова на высшем уровне!
Интереснейший, не имеющий примеров в военной истории случай: глава одного государства – Сталин – сумел накануне войны добиться «момента истины» от главы изготовившегося к войне главы другого государства – от Гитлера!» («Комсомольская правда», 21 июня 2010 г.)
Самое поразительное, что директиву Генерального штаба от 18 июня 1941 г. о приведении войск в боевую готовность, которую И.В. Сталин санкционировал сразу после выяснения даты начала войны, не выполнил ни один из командующих военных округов! Одновременное невыполнение приказа Генерального штаба разве не заговор? Не активной ли его фазы дожидался Гитлер, многократно откладывая начало войны? Похоже, что у вояк-троцкистов выступить открыто смелости не хватило, зато они сдавали в плен советских бойцов полками. Пример – чуть ниже.
Много публикаций повествуют о «безвинно расстрелянном» командующем Западным Особым округом генерале армии Д.Г. Павлове, который, получив директиву Генерального штаба от 18 июня 1941 года о приведении войск приграничных округов в боевую готовность в связи с ожидаемым нападением Германии, фактически проигнорировал её и совершил предательство, что привело к гибели и пленению сотен тысяч бойцов и, в конечном итоге, к прорыву противника к Москве.
Как можно, видя перед собой приготовление противника к нападению, сидеть 21 июня 1941 года в Минске в театре и в перерывах между действиями по установленному в ложе телефону спецсвязи докладывать в Москву, что у него всё спокойно?
Важное свидетельство П.А. Судоплатова:
«20 июня 1941 г. Эйтингон сказал мне, что на него произвёл неприятное впечатление разговор с генералом Павловым, командующим Белорусским военным округом. Поскольку они с Эйтингоном знали друг друга по Испании, он попросил дружеского совета у Павлова, на какие районы, по его мнению, следовало бы обратить особое внимание, где возможны провокации немцев. В ответ Павлов заявил нечто, по мнению Эйтингона, невразумительное, он, казалось, совсем ничего не понимал в вопросах координации действий различных служб в современной войне. Павлов считал, что никаких особых проблем не возникнет даже в случае, если врагу удастся в самом начале перехватить инициативу на границе, поскольку у него достаточно сил в резерве, чтобы противостоять любому крупному прорыву. Одним словом, Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных операциях для дезорганизации тыла войск противника».
А противник так не считал и действовал по-другому.
«Удары немецких диверсантов, обеспечивающие успех подвижных соединений в начальный период войны, были очень эффективными... немецкий спецназ был хорошо подготовлен для действий в тылах Красной армии.
22 июня 1941г. мобильные, прекрасно вооруженные и связанные единой системой связи и управления гитлеровские войска на направлениях главных ударов в считанные часы смяли оборону потерявших боевое управление бригад и, дивизий и целых корпусов Красной армии». (Из книги И.Б. Линдера, Н.Н. Абина и С.А. Чуркина «Диверсанты». М., 2009)
Зачем Павлову выполнять приказ о приведении войск в боевую готовность и думать о дезорганизации тыла войск противника? У него «достаточно сил в резерве, чтобы противостоять любому крупному прорыву». Можно в театре пьеску посмотреть. Хоть и война на носу.
Как известно, уже в первую неделю войны немцы захватили столицу советской Белоруссии – г. Минск.
И что, допустивший это Павлов – «безвинная жертва»?
Здесь следует сказать о том, что Троцкий и его сподвижники заранее готовили войска к поражениям Красной Армии. Планы сотрудничества советского и германского военного руководства, о которых мечтал Тухачевский, осуществились на практике средним командным составом самым неожиданным для советского руководства образом. Вот как установки Троцкого воплощались в действительности, в боевой обстановке.
В августе 1941 года под Вязьмой имело место такое событие.
Один из стрелковых полков, предназначенных дня Западного фронта, был укомплектован, вооружён и обмундирован в Гжатске (ныне Гагарин) и 28 августа 1941 г. в полном составе прибыл под Вязьму несколькими эшелонами.
Следует пояснить, что по предвоенному штату, стрелковый полк состоял из 3-х стрелковых батальонов, 3-х стрелковых батарей (артиллерийской, миномётной и истребительно-противотанковой), подразделений боевого обеспечения и тыла; всего около 3200 человек и 160 пулемётов, двенадцать 45 мм и шесть 76 мм пушек, восемь 82 мм и четыре 120 мм миномёта. Сила немалая.
После разгрузки полк с оружием был построен вдоль состава. Командовали советский командир полка и немецкий офицер.
Была дана команда: «Оружие на землю! Кругом! По вагонам!». Разоружённый полк погрузился в те же вагоны, и эшелоны прямым ходом помчались... на запад, в Германию. А противник сквозь оголённый фронт без боёв и без потерь помчался в Москву. «Разминулись».
Как было Сталину противостоять врагу с такими Павловыми и с такими командирами полков, если войска, благодаря Троцкому и Тухачевскому, ехали в плен эшелонами?
Отец человека, который рассказал мне эту историю, В.Е. Кудрявцев, в полку по военной специальности служил вторым номером пулемётчика. Но эти знания и умения ему за всю войну не пригодились.
Полк прибыл в Германию и советские бойцы, став военнопленными, были распределены на различные работы и трудились всю войну во благо Германии.
Как и планировал маршал Тухачевский в 1930 году, в 1941 году всё «составило необходимый результат высшей степени цивилизации» -противник немцами без боя был ликвидирован и получена рабочая сила для Германии.
В 1945 году В. Кудрявцев вместе со своими товарищами был освобождён американцами. После возвращения в СССР во время прохождения проверки работал на шахте им. Молотова в городе Прокопьевске в Кузбассе. Оттуда он сообщил о себе домой. Родственники всю войну не имели никаких сведений о нём и считали его погибшим. В 1947 году он приехал в Москву и рассказал об этой истории. После этого он много лет работал в Москве и ни он, ни его родственники никаким преследованиям со стороны властей не подвергались. Звали этого солдата Василий Егорович Кудрявцев. Записано в 2007 году со слов его сына Евгения Васильевича Кудрявцева, 77 лет.
Сам по себе случай говорит о том, насколько глубоко предательство проникло в войска. Такие операции экспромтом не делаются – они тщательно готовятся задолго до осуществления. Значит, тот командир полка, о котором шла речь, давно был на связи у своих немецких коллег. В условиях войны идеи Троцкого и Тухачевского были не какой-то далёкой теорией, а в то время «здесь и сейчас» оказывали вред стране -открывали путь врагу. Никто не знает, сколько произошло таких заранее подготовленных предательств. Судя по чёткости и быстроте исполнения, это был не случай, а система, успешная работа которой в определённой мере объясняет, почему немцы уже через два месяца после начала войны,
28 августа 1941 года, были в Вязьме. А это всего 243 км от Москвы.
Борьба между четырьмя основными группировками, о которых шла речь выше, в 1937 году достигла своей кульминации.
Многие представители антисталинских группировок находились не только под влиянием Троцкого, но фактически находились с ним на связи и вели вполне реальную подрывную работу. С учётом того, что троцкизм являлся главным орудием влияния Запада в СССР, это обстоятельство ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов при рассмотрении внутриполитической обстановки в стране.