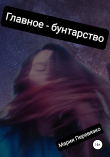Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Но вот в уютном мирке вокруг колодца постепенно снова воцарился нарушенный покой. Шелест Тополя сделался более звучным, церковная колокольня словно бы чуть отодвинулась, а дальний край Ценде приблизился.
«Кукурузой засеяно, – думал старый пастух. – А когда я подпаском был, мы пасли там отару. Конечно, кукуруза, она выгоднее… Но прежде мы там пасли… Старшим пастухом у нас был Кирай… Шестьдесят пять годов ему сравнялось, когда его похоронили. А мне теперь – семьдесят пять уже…»
Старик взял в руки посох и принялся ворошить им траву.
Доброе было пастбище, но кукурузу сеять выгоднее. Какой маленькой отсюда кажется колокольня. А село разрослось в три раза, краше стало и лучше, чем в прежние времена. Шутка сказать: три школы, три доктора на селе, и дифтеритом детишки болеть перестали…
Старик обводит взглядом дальний конец Ценде, где проходит русло ручья Кач.
«…А к ручью мы ходили на водопой: колода и в ту пору была не больше нынешней, овцы тут только передавили бы друг дружку».
Трубка погасла, но вовсе не обязательно, чтобы она все время дымила. Вкус табака сохраняется, если просто ее посасывать.
Тишина становится глубже, и Тополь шелестит все громче, желая узнать, что, собственно говоря, нужно здесь старому человеку. Но это и сам старик хотел бы знать. Воспоминания все так же беспорядочно перескакивают с лета на зиму, с одного года на другой, и понапрасну вертит он клубок давних переживаний – нигде не видать ни начала, ни конца нити связных воспоминаний, чтобы распутать их медленно и по порядку.
Теперь уже старик проявляет нетерпение, но нетерпеливо ведет себя и Тополь; вот он сбрасывает листок с одной из верхних ветвей. Тополиный лист кружится в воздухе, парит невесомо, колышется из стороны в сторону и наконец с легким шуршанием опускается в старикову сумку.
Старик вослед листку заглядывает в сумку и тут, словно вспомнив что-то, достает оттуда бутылочку, на которой написано: «борная кислота». Впрочем, надписи этой не слишком-то удается скрыть содержимое бутылочки, потому что едва только старик вытаскивает пробку, как вокруг распространяется крепкий запах домашней водки – палинки. Сделав два-три глотка, старый чабан затыкает бутылку и прячет ее в сумку, после чего опять разжигает свою трубку.
«Не угоди листок прямо в сумку, – думает он, – я бы напрочь забыл о палинки. А ведь добрый глоток только на пользу, и у трубки сейчас совсем другой вкус…»
Старик поворачивает голову и внимательно разглядывает гигантский Тополь.
Вон на том суку висел тогда удавленник. Когда, бишь, это случилось – в девятьсот пятом, что ли? Скорее всего, да. А похоронен он под Бузиною, потому как старый Кирай тогда распорядился: – Человек сам на себя руки наложил, вот и похороните его здесь, не на кладбище. А не то все село сбежится, да и без властей не обойдешься. Нагрянут поп да жандарм, да судья с нотариусом… И пускай отара после то место затопчет, а ваше дело – держать язык за зубами.
Теперь Бузина зашептала громче, ведь тот человек покоится меж ее корней, хотя его давно уже человеком и не назовешь: корни потрудились над человеческими останками, дав жизнь дереву, цветам, плодам, нежному аромату и шелесту густой кроны.
– Да, он здесь, он здесь, – шелестит Бузина, – а сейчас, когда ты о нем подумал, я снова вижу его перед собой в тот момент, когда он еще был человеком. Но теперь ему не о чем тосковать и убиваться… А иногда мне видятся и другие люди, о которых и вовсе никто не знает.
– Шш-ш-ш, – предостерегающе колыхнулся Тополь, – этому человеку нет дела до твоих тайн.
– Он все равно не поймет… – шепчет в ответ Бузина.
– Поймет не поймет, а только его не касается. И не забывай, что он – здешний, ему и без того многое может быть известно.
– Видишь?..
И оба дерева умолкли, ибо старик сейчас смотрел именно на то место, где когда-то был погребен неизвестный самоубийца. Не оказалось у него при себе ничегошеньки – ни сумы, ни денег. В кармане, правда, обнаружили кусок черствого хлеба, кинули его собакам, но те к хлебу даже не притронулись.
И больше о несчастном путнике не заходило речи. Но и то верно, что после никто не искал его.
«Откуда он тут взялся?» – раздумывает старый чабан, однако солнышко так уютно пригревает, что его клонит в сон. Наверное, надо бы уйти в тень, но он не уходит. Каждой косточкой своей он ощущает это пронизывающее тепло, а звучащее вокруг монотонное пчелиное жужжание кажется далеким-далеким, как рассветная песнь в давно минувшую пору.
Старик смотрит на укоротившиеся тени, и ему приходит мысль, что надо бы податься к дому. Но он мотает головой, как бы отгоняя эту мысль.
Если уж вышел за околицу, то нечего взад-вперед без толку бегать…
Тут старик вдруг задумывается: а зачем, собственно, он пришел сюда? И почему именно сегодня?
«Прямо места себе не находил, – думает он, – как дитё непоседливое. Наверное, видно было, что мне не сидится, не иначе, из-за того и оговорила меня внучка… Ну да ладно, не обязан я ни перед кем ответ держать… А время-то к полудню идет…»
Кругом глубокая тишина.
Позади колодца шагах в пятидесяти-шестидесяти появляется какая-то женщина, по-видимому, прикидывая про себя: кем бы мог быть этот седовласый старик, одеждой своей напоминающий чабана? И старик спиной ощущает на себе чей-то взгляд. Вот он слышит и шаги, но не оборачивается: все равно, мол, придет.
Женщина подходит к колодцу и останавливается.
– Добрый день, дядя Матэ!
– Это ты, Юлишка? Хорошо, что пришла. А то я как раз поджидал тут свою разлюбезную…
Женщина подсаживается к старику и ласково кладет ему на плечо руку.
– Вдовые мы оба, дядя Матэ… Что, вышли малость проветриться?
– Оно самое. Давненько я тут не бывал, и вдруг так сюда потянуло, что силком не удержишь. А ты, дочка, куда путь держишь?
– Сегодня хочу к тетке Бёже наведаться, дело у меня к ней. А завтра на кладбище надобно. Михайлов день, у отца покойника именины…
Оба молча, в тишине, смотрят себе под ноги. Глаза старика устремлены в такую беспредельную даль, какой и не сыщешь на этой грешной земле; глаза женщины заволокло туманом, и она ничего не видит перед собой. По обширному, покрытому жухлой травой пастбищу пробегает ветер, врывается в кроны двух старых деревьев и гулко перебирает гибкие ветви – точно на арфе играет.
Михайлов день!.. Осенний праздник, день, когда с пастухами заключали договор на год вперед… Как же он мог об этом забыть? Давние мытарства, огорчения… магарыч, новая отара, новые поля, новые заботы… Все давно прошло и теперь не причиняет боли… Неужто и впрямь время погребает под собою все радости и горести человека?
– Михайлов день, точно, – кивает старик, – стало быть, я его почувствовал, но никак не мог понять, что это со мной творится…
Ветер теперь уже разыгрался не на шутку. Сгреб в охапку сухие листья из-под деревьев и кружа подбросил их кверху, а старый Тополь шумно прокричал что-то, заглушая голос старика.
– Если не очень торопишься, и я бы пошел с тобой, но прежде надо бы кое о чем потолковать…
– Мне не к спеху, дядя Матэ… Переночую у тетки Бёже, поутру цветочков насобираю, а там и на кладбище. Хочу перед отцом повиниться, что с каменным крестом придется повременить. Нам хочется поставить какой покраше, вот и Бёже от себя деньжонок прибавит…
Старик тихонько постукивает посохом по земле.
– Подле отца твоего есть место, верно ведь?
– Есть… – женщина с боязливым любопытством смотрит на старика.
– Я, вишь, что надумал: присматривайте камень подходящий и рядитесь, а половинную долю я выплачу. Вместе мы с твоим отцом пастушествовали, вместе нам и лежать. Камень поставьте промеж двух могил, а после… ну, когда понадобится… можно будет и мое имя там вписать. «Здесь покоятся Михай Кажоки да Матэ Узди, славные пастухи были, покуда жили…» – старик улыбается: – Ловко я удумал, а?
Женщина утирает глаза, а старик поднимается со скамеечки.
– Не плачь, Юли! Все у нас сладится, только камень выбирайте какой попрочнее, чтобы от первого же мороза в прах не рассыпался! А там и правнуки наши, коли захотят, к тому камню ходить станут!..
Ветер, по мере того как два человека медленно удалялись от колодца, стихал, и когда пастбище опять осталось безлюдным, он едва колыхал листья деревьев, предоставляя им перешептываться самим по себе.
Время перевалило за полдень, и все вокруг неуловимо изменилось. Тени переместились к востоку, пчелы чуть удалились от воды, но не улетали прочь, словно раздумывая. Может, в водном зеркале поилки им почудилось отражение холодных, плывущих высоко в небе барашков-облаков? Этого нам не узнать, но факт, что пчелы явно колебались. А может, они увидели отражение луны, которая в надвигающихся сумерках начала обретать очертания? Или им послышалась в вышине веселая перекличка птиц-осоедов, золотистых щурок, готовящихся к перелету? Или же слабеющие запахи и тускнеющие краски своим выразительным языком говорили что-то крохотным властелинам и неутомимым работникам, до конца дней верно преданным родному улью?
Нам не узнать, правильны ли наши предположения, но пчелы, лишенные своей привычной живости, вели себя неуверенно и, даже не собрав полный взяток, поворачивали к дому.
Барашки на небе все множились, густели, а затем пышным венцом окружили луну: с тех пор как светило округлилось, войдя в свою полную фазу, они относились к нему с явным почтением.
Кукурузные стебли на дальнем конце пастбища приобрели бурую окраску, голубоватый печной дымок подобно туману растекся вокруг церковной колокольни, из долины вдруг отчетливо донеслись гулкое шлепанье мельничных колес и плеск воды, над всем Ценде пахнуло прохладой, как бы напоминая:
– Михайлов день… лету конец…
– Знаем… зна-аем, – протяжно вздохнул Тополь.
– И готовимся… готовимся… – шепотом добавила Бузина, и оба великана встряхнулись, чтобы сбросить с себя лишние листья заранее, а не в какой-нибудь другой неподходящий момент.
Ветер незаметно переменился и теперь дул с севера, и все огромное пастбище сделалось прохладно-одиноким, затаилось в ожидании.
Исчезли суслики, шмели, крупные блестящие мухи, даже скворцы, которые до сих пор охотились на букашек в низине луга, и те куда-то скрылись, и лишь один-два хохлатых жаворонка сновали взад-вперед с жалобными криками, словно почуяв, что пришла пора оплакивать лето. Северный ветер присыпал поля серым пеплом сумерек. И вдруг все мелкие пташки смолкли: быстрая тень скользнула над пастбищем, и, опустившись на развилку колодезного столба, балобан сложил крылья.
– Пожалуй, я тут переночую. Или, может, лучше на тебе? – он бросил взгляд на Тополь.
Тополь не ответил, и немного погодя отозвалась Бузина.
– По нашему обычаю, принято просить разрешения переночевать.
– С тобой не разговаривают, – сверкнули глаза сокола. – Никто из нашей породы не садится на Бузину…
– А на Бузине тебе было бы отдыхать покойнее, – укоризненно заметил Тополь. – Ведь на колодезный столб нет-нет да и взбирается куница. Однажды она задушила сарыча – как раз на том месте, где ты сидишь… Как только она выйдет на ночную охоту, я намекну ей, что тут опять появился бравый воитель, который жаждет вида крови… но, разумеется, не своей, а чужой!
– Можно мне переночевать на тебе? – взгляд балобана смягчился.
– Ну еще чего! – Тополь чуть не шипел от возмущения. – Похоже, меня облюбовали все хищники благородных кровей: ведь и куница в моих ветвях поселилась…
Вконец обозленный сокол оттолкнулся от неустойчивой развилки и, держась низко над землей, пропал в сгущающихся сумерках. Но от толчка шевельнулась длинная шея колодезного журавля, ведро высвободилось и, отделившись от сруба, радостно взлетело кверху, потому что человек, который последним пил из него, забыл оставить в ведре достаточное количество воды.
– Так-та-та-так, – позвякивая раскачивалось ведро, – до чего же славно здесь, в вышине! Уж больно надоело мне любоваться отражением собственного дна.
– Нечего громыхать попусту, – шепотом одернул его Тополь. – Сегодня ночью должно быть тихо.
– Само по себе я никогда не громыхаю, – скрипнуло жестяной ручкой ведро, – но что поделаешь, если ветру хочется меня раскачивать? Думаешь, мне легко? Шест меня ругает, журавль меня бранит, столб скрипит сердито… Зато ветер никто не ругает…
– Ветер и нельзя ругать, не то он взыграет не на шутку, и дело кончится тем, что ты переломишь шест, – вмешался колодезный столб, – а журавль и меня расшатать может.
– Вот оно как! – огорченно скрипнуло ведро. – Выходит, ему дозволено вытворять что угодно, а мы и не пикни!
– Ведро правду говорит, – прошептал набежавший ветер, – но ведь не могу же я сворачивать в сторону из-за первого попавшегося ведра! Впрочем, не беспокойтесь, сегодня ночью все будет тихо-спокойно. Оставлю вам здесь парочку юных шалунов, чтобы деревья совсем не смолкли.
– Спасибо тебе, – шепнул в ответ старый Тополь, – ты же знаешь, что сегодня – старинный праздник…
– Не учи меня, дружище Тополь… – ветер скользнул дальше, оставив позади себя глубокую тишину, потому что даже юные ветерки и те улеглись-попрятались в ветвях.
Ведро перестало раскачиваться, журавль указывал на луну, все четче вырисовывающуюся на небосклоне, и ждал яркого света, чтобы тенью своей начать отсчитывать время в долгой протяженности вечера и ночи.
Однако пока что ночь была далеко впереди, и даже вечерняя пора еще не наступила. Над всей округой властвовали мечтательные сумерки, рыхлая серая дымка, исполненная ожидания и колышащихся теней, которые знали, что никто их в расчет не принимает, никто с ними не считается – ведь они не относятся ни к свету, ни к темноте, и надвигающаяся ночь рано или поздно поглотит их.
Одинокий, безлюдный край на несколько мгновений застыл в отчужденно-холодном, безгранично немом молчании. Ему не было дела ни до кого и ни до чего, кроме самого себя, и глубокая, ничем не наполненная тишина тоже выжидала чего-то, поскольку с момента своего зарождения тяготилась собственной немотой.
Тут со стороны села прилетел сычик, однако частые взмахи его коротких крыльев не были видны и слышны. Он плавно, едва коснувшись опоры, уселся на верхушке колодезного столба, торчавшего посреди пастбища подобно накренившейся мачте. Сычик негромко крикнул, и от его крика содрогнулась потревоженная тишина, но тотчас и улеглась спокойно, потому что маленький филин всего лишь хотел предупредить:
– Готовьтесь, наш час настает.
Ярко засветилась луна, и журавль колыхнулся подобно часовой стрелке, а юные ветры принялись гладить листву старого Тополя.
– Назад! Вернемся назад во времени… Тополь, ты здесь самый старый из всех, сегодня ночью ты можешь оживить события минувших времен: ведь время никогда не умирает и не проходит бесследно. А раз оно вечно существует, то можно и совершить в нем путешествие назад, если, конечно, ты хочешь…
– Да, мы хотим! – шумно встряхнулась Бузина. – Прошу прощения, что ответила вместо моего старшего друга, но мы с ним заранее все обсудили.
Тополь в знак подтверждения тряхнул кроной, а из облупившейся стенки колодца выпал кирпич и бухнулся в воду.
– Хотим, хотим! – с шумом булькнула вода, и луна в водном зеркальце на дне провала закачалась с такой силой, что чуть было не упала с отраженного в воде неба. Поскольку никаких бед посерьезнее этой не стряслось, сычик снялся со своего места: вестник получил ответ и теперь может отбыть с миром.
Но сычику и следовало удалиться, потому что настал заветный час смещения времени. Всколыхнулся небосвод, по-иному расположились звезды, и недобрый красноватый отблеск луны задрожал над изменившимся до неузнаваемости краем.
– Все так и было, – вздохнул Тополь. – Вот и привелось снова увидеть!..
Но теперь и Тополь стал вдруг молодым побегом от гибнущего гигантского тополя, юным деревцем высотой лишь в человеческий рост. Он, правда, успел пустить собственные корни, но питательные соки получал все еще от матери, воспоминания его были воспоминаниями старою дерева, и Тополь начисто позабыл их, став самостоятельным.
– Да, да, все так и было!
Шагах в двадцати от проселка стоял в одиночестве старый, сломанный тополь; у костерка, разведенного в его гигантском дуплистом стволе, вполне могло разместиться несколько человек, и, судя по остаткам пепла и обугленным головешкам, люди действительно пользовались этим прибежищем.
У мощного прежде материнского дерева оставалась более или менее живой всего лишь одна ветвь, а все прочие засохли, превратились в искореженные сучья, дававшие ночной приют грифам-стервятникам.
Корни старого гиганта все рождали и рождали новые побеги, но почему-то ни один из них не прижился кроме нашего знакомца, и тогда старое дерево перестало заботиться об остальных. Все свои силы, страхи, свое тайное предназначение и все воспоминания о прошлом оно вложило в юную поросль, и вот наступила весна, когда на старом дереве не образовалось ни единой почки. И тут молодой Тополь почувствовал: ничто не прошло впустую, ибо таинственный мир отмершего предшественника продолжает жить в нем самом, и эту жизнь следует поддерживать и оберегать – ведь она хранит в себе не только опыт предшествующих поколений, но и наследие для будущих.
Конечно, эти потаенные чувства были не столь четко оформившимися и остались невысказанными, но они жили в Тополе, и его борьба за существование, его мощь, бурный рост, пышное цветение и обильный листопад – все порождалось этими чувствами.
Однако пока что наш Тополь – всего лишь юный тополек в человеческий рост высотой и со стеблем не толще детской ручонки; он послушно клонится под южным ветром, дующим упорно и молча, словно ни о чем не желая знать и ничего не желая сказать. Но и скрывать он ничего не собирается, и те, кому знакомо это низкое и невыразительное для человеческого слуха гудение ветра, – те знают, что где-то случилась беда; а втянув ноздрями этот чуть влажноватый ветер, почувствуешь развеянный в воздухе запах человеческой крови, который невозможно спутать ни с каким другим.
Тополек испуганно вздрагивает, потому что ему шум ветра говорит больше, чем слуху человека: этот ветер, дующий с юга, несет в себе приметы тяжкой гибели – запах гари с остывающих пожарищ, смолкшие предсмертные крики и многое другое, скрытое в глуби времен. Тополек дрожит, зная, что война иной раз косит без разбора. Дрожит и ждет, низко клонится под порывами ветра и даже шептать не решается, потому что в такие моменты лучше молчать и затаиться, словно тебя и вообще нет на свете.
Красноватый полумесяц осенил себя грозным нимбом и лишь отсвечивает, но не светит, да и этот слабый, дрожащий его отсвет поглощают быстро несущиеся рваные облака. При таком слабом свете даже филин не столько углядит, сколько услышит.
Но сейчас в округе и филина не сыщешь, лишь грифы-стервятники сидят на сухих ветвях мертвого великана, обратив головы к ветру, а их холодные глаза не мигая всматриваются в темноту, потому что земля слабо подрагивает, сотрясаемая отдаленным топотом копыт.
Стервятники, вытянув шеи, разглядывают всадников, прискакавших к большому дереву, но не улетают прочь и не боятся, словно знают, что их никто не тронет. Для еды они не годятся, а могильщиков, которые к тому же заменяют собою и могилы, трогать не принято.
Темнота выжидательно замирает под деревом; вот тихонько звякают удила, и кто-то вздыхает:
– О, аллах!
Один из всадников соскакивает на землю и подхватывает стенающего старика, чтобы тот не упал с коня; тут спешивается и другой всадник ему на подмогу.
– Ведь говорил я вам, чтобы хлебнули глоток вина. Тогда и до села продержались бы…
В этот момент луна высвобождается из облаков, и теперь человеческие фигуры отбрасывают тени; один из прибывших несет попону к дуплу огромного дерева, а двое других поддерживают легкое старческое тело.
– Снимите седло, оно теперь уже без надобности… подложим ему под голову.
Луна не скупясь струит свой свет на землю, тополек зябко вздрагивает, и старик дрожит тоже.
– Разожгите костер, – шепчет он. – Меня знобит.
– Костер?
Четверо мужчин переглядываются: в ночи огонь костра далеко виден… На голове у одного из прибывших чалма, однако распоряжается не он, а мужчина постарше, напоминающий крестьянина.
– Мишке лучше бы податься к дому да лошадей с поклажей убрать с глаз долой… А то неровен час накличешь нечистого, да еще ежели огонь разложим…
– Могу и податься, – откликается паренек.
– Обойди низиной вдоль ручья, а потом держись Огородины. Земля там мягкая и трава густая, конского топота будет не слыхать…
– Знамо дело…
– До села доберешься – дай знать, пусть будут настороже… Свояку Бенце скажи, чтоб собак спустил. А женщинам в Красе-камыше надобно укрыться…
Паренек молча кивает. Он связывает вместе поводья двух вьючных лошадей, вскакивает и сам на коня, и вот уже маленький обоз растворяется в туманной ночной мгле.
– Мне холодно, – шепчет старик.
– Потерпите, отец, сейчас, – успокаивает его молодой человек в чалме и поднимает вопрошающий взгляд на пожилого крестьянина. – Скорее всего это был отряд из Домбовара. Наверное, теперь они ушли…
– Они самые, из Домбовара, да с татарами вперемешку. Народ от них по лесам попрятался… И пожарище какое-то я видел.
Оба уставились взглядом в землю. Тем временем их спутник уже успел разложить в дупле сухие ветки и сейчас возится, пытаясь высечь огонь. Он раздувает искру, и под хворостом вспыхивает маленький язычок пламени. Тогда он встает и обращается к говорящему.
– А мне так слышалось, вроде девушка какая-то кричала…
Некоторое время все молчат. Огонь начал потрескивать, и вспышки разгоревшегося пламени, взметаясь, выхватывают из темноты пастбища широкую полосу. Пожилой крестьянин прослеживает взглядом отсветы этих вспышек, покачивает головой и поднимает глаза к колодезному журавлю, который теперь, при свете костра, стал различим.
Молодой турок присаживается на корточки подле отца и берет в ладони его руку.
– Сейчас будет тепло, отец…
Оба мадьяра настороженно прислушиваются.
– Достань-ка, Янчи, стрелы да колчан. И коней наших отведи в кусты, – отдает распоряжение тот, что постарше. – Тут им не место.
Затем пожилой крестьянин подходит к дуплу.
– Ты, молодой господин, в огонь больше не подкладывай, и без того тепла хватит… А мы укроемся в кустах у колодца. Коней отведем подальше, к ручью, а сами в случае чего будем тут, в кустах, поблизости…
– Хорошо, дядюшка Андраш.
Ветер теперь почти совсем стих. Не видимый глазу туман росой выпал по всему обширному пастбищу, осел на листьях тополька, который едва осмелился шепнуть:
– Ш-ш… все оно так и было…
Костер уже не полыхал, как прежде, но и не дымил. По стенкам дупла забегали отогревшиеся букашки, а старый турок вроде бы уснул. Юношу тоже сморила дремота, а может быть, это только так казалось, потому что он вдруг вскинул голову, прислушался и лицо его застыло от напряжения. Но затем он расслабился и притворился спящим; теперь уже отчетливо донесся глухой топот неподкованных коней.
Молодой турок сидел не двигаясь. Он держал отца за руку и даже не повернулся к отверстию дупла, когда лошади остановились возле самого дерева, а в дупло, опережая людей, просунулась обнаженная сабля.
Затем сабля опустилась, и внутрь протиснулся здоровенный турок, взгляд которого вмиг оценил ситуацию и остановился на зеленой чалме старика.
– Да это же имам из Гёлле!
– Он самый, – кивнул юноша. – Не шумите!
И тут в мягком отблеске угасающего костра вдруг появилась какая-то желтокожая монгольская физиономия, и жесткий голос спросил что-то по-татарски.
– Татарин спрашивает, – пояснил турок, – не попадались ли вам пять коней и две лошади с поклажей.
– Здесь никто не проезжал. Мы втроем возвращались из Сегеда от Хасан-бека, он мне дядей доводится.
– Втроем?
– Да. Третьего я послал в село за носилками, потому что отец не держится в седле.
Татарин опять задал какой-то вопрос.
– Он спрашивает, – снова перевел турок, который между тем успел сунуть саблю в ножны, – есть ли какой вооруженный отряд в селе?
Юноша с едва скрываемой ненавистью взглянул на татарина.
– Откуда мне знать, когда мы десять дней были в Сегеде! А ты не слышал ли чего о сражении?
– Оно проиграно.
При этих словах старик открыл глаза.
– О, аллах! – прошептал он. – А султан?.
– Он бежал. Мы тоже там были. Я с татарами из Домбовара…
– А теперь вы решили погубить державу султана, – прошептал старик. – Берегитесь! Я видел ангела смерти…
Турок пожал плечами и вслед за татарином вышел из дупла.
Тем временем под деревом разгорелся костер. К стремени одного из коней был привязан мрачный парень мадьяр, а в седле другого съежилась насмерть перепуганная девушка. У костра притулился татарин, лицо у него было сплошь залито кровью, а выбитый глаз висел, точно на ниточке.
Другой татарин подкладывал сучья в костер и между делом ощипывал гуся.
Турок вместе с третьим татарином подсел к костру.
– Воды! – стонал раненый. – Принесите воды!
Турок поднялся с места, развязал пленнику руки и сунул ему жбан.
– Помни, что мы на конях, и тебе не сбежать от нас, собака, – сказал он на чистейшем венгерском.
Пленник молча кивнул и прихрамывая направился к колодцу.
Когда он проходил мимо тополька, тот заговорщицки шепнул что-то, и парень взглянул на деревцо, хотя и не понял его слов.
Затем послышался плеск воды – деревянная бадья опустилась в колодец – и скрип журавля.
– Воды! – стонал раненый, видимо впавший в беспамятство.
– Сейчас будет тебе вода, – успокоили его. – Эй, ты, пошевеливайся там поживей!
Парень мучился, пытаясь вытащить бадью, но не мог справиться.
– Мне не под силу! – глухо отозвался он. – Рука не владеет…
Сидевший рядом с турком татарин, который явно был у них за старшего, взглянул на воина, занятого ощипыванием гуся.
– Ступай, – он сделал знак в сторону колодца. – Да всыпь как следует этому ленивому псу.
– Я думаю, что нам не стоит дальше идти, – сказал турок. – Имам нас видел…
– Его можно заставить замолчать навсегда.
– Имам – святой человек. Если о том прознают, торчать нашим головам на колу. Остальные к утру будут в Домбоваре… ведь они знают, куда мы подались…
Желтокожее, неподвижное, как у идола, лицо татарина не выдавало никаких чувств; возможно, он собирался что-то ответить, но тут у колодца послышалась какая-то возня, раздался сдавленный стон, и все стихло.
Оба воина вскочили с молниеносной быстротой; холодно звякнули сабли, выдернутые из ножен, и турок с татарином, подслеповато щурясь после яркого света костра, бросились в темноту, к колодцу.
Первым хрипло вскрикнул здоровенный турок и схватился за грудь, пронзенную длинной стрелой, затем пошатнулся татарин… А юноша вышел из дупла старого дерева. Глаза его смотрели мрачно, а в руках была обнаженная сабля.
Раненый татарин даже не поднял взгляда, когда над ним сверкнула сабля; он лишь коротко вздохнул, упал навзничь и затих. Юноша вырвал пук травы и вытер саблю.
Из укрытия показались люди.
Молодой турок смотрел на них, словно минутой назад и не произошло этой кровавой схватки.
Впереди цепочки людей шел пожилой мадьяр.
– Мы свое дело сделали!
Однако в глазах юноши и словно бы в самой окружающей атмосфере чувствовалось нечто странное, заставившее их удержаться от громких слов.
– Спасибо, дядюшка Андраш, – произносит юноша, не поднимая взгляда.
– Никак, беда стряслась?
– Отец умер.
Иные слова тут и неуместны. Человек умер. Теперь дело за стервятниками.
Маленькая группа людей направляется к дуплу отмершего старого тополя, где у потухшего костра последний имам из Гёлле неподвижным взором уставился на тающий полумесяц.
И вслед им шепчет тополек:
– Михайлов день… давнее лето, давно минувшее лето…
Впрочем, эти слова произносит вовсе и не тополек, а ветер; он дует с юга и несет туман – всеобволакивающий и уносящий в прошлое… В дупле сейчас нет ни души, да и на старом дереве не осталось ни одной живой ветви, и ветер шумит в полный голос, ведь теперь ему есть где разгуляться. На месте юного тополька красуется мощное молодое дерево, и ветер, играя в его развесистой кроне, вспоминает события былого.
– Да, все оно так было, подружка моя Бузина, – шумит листвою Тополь, – хотя ты в ту пору едва от земли виднелась.
– Но и я кое-что помню…
И тут порывистый ветер прошелся по земле, взметая из-под большого куста Бузины охапки опавших листьев; в воздухе поплыл горьковатый запах прелой листвы. Туман рассеялся, небо развиднелось, и теперь стало заметно, что в дупле старого дерева сидят двое, не сводя глаз с пылающих головешек.
Парень лениво позевывает, девушка сидит неподвижно, сложив руки на коленях.
– Глядишь, как-никак обойдется, – парень снова зевает.
Девушка не отвечает ни словом, ни жестом, лишь сложенные руки ее судорожно напрягаются.
– Какая-то повозка едет сюда… – парень встает. Он ладен и хорош собою. Одет в широкие сборчатые штаны, плотную, домотканую рубаху и сапоги; волосы его заплетены в косицу.
Девушка поднимает на него взгляд, лицо ее – немая, молящая маска, глаза подернуты влагой.
– Скажи мне только, это правда… правду говорят, будто у тебя с дочкой старшего пастуха?..
Парень огорчен и растерян, но затем лицо его приобретает жестковатое выражение.
– Правда-то оно правда… Но ты не горюй, как-нибудь уладится… – он опять прислушивается. – Ладно, я пошел, а то как бы меня тут не застали…
Он берет свою палку и выходит в темноту; слышно, как под ногами у него хрустнула ветка.
Девушка вся сникает, она сидит, укрыв лицо ладонями, и, видимо, не слышит, как скрипит приближающаяся повозка – небольшая двуколка.
– Напои коня, Амбруш… Ба, да никак тут кто-то есть! – И слышно, как человек соскакивает с двуколки.
– А ну, поглядим.
Тележка, поскрипывая, удаляется к колодцу, а шаги замирают у дупла старого тополя.
– Вон тут кто, оказывается!
Девушка медленно поднимает голову, успев при этом смахнуть ладонями слезы.
– Слава Христу… – шепотом приветствует она пришельца.
– Выходит, ты одна?..
Девушка кивает, а монах откидывает назад капюшон. Теперь видно, что монах – старый человек. Коричневая сутана его понизу запылилась, на ногах – лапти. Он испытующе разглядывает девушку.
– Неможется тебе?
Девушка чуть поводит плечами, но не смотрит на монаха. Губы ее шевелятся, но слов не разобрать. Монах подходит ближе.
– Теперь узнаю тебя, Вера. Я прослышал о тебе… на ярмарке.
При этих словах девушка вскидывает на него взгляд.
– И что же ты прослышал, святой отец?
– Будто ты уже в невестах ходила, а потом дело затянулось, точно узел на ремешке… И еще будто Ферко Тёрёк берет себе в жены дочку старшего пастуха. Верно это?
Девушка кивнула.
Монах долгое время молчит, а потом берет девушку за подбородок.
– Становись на колени, дочь моя.
Догоревшие угли подернуты серым пеплом. Тополь затих, и по водному зеркалу на дне колодца плывет луна.