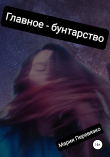Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
– Вот поэтому-то я и бьюсь с этим ключом, знаю, что частенько приходится им пользоваться… Но ведь какой мужчина обойдется без выпивки, без компании приятелей…
«Эге, почтеннейшая, – подумала тетушка Кати, – старого воробья на мякине не проведешь…»
– Вот уж этого про хозяина никак не скажешь, – покачала головой тетушка Кати.
– Я к слову упомянула…
– Я так и поняла. Одним словом: не часто этим ключом пользуются. Иной раз месяц пройдет, пока они опять в подвал выберутся. Уж кому и знать, как не мне: в таких случаях я задаю корм поросенку.
Следует признаться, что тут тетушка Кати покривила душой, но она любила Йоши Куруглу и ей было не по нутру, что Маришка прочно «засела» здесь, отставив старуху от выполнения тех скромных обязанностей, которые приносили ей кое-какой доход.
Кроме того, тетушка Кати была не юной пташкой, а мудрой и хитрой старухой, стоило ей взглянуть на небо, и она могла с точностью предсказать, какая будет погода… Так что она уже прикинула про себя возможные последствия Маришкиного появления, ее тяжкую хворь, которая «исчезла, как майский снег»… Тетушка Кати ситуацию сразу раскусила, лишь одно пока ей было не ясно: что же ей теперь делать, как быть?..
– То-то обрадуется ключу хозяин, – осторожно сказала она.
– Вот и я так подумала, – Маришка вертела в руках массивный ключ. – Положу в сумку, как Йоши станет на виноградник собираться, а он потом увидит – обомрет…
Тетушка Кати кивала, улыбалась с таким видом, точно ей самой сроду до такого не додуматься бы… А Маришка теперь уже тряпкой наводила блеск, при этом не сводя глаз с ключа, словно надеясь высечь из него какую-то идею.
– Найдется у вас свободное время, тетушка Кати?
– А то как же!
– Знаете, что я надумала? Надо бы нам прибрать в давильне, вот будет радости Йошке! То-то они удивятся, когда придут туда… Там, небось, грязи, хламу всякого – за один раз не выгрести…
Старое сердце тетушки Кати дрогнуло и забилось живее, и причиной тому была не только возможность подработать – хоть деньгами, а хоть бы и натурой, – но и наконец-то определившаяся ее собственная роль в событиях: молчать да помалкивать – больше ничего от нее не требуется!
– Отчего же не прибраться? – ответила тетушка Кати, опустив промежуточные мысли. – Только нам вдвоем навряд ли управиться.
– Может, вы еще кого позовете?
– Вот разве Бёшке сказать… Баба она молодая, вдовая, да и работящая. Она нам кстати придется, если тяжесть какую поднять надо будет.
– Вы уж тогда ей скажите, тетушка Кати.
Утро выдалось погожее, ясное, осенний воздух был дивно прозрачен и открывал взору дальние дали; в такие моменты кажется, что крикни – и тебя услышат в соседней деревне. Да только к чему кричать, если сказать нечего и жаль нарушать тишину в этом опустелом краю, где слышится шелест листьев, опадающих с виноградных лоз.
Лишь сорока трещит на ореховом дереве у давильни дядюшки Куруглы, извещая округу о приближении трех женщин, но этот сухой треск является неотделимой частью утра, обсыхающего на солнышке после ночной, влажной прохлады, так что никто на него и внимания не обращает.
Даже женщины, и те не разговаривают между собой, – а уж это ли не редкость! Тетушка Кати едва поспевает за Маришкой, которой не терпится приняться за дело. Бёшке – новичок в компании, ей не пристало первой заводить разговор. А Маришка углубилась в собственные мысли…
Маленькая давильня с подозрением взирает на непрошеных гостей. Сорока перепорхнула на соседний орех и смолкла. Она внимательно наблюдает, однако не улетает прочь, зная, что человека – если тот в юбке – не следует бояться.
Сороку не смущают и громкие звуки: на каменный стол с резким стуком опускается жестяное ведро и другая хозяйственная утварь, и сердито скрипит ключ: отчищенный наждаком, он чувствует себя словно обиженным, и в чужих, неопытных руках ему только с третьего раза удается ухватить язычок замка.
Маришка настежь распахнула обе дверные створки, и восходящее солнце с непристойным бесстыдством воззрилось на разверзшееся перед ним во всей наготе нутро дома.
Маришка стояла у порога, а шаловливые солнечные лучи продолжали безжалостно раздевать облупившиеся стены, закопченный котел, старые бочки, большую сливную воронку, бадейку, обшарпанные метлы, грабли, топорик – неброские инструменты неброской старости, которым делалось не по себе от столь бесцеремонного любопытства, и они выказывали себя старее, чем были на самом деле.
Маришка с отвращением огляделась по сторонам и, брезгливо зажав нос, повернула прочь от подвала.
– Давайте пока выложим все, что принесли, а подвал тем временем проветрится… От этой вонищи задохнуться можно…
– Подвальный дух, какому же еще здесь быть, – весело пояснила тетушка Кати. – Мужчинам по душе…
Маришка ничего не ответила на это, лишь с раздраженной неуступчивостью принялась выкладывать из ведра принесенные с собой мыльный камень, стиральный порошок, мыло, щетки… А ведь тетушка Кати была права, хотя свою реплику она бросила только потому, что подсознательно чувствовала: надо сильнее настропалить Маришку против ни в чем не повинного подвала, который не хотел, да и не мог быть иным.
Права была старуха и в том, что мужчинам запах винного погреба по душе…
По душе, да еще как! Хотя что тут можно любить – объяснить очень трудно, да не каждому и объяснишь…
Известно, что: выпивку! – сказала бы Маришка с непререкаемой убежденностью и оказалась бы неправа. Ведь сколько всего таит в себе такой невзрачный, заброшенный подвал: тут и полное раздолье подземному сумраку и теням, и свободное течение времени, слившегося воедино с ароматами, и чуть терпкий запах благородной сырости, и особый приподнятый смысл спокойных, негромких речей, и торжественная значимость жестов, и восхваление простой, будничной пищи, и неторопливый ход мыслей, в которых нет места гневу, горестям и печали… И наконец – в самую последнюю очередь! – ласкает слух и журчание вина, льющегося в стаканы. Ведь вслед за этими звуками вспыхивает огненный глазок единственной свечи в подвале, и свет ее, колышась из стороны в сторону, приветствует человеческие тени, возникшие благодаря ему, а где эти тени были без него и существовали ли вообще неизвестно…
Ну как передать всю эту полноту ощущений, как объяснить ее непосвященному! Возможно нечто похожее чувствует и Цин-Ни, который считает подвал своим домом и в какой-то мере своей собственностью и не нарадуется восхитительным мышиным хоромам, надежно сокрытым от всего дурного, от крысы, ласки, сарыча, пустельги, змеи… И даже самый опасный враг – человек – и тот стал другом, что равнозначно чуду и тоже необъяснимо.
Цин-Ни не подозревает, что необъяснимо и его пристрастие к вину, каковое не водится ни за одной другой мышью. Но мы-то знаем, что его вынудила к тому потребность в чистоте. Ведь для всего мышиного племени это наипервейшая потребность в жизни, и Цин-Ни слизал бы со шкурки вино, даже будь оно ядом. Впрочем, мышей именно так и травят; засовывают в отверстие мышиной норки соломину, вымазанную фосфорным раствором. Соломина не внушает подозрений, вот мышь и вылезает из своего убежища, не обращая внимания на то, что прикасается к соломине. Но на шкурке остается яд, а мышь такого потерпеть не может; она начинает вылизываться и околевает.
Цин-Ни, как мы знаем, от вина не околел, а в последнее время он все сильнее жаждал общества людей, поскольку дарованные ими съестные припасы истощились, и вина, налитого в баночку из-под гуталина, осталось чуть на донышке.
Не стоит расстраиваться: мышонок прислушивается к тому, как скрежещет ключ, хотя его неуверенные попытки попасть в замочную скважину странны и необычны. Для слуха Цин-Ни стал привычным смелый поворот ключа в замке и негромкие, но зычные мужские голоса, и сейчас писклявые женские речи и яркий свет, бесцеремонно вторгшийся через распахнутые настежь двери, вселили в него тревогу.
Голоса, пока что звучавшие в отдалении, стали приближаться.
Гулко отозвались шаги по ступенькам в подвал и замерли.
– Бёшке, принесите-ка свечи, а то тут темно, хоть глаз выколи. Не дай бог на какую нечисть наткнуться, наверное, здесь и крысы водятся.
– Крысам тут не прокормиться, – сказала тетушка Кати, – вот разве что мышонок какой попадется…
Маришка побледнела и невольно подобрала юбку.
– О господи, да я со страху рехнусь, если он на меня вскочит!..
Тем временем в подвал спустилась Бёшке, неся свечи. Женщины зажгли три свечи сразу, чтобы осветить все помещение, и почувствовали себя увереннее. Сияние дня пробивалось даже сюда, в подвал, но его приглушенный отсвет, сражаясь с воинственными огненными копьями свечей, придавал всему окружению какой-то кладбищенский вид, что, впрочем, не отпугивало женщин.
– Откуда начнем? – спросила тетушка Кати, зажав под мышкой метлу. – Я думаю, вот с этого угла…
Спокойствие старухи подбодрило и Маришку.
– Интересно, а что в этом ящике? – спросила она и, поскольку ей никто не ответил, подняла крышку.
Следует признать, что Цин-Ни на это никак не рассчитывал. Представьте себе положение человека, который предусмотрительно спрятался от грабителей на чердаке и вдруг с ужасом видит, как у него над головой поднимается крыша!
А Цин-Ни крышку ящика, которую подняла Маришка, считал абсолютно надежным прикрытием. Вне себя от ужаса он кинулся наутек и угодил Маришке на руку; женщина с перепугу завизжала так, что под сводами заколыхалась паутина, отшвырнула прочь ящик, где находилось обиталище Цин-Ни, и вместе с Бёшке, напуганной ее отчаянным воплем, бросилась вверх по лестнице.
Одна тетушка Кати не растерялась, – должно быть, потому, что учитывала такую возможность, – а схватила метлу, и когда Цин-Ни очередным головокружительным прыжком попытался спастись с Маришкиной руки, старуха на лету с такой силой ударила нашего приятеля, что тот свалился в закуток между бочками, по всей видимости, бездыханный.
– Можно спускаться, я его прихлопнула… Бёшке, вынеси отсюда ящик да вытряхни все из него, вдруг там еще мыши остались. – Голос тетушки Кати звучал повелительно, и Бёшке, безропотно подхватив ящик, вывалила все его содержимое в топку котла и тотчас разожгла огонь.
За всеми ее действиями Маришка наблюдала из комнатки, кажущийся беспорядок которой вновь побудил ее приняться за уборку. Хотя на самом деле это был вовсе не беспорядок, а просто последовательное размещение предметов, которые с той или иной сиюминутной целью попали на то или иное место, да так и сохранили его за собой.
Конечно, верно, что стол был покрыт легким слоем пыли и из глиняной вазочки, стоявшей не совсем посреди стола, до сих пор торчал букетик засохших, съежившихся цветов. Но пыль садилась снова и снова, хотя Йоши Куругла иногда и смахивал ее, а засохший букетик находился на своем месте потому, что эти цветы когда-то собрала покойная жена Йоши и поставила их сюда. Дядюшка Йоши к ним не прикасался и не трогал с места: у него было такое ощущение, будто хрупкий этот букетик хранит следы прикосновений и ласковые мысли умершей.
Маришка же этого не знала и потому шуршащий сухой букетик тотчас выбросила, а вазочку водрузила на самую середину тщательно вытертого стола.
В подвал она больше так и не решилась спуститься и отдавала распоряжения, стоя на лестнице, до тех пор, пока не дошел черед до комнатки и переднего помещения.
Тем временем прокопченное жерло трубы изрыгало к сияющему осеннему небу горький холодноватый дым, потому как груды удивительнейшего старья, накопившегося за годы, были преданы огню и тем самым употреблены с пользой – для подогревания воды. Метле удалось обнаружить мусора не много, ведь дядюшка Йоши регулярно подметал пол: зато старые газеты и календари, какие-то деревяшки неизвестного назначения, ремни, коробки, бечевки, предметы одежды – словом, всякая рухлядь с полок перекочевала в огромную, беззубую пасть топки котла, которая, жадно давясь, глотала корчащиеся в огне предметы и выплевывала вонючий дым иногда даже в переднее помещение.
Меж тем тетушка Кати и Бёшке смахнули паутину и подмели пол в подвале, прошлись метлой и по сводчатым стенам, наскоро отскребли щетками все, что нельзя было стронуть с места, а остальное, чтобы отмыть-отскоблить как следует, вынесли за порог, оставив после себя тяжелый, насыщенный парами запах прачечной.
Столик, стулья, тыква-цедилка, мебель и хозяйственный инструмент из комнатки и переднего помещения дожидались своей очереди перед давильней, и тут уж и Маришка разошлась вовсю, не жалея мыла и щелока, с твердым намерением продемонстрировать своим помощницам, как надлежит работать щеткой и скребком…
Удивление женщин Маришка сочла лестным для себя признанием своих заслуг, подумав при этом, что слух о ней как о радивой хозяйке разойдется по селу и сослужит ей добрую службу…
– Отыскалась эта мерзкая мышь?
– Угодила в огонь вместе с хламом… – сказала тетушка Кати и взглянула на трубу, откуда крохотное тельце Цин-Ни якобы вспорхнуло к мышиным райским чертогам – Маришке во успокоение.
Именно что якобы!..
Ведь в действительности тетушка Кати не нашла бренных останков нашего Цин-Ни, да и не могла найти, поскольку он после жестокого вмешательства метлы и своего недолгого полета замертво упал под один из бочонков, но вскоре пришел в себя и попытался сориентироваться. С ужасом услышал он, что светопреставление, сопровождающееся женскими голосами, все еще продолжается, и потащился под лежень, источенный множеством потайных углублений.
Да-да, Цин-Ни действительно тащился и взобрался в одну из таких пещерок с неимоверным трудом, потому что задняя лапка у него была основательно повреждена. Но теперь мы можем за него не беспокоиться, тут беды с ним не случится. Правда, мышиное сердчишко от страха колотится где-то у горла, и кажется, от боли у Цин-Ни даже слезы выступили, но это всего лишь наше предположение.
Позднее голоса женщин, вызвавших весь этот адский переполох, удаляются, и, после того как отмытая-отскобленная мебель внесена и расставлена по местам, стихают и отдаленные шумы, захлопывается входная дверь, неуверенно щелкает язычок замка, и мышонок, оставшись в благословенной безмолвной темноте наедине со своей болью и бесприютностью, возможно, и задает себе вопрос: что же это такое тут происходило?
Затем он, пожалуй, даже вздремнул немножко, а за это время начали постепенно приходить в себя потревоженные бочки, инструменты, низенькие стулья, бывший карточный стол и все помещения давильни; лишь труба все еще выдыхала в солнечное небо трепетный теплый воздух вперемешку с дымом.
И вновь обретенная домиком тишина становилась все глубже, словно старалась утешить истерзанные столы-стулья, провонявший щелоком пол, влажно-чистые бочки, догола отскобленные стены, надтреснутую тыкву-цедилку, бездомных пауков – весь всколыхнутый внутренний мир давильни.
А когда тишина сделалась такой глубокой, что глубже некуда, то стало ощутимо: есть в доме нечто такое, что не подверглось изменению, хотя и изменчиво по своей природе; что нельзя ни смыть, ни отскрести щеткой, ни сжечь на огне; что не говорит словами, но и не молчит, ведь каждая вещь, каждый предмет в давильне чувствует, что излечение уже началось, и врачующее Время мягко сглаживает следы воды и огня.
Йоши Куругла добрался домой часа в три пополудни. Дом неожиданно встретил его тишиной. Маришка не забыла, как ее одернули утром, да и усталость еще не прошла, ведь она совсем недавно вернулась с виноградника, так что она не вышла навстречу хозяину.
Дядюшка Йоши поставил в кухне на стол свою служебную сумку и какое-то время прислушивался, а затем потихоньку приоткрыл дверь в комнату, где Маришка по всей вероятности спала.
– Вернулся, Йошка? – спросила Маришка болезненным голосом.
– Я думал, ты спишь, Маришка, да оно было бы и не удивительно…
– Подавать на стол?
– Лежи, не беспокойся! Йоши Чаттош такой обед закатил… Это по его делу меня вызывали в суд.
– Тогда ему сам бог велел тебя обхаживать! Ты, небось, не собачонка на каждый посвист бегать. Верно я говорю?
Маришка устала, да и нервы, потревоженные столкновением с Цин-Ни, еще не успели прийти в порядок, – это чувствовалось по ее голосу, хотя она и тихо говорила.
Дядюшка Йоши зевнул.
– Тогда я лягу, пожалуй. А ты, если не уснешь, Маришка, разбуди меня в четыре. К половине пятого аккурат успею себя в порядок привести и поесть с собой собрать…
– Все уже в сумку сложено, и ключ от подвала там же!
– Да ну!
– Складной ножик, паприка, соль, перец острый; я и сыру положила…
– Та-ак, значит… – огорченно пробормотал Куругла, потому что сами эти приготовления доставляли ему особую радость. Прикинуть про себя, сколько чего прихватить… что может принести священник, а что почтмейстер, раз уж они не сговорились заранее. В городе он купил вощеной бумаги, чтобы было во что упаковывать провизию…
– Пока я здесь, ты себя не обременяй такими заботами… И почтмейстерше с попадьей нечего мне косточки перемывать, будто я о тебе не пекусь…
– Да ведь они тебя и в глаза не видели!
– Эка важность! Я свое дело знаю, а ты, Йошка, положись на меня… тут до сплетен дело не дойдет. Ложись себе спокойно!
Спокойно или неспокойно лег после таких слов Йоши Куругла, нам с вами не узнать.
Однако послеполуденная прогулка, обволакивающая осенняя тишина постепенно заглушили плохое настроение, хотя и не усыпили взбудораженные мысли; еще не оформившиеся окончательно, они выбирали себе подходящее облачение среди обширного гардероба человеческих слов, пока три приятеля молча брели по дороге среди виноградников.
Йоши Куругла уже рассказал в подробностях о своей поездке и о судебном разбирательстве, и теперь они молчали, потому что дорога проходила по гребню, и тут надо было смотреть под ноги. Приятели шли гуськом: впереди священник как более старший по рангу, за ним почтмейстер, и позади дядюшка Йоши, чувствовавший себя здесь в некотором роде хозяином. А когда люди шагают друг дружке в затылок, это к беседам не располагает.
Вот они и бредут молча. И мысли лениво тянутся рядом, укрытые длинными, вытянутыми тенями, так как солнце клонится к закату. Над долиной плывет нежная дымка, пока еще не сгустившаяся в туман, время от времени одинокий листок отрывается от ветки и, мягко кружась, опускается на землю, а больше – ни шороха, ни движения вокруг: сумерки беззвучно стелют себе ложе среди длинных рядов виноградников и винных погребков.
На маленьком участке Йоши Куруглы тропа переходит в вымощенную кирпичом дорожку, ведущую до самой давильни, чтобы дать гостям возможность отряхнуть с обуви пыль или грязь или в дождливую погоду не промочить ног в некошеной траве. Кирпич, оставшийся от какого-то строительства, дал священник, выкладывал дорожку почтмейстер, а дядюшке Йоши досталась роль балагура-смотрителя работ. Эта совместная работа осталась для друзей приятным воспоминанием: каждый раз, свернув с тропы на узенькую «мостовую», они неизменно упоминали о ней.
На этот раз друзья не обмолвились и словом, но, ступив несколько шагов, священник остановился так внезапно, что шедший за ним почтмейстер чуть не налетел на него.
– Что это значит?
Хозяин дома выступил вперед, поскольку священник палкой указывал на вышеупомянутую мостовую, и оба приятеля уставились на кизиловую палку и кирпичную дорожку с не меньшим изумлением и настороженностью, чем фараон, взиравший на змею в руках Моисея, обращенную им в посох.
Дорожка была выметена дочиста.
– Похоже, здесь кто-то был!
Дядюшка Йоши пожал плечами, почтмейстер внимательно разглядывал землю, а кизиловая палка досадливо скользнула по кирпичной мостовой; все трое знали, что, без сомнения, в давильне кто-то побывал…
– Ну что ж, пошли, Гашпар, – сказал Йоши Куругла, – там все выяснится.
Дело и впрямь выяснилось, однако все масштабы постороннего вторжения стали ясны лишь значительно позже.
Дядюшка Йоши вытащил из сумки массивный ключ и уже приготовился было вставить его в замок, однако рука его замерла на полдороге, а священник с почтмейстером ошеломленно уставились на отскобленный досветла ключ.
Почтмейстер брезгливо фыркнул, словно глазам его предстало нечто неприличное, а огорченный священник, постукивая палкой по земле, попытался подбодрить друга:
– Открывай дверь, Йошка, чем скорее переживем, тем лучше…
– Думаешь, и внутри… тоже? – безо всякой надежды спросил Куругла, понимая, что и дому не удалось спастись от вторжения.
Священник вместо ответа только махнул рукой, замок скрипнул, и Куругла с растущим раздражением толкнул обе створки двери.
Хорошо еще, что солнце клонилось к закату, так что поначалу друзей ошарашил лишь чуждый дух свеженаведенной чистоты, мыла и щелока, напоминающий запах прачечной.
– Бедняжка хотела как лучше, – священник попытался смягчить удар, прибегнув к предписанному в таких случаях елейному выражению; однако, что он сам думал при этом, угадать было невозможно. – Зажги свечу, Йошка!
Когда Йоши скрылся в темноте, священник повернулся к почтмейстеру и тихо произнес:
– Видишь, Лайошка: жизнь не сводится к одному ужину… это множество ужинов, причем самых разных… Вот только, – тут он еще больше понизил голос, – глотать их все не обязательно…
Йоши Куругла с окаменелым лицом вышел из комнатки и смотрел на друзей, словно не в силах был и слова вымолвить.
– Ни свечей, ни спичек не нахожу…
– Где-нибудь да найдутся… – почтмейстер опустил на пол заплечный мешок. – У меня есть карманный фонарик.
– Она и Юлишкины цветы выбросила, – Йоши Куругла хрипло кашлянул в ладонь, – и старые календари. А я иногда записывал туда то одно, то другое для памяти…
– Откуда ей было знать! – раздраженно воскликнул священник. – И на черта тебе понадобилось оставлять ключ!..
– Да, конечно, – уныло согласился дядюшка Йоши, не подумав о том, что календарям и прочему хламу он и сам до сих пор не придавал никакой ценности. Если бы что и погрызли мыши, он бы махнул рукой, да и дело с концом, но выброшенные женины цветы вдруг всколыхнули в нем чувство огромной утраты и оскорбленного самолюбия, ощущение коварной и жестокой опасности, угрожающей его мирному, одинокому существованию.
Почтмейстер все еще рылся в заплечном мешке, пытаясь отыскать фонарик, а священник смотрел на сгущающийся за порогом сумрак, словно там можно было увидеть что-то интересное, и лишь дядюшка Йоши уставился в темноту подвала и вдруг вздрогнул, явственно увидев, как он в шлепанцах и свежевыглаженной пижаме сидит на краю постели, молодцевато взбодрясь, и ждет, когда Маришка окликнет его и пригласит зайти к ней в комнату «поговорить немножко»…
– Эк тебя, старого осла, бог уберег! – вздохнул он про себя с облегчением. – Счастье твое, что уснул, а то бы теперь узнал, почем фунт лиха…
– Нашел! – почтмейстер достал из мешка фонарик. – Жена не дает мне самому уложить все как следует, а ее хоть проси, хоть не проси класть фонарик в кармашек, она забывает.
Почтмейстер был явно разгневан, видя огорчение своего друга и обезображенный подвал. И если бы в этот момент можно было определить на весах меру их возмущения, то гнев почтмейстера оказался бы всех тяжелее, ведь он был обижен вдвойне: и как исконный обитатель подвала, и как закадычный друг Куруглы, – в то время как дядюшка Йоши неожиданно испытал столь колоссальное облегчение, что почти забыл и о выброшенных цветах, и о старых календарях, и испустил такой вздох, что держи он в этот момент свечу в руках, та непременно погасла бы.
– Не принимай ты близко к сердцу, Йоши, будь она тыщу раз неладна!.. – утешал его почтмейстер, но от внимания священника не укрылся этот вздох. Разбираться в подобного рода проявлениях эмоций входило в его профессию, а этот вздох никак нельзя было причислить к вздохам отчаяния или безропотной покорности своей судьбе. Такой вздох срывается с благодарных уст больного, пошедшего на поправку, или женщины, пошатнувшиеся супружеские устои которой священнику с грехом пополам удалось укрепить…
Вспыхнул фонарик, и священник захлопнул обе створки двери и даже повернул в замке оскверненный ключ.
– Я считаю, гостей нам не надо.
– Ни за что! – сердито откликнулся почтмейстер, в душе которого еще не улеглась двойная обида. И тут все трое умолкли, потому что при слове «гость» каждому из них припомнился мышонок, прирученное ими славное маленькое существо, которое, по всей вероятности, тоже пало жертвой Маришкиного нашествия.
Однако, как мы знаем, это их предположение и оплакивание мышонка оказались преждевременными.
Конечно, нельзя сказать, чтобы Цин-Ни чересчур хорошо чувствовал себя, так как левая задняя лапка у него еще побаливала, но лавина шума и резких звуков унеслась прочь, что, правда, не означало, будто можно ослабить привычную бдительность.
Само собой разумеется, Цин-Ни первым делом начал приводить себя в порядок, но это оказалось задачей не из легких: крохотная пещерка была сплошь забита мелкой трухой, которая при каждом движении мышонка осыпалась сверху. Поэтому когда все внутри успокоилось, а снаружи сорочья трескотня возвестила с орехового дерева уход людей, он осторожно слез на пол.
Цин-Ни прислушался, про себя сортируя звуки и шумы, но все они не вызывали тревоги. Иногда принималась стрекотать сорока, где-до капала вода, потрескивал бочонок, поскрипывали, выпрямляясь, размокшие доски ящика, которому тоже досталась изрядная баня, и стоило ветерку чуть всколыхнуть сонно-застойный воздух, как и тыква-цедилка с неуловимым для человеческого слуха стоном жаловалась, что ей пришел конец, в брюхе у нее трещина – хоть и незаметная, но дает себя знать. К сожалению, это была правда, потому что Маришка вошла в раж и даже тыкву отмывала мыльным порошком, а когда терла ее, то слишком сильно надавила.
Но Цин-Ни не волновали чужие беды, он внимательно обнюхал все под лежнем. Запах просыхающего щелочного раствора показался ему довольно неприятным, однако куда больше смущал его размокший земляной пол, на котором оставались следы, и его лапки чуть прилипали к нему.
Выяснив все это, Цин-Ни больше не раздумывал. Он взобрался на лежень, вылизал свою шубку дочиста и отправился домой.
Благодаря Маришкиной любви к порядку, ящик – свой дом – он обнаружил на месте, хотя перемены, которым его жилище подверглось внутри, вызвали в нем тревогу. К примеру, в ящике и следа не осталось от обгрызанной бумаги и соломы, зато теперь в нем было полно всякого тряпья; тут же была щетка, пустая картонная коробка, поношенная шапка дядюшки Йоши и старый календарь, который, по мнению Маришки, мог еще для чего-нибудь потребоваться…
Цин-Ни долго присматривался к незнакомым предметам, и поскольку они не шевелились, не издавали никаких звуков и к запаху их можно было привыкнуть, он ради порядка немного погрыз тряпки, слегка потрепал зубами календарь, а затем, поджав ноющую лапку, уснул.
Потрескивание просыхающих лежней и досок ящика не тревожило его легкий сон. Но вдруг скрипнул замок, раздался гул шагов, и низкие, полнозвучные мужские голоса можно было услышать даже внизу, в подвале. Цин-Ни – к чему отрицать? – вдруг почувствовал нестерпимый голод. Возникли ли у него при этом какие-нибудь другие чувства, мы навряд ли узнаем, но голод и жажда определенным образом ассоциировались у него с этими людьми, с их голосами, шагами, с их угощением: хлебом, сыром, салом и с тем удивительным напитком, пристрастие к которому так выделяло Цин-Ни среди прочих собратьев-мышей.
Цин-Ни затаился, хотя и не испытывал страха; сквозь щели в ящике ему хорошо видно было, как непривычно яркий сноп света мечется по стенам, взлетает к темному своду потолка, куда не дотянулась ретивая метла, пробегает вдоль бочек, которые уже наполовину просохли. Но мышонку показалось, что люди слишком долго удивляются и сокрушаются, и их бездействие напоминало вынужденную, но не докучную экскурсию по музею.
Цин-Ни куда радостнее было бы видеть, как люди усаживаются и раскладывают припасы, один запах которых толкает мышей на безрассудные поступки. Правда, в случае с Цин-Ни было не совсем так, ведь эти люди доводились ему друзьями.
– А вот и наш стол! – воскликнул наконец почтмейстер, посветив фонариком в угол. – Но только сукно с него содрали, щеткой…
– Мы все равно его застелим, – заметил священник.
– Да и сукно поистерлось уже… – начал было дядюшка Йоши, но тотчас и осекся, перехватив изумленный взгляд почтмейстера; священник же столь испытующе мерил его прищуренным взглядом, что Куругла счел нужным добавить: – Но это не оправдание…
Почтмейстер выдвинул из угла на свет истерзанный столик и три низких стула, а затем воскликнул:
– Смотрите-ка: пачка свечей и спички! Выходит, есть тут смягчающее обстоятельство, Йошка…
Священник улыбнулся, а Йоши Куругла рассердился, поняв, что бессилен разобраться в собственных чувствах.
– Тут не может быть никаких оправданий, Лайош…
Однако почтмейстер, которого все еще терзали собственные обиды, с горечью возразил:
– Ну как же – нет оправданий! Взгляни-ка, Гашпар, нет ли выключателя у входа, вдруг Маришка и электричество успела провести…
– Ладно, почтмейстер, хватит! – перебил его священник, видя, что разговор принимает нежелательный оборот. – Выключатель я поищу, когда будет зажжена свеча и накрыт стол! Йоши, нацеди вина из бочки!
Вспыхнул огонек свечи, и мягкое, уютное колыхание пламени ласково озарило и стены, и предметы, и людей.
Почтмейстер выкладывал на стол провизию, Йоши Куругла опустил в бочонок цедилку, но вино никак не хотело подниматься, и несчастная надтреснутая тыква чуть не стенала в муках.
– Что за чертовщина с ней приключилась? – дядюшка Йоши вытащил тыкву с длинным узким горлышком и, заглядывая внутрь, поднес ее поближе к свету.
– Треснула! – с сердцем сказал он. – И цедилку доконала…
Почтмейстер лишь кивнул, священник расставил в ряд бутылки, которые теперь пришлось наполнять с помощью воронки, а дядюшка Йоши опрокинул бочонок краном книзу.
– Буль-буль-буль, – отозвался бочонок, и почтмейстер ответил ему теплым взглядом.
– До чего приятный звук! – мечтательно проговорил он. – Это то самое вино, которое тогда привез Жига? Надо бы отведать, прежде чем приступим к еде. После закуски у вина совсем другой букет…
Йоши Куругла наполнил стаканы, и когда друзья чокались, священник провозгласил:
– Выпьем за то, что все в нас осталось по-прежнему!
– Погодите, теперь я скажу, – остановил друзей Йоши, когда вино было выпито, и он вновь наполнил стаканы. – Выпьем за то, чтобы все здесь оставалось так, как есть!
Стаканы гулко звякнули, словно завершив точкой этот обет Куруглы, прозвучавший как клятва. Непривычно громкие голоса, их торжественное звучание раскатывались под сводами подвала, и даже Цин-Ни передалось какое-то странное, чуть беспокойное ощущение, заставив его позабыть на время о своем нетерпеливом ожидании. Правда, позабыл он на очень короткое время, так как аппетитные и для человека запахи колбасы, жареного мяса, хлеба, сыра, сала, волнуя обоняние мышонка, усилили в нем чувство нестерпимого голода. Но люди все никак не усаживались за стол, потому что на этот раз почтмейстер, взяв стакан из рук Йоши, с радостным возбуждением разлил вино.