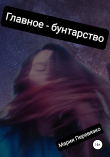Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Наступила весенняя страда, когда за работу надо приниматься без проволочек, и темпы диктует сама жизнь, диктует всем и каждому: травам и деревьям, животным и человеку. Лишних слов сейчас не услышишь – не то что в период сбора винограда или во время убоя свиней.
К тому моменту, как весенний гомон и все звуки на селе смолкли, дверной проем в сарае вырисовался светлым квадратом; было тихо – ни движения, ни шороха, лишь запах остывающей соломы в дверях не мог решить, куда ему податься. И тут вдруг на соседнем дворе с перепугу отчаянно заголосила женщина:
– Тетушка Юли! Гоните ко мне вашего Шарика!.. Ах ты, беда какая! Разрази ее гром, нечисть этакую!..
– Что там у тебя стряслось, Тера?
– Хорек окаянный, чтоб ему пусто было!.. Двух лучших кур как не бывало! А сам убежал под поленницу… здоровущий был, как…
Соседка второпях не могла подыскать подходящего сравнения, и старуха перебила ее:
– Стой там, у поленницы, а я побегу к Вере, у них собака большой мастак по этой части. Такса или вроде того… А ты стой, с места не двигайся, не то как бы не сбежал разбойник.
– Ладно, постою, только вы уж поскорее, тетушка Юли!
Старуха влетела во двор к соседям Теры.
– Что, собака ваша дома?
В кухне умывался паренек.
– А где же ей быть, тетушка Юли! А что такое приключилось?
– Надевай сапоги, Янчи, и дуй к своей тетке. Хорек у нее двух кур задушил и под поленницей спрятался. А тетя Тера его стережет… Мать-отец где?
– В поле ушли.
Паренек сунул ноги в сапоги, набросил на плечи куртку и свистнул с порога. На зов выкатилась такса – собачонка с неимоверно хитрой мордой и столь же неимоверно кривыми лапами. Собаке передалось волнение людей, и ей не терпелось узнать, каких свершений от нее ожидают.
По дороге тетушка Юли и Янчи прихватили еще и Шарика, и собаки, ошалев от радости, бросились приветствовать друг друга. После этой сцены не оставалось сомнений, что кривоногая красотка и была той дамой, которую Шарик охарактеризовал как «весьма симпатичную».
– Нашли время лизаться! – укоризненно одернула их старуха. – Поймайте хорька, вот тогда и резвитесь сколько влезет.
Однако пока что эта возможность казалась невероятной, да и происшедшая трагедия тоже: во дворе царил такой безмятежный весенний покой, что в реальность свершившегося кровопролития нельзя было бы поверить, если бы две бездыханные жертвы не лежали на перилах крыльца.
Впрочем, собаки явно придерживались другого мнения на этот счет, поскольку – вне себя от возбуждения – даже чуть не сцепились друг с дружкой.
– Тетя Тера, вы расшвыряйте поленницу, а я собак натравлю!.. – сказал Янчи.
– Натравишь ты черта на дьявола! Еще чего доброго кинется мне под ноги эта мразь поганая!..
– Не бойтесь, собаки хорька все равно не упустят, хоть бы он под юбкой у вас спрятался!
Тера вспыхнула с досады, а Янчи разразился хохотом; собаки, поскуливая, кружили возле поленницы и смолкли, лишь увидев, что парень принялся сбрасывать поленья.
– Небось давно сбежал! – высказала предположение тетушка Юли.
– Где ему! – возразил Янчи. – Притаился и будет выжидать до последнего. Да и Жучка не вела бы себя так беспокойно, если бы добычу не чуяла.
Такса, заслышав свою кличку, вошла в такой раж, что даже вцепилась зубами в полено. Глаза ее помутнели от ярости, а рычание срывалось на злобный хрип. Шарик вел себя несколько сдержаннее, и было видно, что инициативу он всецело предоставляет своей кривоногой приятельнице.
От всей поленницы оставался лишь один нижний ряд, и трудно было поверить, что хорек все еще прятался там.
Однако Жучка, снедаемая охотничьим азартом, дрожала всем телом, и даже шерсть у нее встала дыбом.
Янчи приступил к разборке последнего ряда поленницы, когда оттуда ракетой вылетел хорек, но не в сторону Жучки, а на Шарика, который с молниеносной быстротой схватил врага, но в тот же миг и выпустил добычу: хорек, распространив защитную завесу нестерпимой вони, пребольно укусил Шарика в нос. Но к этому моменту подоспела Жучка, которая, не взирая на мерзкую вонь и укусы, взяла хорька в оборот: прошлась по хищнику своими острыми зубами, так что у того только кости захрустели.
– Дай сюда, Жучка! – приказал Янчи. – Шкурку мы берем себе. Не возражаете, тетя Тера?
– Ну, что ж, бери, – неохотно протянула соседка, про себя прикидывая стоимость шкурки. – Что ни говори, а ведь я в убытке: моих кур порешил душегубец… Ну да ладно уж, и на том вам спасибо…

Янчи поспешно ретировался, покуда родственница не успела передумать; по совести говоря, тетушка Тера была из той породы скупердяев, у которых зимой снега не выпросишь.
От Янчи, естественно, не отставала славная победительница Жучка, более того, к триумфальному шествию примкнул и Шарик, нежные чувства которого значительно окрепли под воздействием не только весны, но и боевого пыла кривоногой дамы сердца.
А обе женщины остались с глазу на глаз, и Тера, действуя по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», попросила у тетушки Юли маку взаймы, а то у нее, мол, весь зачервивел и сеять нечем.
– Какая жалость, милая, ведь я в аккурат вчера засеяла, – притворно огорченным тоном посетовала тетушка Юли, отлично зная: что к Тере попало, пиши пропало. – Да у меня лишнего и не было бы, в самый раз на одну грядку.
Тера знала, что мак тетушка Юли не сеяла, да и тетушка Юли знала, что соседке об этом известно, но на то и гордость дана человеку, чтобы второй раз с такой просьбой не соваться.
И верно: маку Тера выпрашивать больше не стала и из приличия даже проводила старушку до калитки, подавив в себе мысли, никоим образом не подобающие весеннему благолепию.
Шарик поджидал свою хозяйку дома, ведь оставлять хозяйство без присмотра считается среди собак преступной халатностью. Но, правда, и Янчи весьма «любезно» призвал его удалиться, сказав:
– Чеши домой, Шарик, пока пинка под зад не схлопотал…
Тетушка Юли с несвойственной ей нежностью погладила лохматую голову пса.
– Молодец, Шарик, поймал хорька, не побоялся!
После столь лестной похвалы и Шарик отважился на необычную с его стороны дерзость: он решил проводить хозяйку в комнату, – а вдруг да его удостоят ветчинной косточки или другой какой награды.
Сказано – сделано, вот только тетушка Юли в полном недоумении уставилась на собаку, за ее спиной незаметно проскользнувшую в дом.
– Это ты что еще за моду взял? – недовольно спросила она.
Шарику этот хозяйкин тон решительно не понравился. Хвост его замер в выжидательном положении, а когда старуха потянулась за метлой, Шарик одним махом очутился на крыльце.
– Может, за какого-то вонючего хорька еще поцеловать тебя прикажешь?
О нет, на поцелуи Шарик и не рассчитывал; ему бы косточку, хоть самую завалящую! И, конечно же, пес ее получил, только не сразу.
– На, держи, лоботряс блошистый! И если ночью мне твои блохи спать не дадут, берегись: я об твою спину всю метлу обломаю!
В голосе хозяйки вроде бы звучала угроза, но кость ее уравновесила. А в детали пес и не вникал.
Тетушка Юли вовсе и не сердилась, просто иной раз ей нужно было выговориться, а по большей части она была сдержанна и печальна.
Но сейчас она изменила своему обычному настроению.
Приключение с хорьком несколько взбодрило ее; она насыпала курам корма, сложила в передник мешочки с зерном и в сбившемся на затылок платке поспешила к старому пчельнику, где ее в полной боевой готовности поджидал инвентарь.
В хижине ее подстерегала неожиданность.
На балке, откуда она еще в прошлом году смела осиное гнездо, сейчас все кишело черно-желтыми пришельцами; вели они себя тихо, однако явно были заняты каким-то серьезным делом.
Вчера производила осмотр их санитарная группа, которая доложила, что вонючая мазь высохла и теперь ничем не пахнет; и вот сегодня на работу явился инженерно-строительный отряд. Появление тетушки Юли прервало их занятие, и возглавляющий группу мощный шершень задал вопрос:
– Это она была?
– Она самая, мой генерал! – жужжит один из бойцов. – Ужалить ее?
– Откуда тебе знать, ведь тебя в ту пору и на свете не было!
– Все равно! Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ужалю ее!
Генерал делает знак двум своим адъютантам.
– Ведите этого оболтуса к царице! Боец существует не для того, чтобы жалить, а чтобы и других не допускать до этого!
– Трусы, трусы вы все! – вне себя кричит юный вояка, но адъютанты успевают его схватить.
– За такие слова он не достоин даже предстать перед Ее Величеством! Разделаться с ним!
Один из адъютантов до отказа вонзает в отчаянно отбивающегося бунтовщика свое жало, и тот безвольно сникает.
– Я умираю за родину! – с последним вздохом произносит он.
– Вот именно! – кивает генерал. – Ты умираешь ради того, чтобы родина уцелела. Такие безмозглые вояки вечно причиняют ей вред и губят ее. Отдайте его рабочим, пусть разберут на части и найдут ему какое-нибудь применение. Друзья мои! – обратился он затем к своей свите. – Внимательно присмотритесь к этому человеку, потому что, кажется, из-за него в прошлый раз и произошло несчастье. Ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае этого человека трогать нельзя.
Тетушка Юли задумчиво смотрит на притихших ос. В хижине царят мир и спокойствие и стойкий запах воска и меда.
«Наверное, это не те осы, – думает тетушка Юли. – Вишь, какие они тихие, спокойные. Да и то правда, места здесь хватает, неужто одному осиному гнезду не поместиться?..» Старуха берет нужные инструменты и осторожно выходит из хижины.
Осиный генерал с довольным видом кивает:
– Можно приступать к строительству гнезда!
Шарик какое-то время был поглощен костью, хотя и чувствовал, что надо бы последовать за хозяйкой. Конечно, не потому, что старуха нуждалась в заступничестве: похитить ее вряд ли нашлись бы охотники, да и нападения хорька тоже не следует опасаться. Зато на пути к огороду расположен сарай, где непременно нужно рассказать о схватке: это – его долг перед Катой, перед всем сараем. Не то чтобы Шарику хотелось похвалиться, но ведь события и в самом деле обернулись лестным для него образом.
Конечно, с косточкой расставаться не обязательно – даже нельзя: во двор может забрести Жучка, дама весьма пронырливая и к частной собственности уважения не питающая… Так что и до потасовки недалеко: дружба дружбой, а кость костью, – и любовные перспективы Шарика, и без того весьма слабые, могли бы пошатнуться окончательно.
Сарай к этому времени едва успел стряхнуть с себя сонную истому, хотя ночные тени посветлели и приобрели сероватый оттенок, а перед этим на соседнем дворе слышались какие-то крики и взволнованные разговоры людей. Впрочем, весь этот шум продолжался недолго.
Ката перевернула яйца, соблюдая при этом такую осторожность, что почти и не нарушила хрупкой тишины. После этого наседка решила подчиниться зову пустого желудка, но в этот момент скрипнула балка над дверью – не предостерегая против опасности, а просто желая привлечь внимание.
На пороге появился Шарик.
В зубах наподобие губной гармошки он держал кость, а широкие круги, выписываемые хвостом, свидетельствовали об испытываемых им радостных чувствах.
– Что случилось? – тихонько кудахтнула Ката.
Шарик положил кость на пол, хотя в разговоре она ему не помеха, здесь главное – чтобы хвост работал выразительно.
– Мы с ним расправились! – оживленно виляет хвостом пес. – Я его схватил, а моя приятельница прикончила.
– Ты хоть объясни нам, с кем вы расправились! – Глаза Каты взволнованно горят.
– С хорьком, с кем же еще! Пожалуй, это был самый крупный хорек, какого я в жизни видел, и думаю, что он – последний в нашей округе…
Сарай, застыв в оцепенении, выслушал поразительную новость. Затем телега стукнула колесом раз-другой, словно, изнывая от любопытства, ждала продолжения истории; воробьиная чета от волнения едва не вывалилась из гнезда, а Ката распустила, расправила перья, точно уверовав, что опасность миновала.
– Говорили же вам, что есть здесь еще хорьки. – Это замечание принадлежало, конечно, граблям.
– Это был последний! – решительно пристукнула колесом телега.
– Последний или там не последний, а грабли верно сказали! – присвистнула коса.
– А вот и не верно! – шевельнулся пиджак; влага окончательно испарилась из него, и теперь он чувствовал себя на гвозде вполне уверенно. – Если грабли хотели выразиться точно, то так и следовало сказать: не есть, а был хорек.
– Теперь это уже не важно: был да сплыл! – кудахтнула Ката. – А наш пес – молодец, настоящий герой, он поймал хорька, и с меня этого вполне достаточно. На душе у меня спокойно, а сейчас мне это в особенности необходимо, потому что…
– Вылупляются? – перебила ее воробьиха.
– Вот-вот проклюнутся, – кивнула Ката. – Но до тех пор, по-моему, еще раз взойдет солнце… Скорее всего это произойдет завтра, но точно я не знаю. Чувствую, как они шевелятся, и их много…
– Будь осторожна, Ката! – поучала ее воробьиха, но на сей раз Ката на нее даже не рассердилась, только глаза ее улыбались лихорадочной и измученной от трехнедельного неподвижного сидения улыбкой.
– Можно не беспокоиться за Кату! – вильнул хвостом Шарик. – Когда птенцы вылупятся, я скажу хозяйке.
– Хорошо, – подумав согласилась Ката. – Теперь уже не страшно. Скажи ей, а то меня хозяйка не понимает.
– Ты права, – пес повел ухом. – Человек даже меня и то с трудом понимает. У меня и в мыслях нет оговаривать хозяйку, напротив, я ее люблю, но человек вообще туго соображает.
– Пока горло не промочит! – пробурчал бочонок, воспользовавшись тем, что ветерок ненароком залетел в отверстие сбоку. – А стоит человеку опрокинуть стаканчик-другой токайского, и он сечет, что твоя коса. И что самое удивительное, в такие моменты у человека не только голова хорошо работает, но и душа становится нараспашку… Э-эй, ветерок, погоди засыпать, не то я опять без голоса останусь…
Однако вслед за тем наступила тишина: видимо, ветерок, нанюхавшись винных паров, уснул, и бочонку пришлось умолкнуть.
Шарик подхватил зубами свою косточку.
– Пойду, пожалуй, к хозяйке! – вильнул он хвостом на прощание. – А то ведь в саду кроме меня сторожить некому.
На это ему никто ничего не ответил, и Шарик, обежав соломенный стог, очутился на тропинке рядом с тетушкой Юли, которая, распрямив натруженную спину, тыльной стороной ладони вытирала вспотевший лоб.
– Никак ты и косточку принес, Шарик? – Пес вильнул хвостом.
– Скоро вылупятся цыплята, Ката сама сказала.
– Шел бы ты в тенек, Шарик. Тебе-то не обязательно на солнце пот проливать.
– Птенцы вот-вот вылупятся, – Шарик молотил хвостом по земле, потому что тем временем успел усесться.
– Ладно, ладно, – отмахнулась от него тетушка Юли. – Вижу, что ты все обгрыз, потом дам тебе другую косточку. И уйди с дороги, а то как бы не наступить на тебя.
При виде такого вопиющего непонимания Шарик рассердился.
– Кур-риные яйца! – заворчал он, а старуха в недоумении оглянулась вокруг. – В сар-рае… – пес даже вильнул хвостом в ту сторону.
– Ну, чего ты разворчался, нет здесь никакой кошки! Пошел с дороги, не понятно, что ли?
– Как ни бейся, все без толку! – досадливо поднялся на ноги Шарик. – Твердишь ей – и как об стену горох! – Пес утешился лишь несколько позднее, устроившись в тени старого пчельника и грызя косточку, которая внутри еще хранила вкусный запах.
Больше никаких событий и не произошло, и этот день, заполненный кипучей работой на полях и в огородах, пролетел как одно мгновенье.
Впрочем, кое-что все-таки происходило. Осы закладывали основы своего крепостного замка, который на людском языке назывался просто «гнездом»; деревья покрывались пышным цветом, а посевы подросли настолько, что теперь укрыли бы ворон с головою, если бы здесь были вороны… А пчелы уже к полудню чувствовали себя вконец одурманенными, да и немудрено: ведь при сборе пыльцы им приходилось передавать такое количество любовных весточек, что даже у любого почтальона голова пошла бы кругом… И самое главное: под брюхом у Каты лопнули два яйца сразу, и к тому времени, как солнце устало растянулось на сумеречном ложе, два мокрых, взъерошенных цыпленка лежали чуть в стороне, обсыхая. Правда, Ката бережно пыталась подвинуть их к себе под бочок, потому что при последней, предзакатной вспышке солнца успела разглядеть, что теперь яйца начнут трескаться одно за другим, и это наполняло материнское сердце немалой радостью, но и немалой тревогой.
В сарае стояла тишина, все прислушивались до того внимательно, что от напряжения уснули. Только Ката бодрствовала, не помышляя даже о хорьке; ею владела лишь одна мысль: хоть бы видеть, что под нею происходит, хоть бы иметь возможность помочь! Но ей не оставалось ничего другого, кроме как ерзать в гнезде, чтобы вылупляющимся цыплятам достало места, чтобы они не вылезали из-под теплого материнского крыла, чтобы воздуха им хватало и была возможность обсохнуть.
Сейчас в полной мере выяснилось, насколько важно – жизненно важно – переворачивать насиживаемые яйца: ведь это обеспечивает будущим птенцам равномерное тепло и равномерное развитие.
Едва минула полночь – тонкий рожок молодой луны в девственной скромности красовался на звездном небе, – как беспокойное движение под телом наседки прекратилось. Два яйца на самом дне гнезда так и остались недвижимы, но Кату это не беспокоило. Зато среди вороха яичной скорлупы тринадцать живых цыплят учащенно дышали, приспосабливаясь к новому, непривычному миру. Они вбирали в легкие теплый, весенний воздух и вообще старались вести себя как подобает юным цыплятам, что с каждым часом удавалось им все лучше и лучше, хотя они, конечно, и понятия не имели о том, что уродились на свет крылатой домашней птицей и являют собой личную собственность тетушки Юли.
Впрочем, не подозревала об этом еще и сама тетушка Юли.
Зато наутро!..
Впрочем, не станем забегать вперед, к тому же было еще не утро, а лишь рассветная пора, когда Шарик удержал тетушку Юли, направлявшуюся в огород.
Дело в том, что Шарик предварительно успел наведаться к наседке и пообещал ей, что поставит хозяйку в известность о появившемся за ночь выводке. Но, учитывая неповоротливость хозяйкиного ума, это обещание было весьма опрометчивым.
И все же Шарик честно старался его сдержать. Начал он с того, что когда тетушка Юли, зевая, распахнула дверь, Шарик весело «облаял» ее, пробудив в хозяйке некоторое беспокойство.
– Жди своей очереди, сегодня дам тебе молочка…
– Птенцы! Цыплята! – не унимался Шарик. – Там их целое гнездо! – и пес положил лапу на хозяйкин башмак.
– Чего надо этой собаке? – подумала тетушка Юли, но затем, оттолкнув Шарика, направилась по своим делам. Удивлению ее не было границ, когда на обратном пути Шарик, подкараулив ее у сарая, ухватил за юбку.
– Если ты и сейчас не остановишься, то даю честное собачье слово, что укушу тебя!
До этого, однако, дело не дошло; тетушка Юли остановилась и в настороженной тишине услышала писк цыплят. Старуха все поняла, и лицо ее покрылось слабым румянцем.
– Выпусти мою юбку, Шарик, – хозяйка погладила пса по голове. – Теперь я знаю, чего ты хочешь. У тебя одного ума больше, чем у троих профессоров вместе взятых. Ну, пошли!
Шарик, теперь уже лая без опаски, первым ворвался в сарай.
– Ката, хозяйка идет!
Когда у тетушки Юли глаза привыкли к полумраку, она от удивления всплеснула руками.
– Ката, милая ты моя старая клуша, так вот почему тебя так давно не было видно!
– Куд-куда как страху я натерпелась! – кудахтнула Ката. – Но зато не зря старалась.
Тетушка Юли, пересчитывая, складывала птенцов в передник.
– Тринадцать! – воскликнула она. – И вывелись аккурат в новолуние. Молодец, Ката, и тут ты все верно прикинула.
Хозяйка погладила старую наседку и бережно опустила ее наземь.
– Ну, пошли!
– Кудах-тах-тах! – рассыпалась курица в благодарностях Шарику. – Я тебе этой услуги не забуду.
Шарик знай вилял хвостом.
– Думаешь, легко было ей втолковать? Но в конце концов мне удалось это. Главное – уметь настоять на своем.
Вся троица шагала по двору: впереди тетушка Юли, а чуть поодаль Шарик и Ката.
Солнце сияет в ослепительной утренней чистоте, и – вот ведь странно! – ни у тетушки Юли, ни у Шарика, ни у Каты нет тени.
Да и откуда взяться теням: весь мир озарен светом, и светом лучатся их сердца.
Цин-Ни
Странное имя, ничего не скажешь, и тем не менее это – имя в полном смысле слова, а дал его себе сам владелец, поскольку этим исчерпывался весь его лексикон. И ничего удивительного тут нет, так же, как не приходится удивляться и тому, что Цин-Ни в большинстве случаев пользовался лишь половиной своего имени. Если дела его шли хорошо и ему было весело, он обходился первой половиной; если же ему становилось тоскливо или больно – то второй.
Дело в том, что Цин-Ни – это мышь.
Красивая, серо-шелковистая, неизменно вылизанная дочиста мышь в расцвете лет, обитающая в давильне среди виноградников на горе, а точнее, в подвале давильни. Конечно, иной раз Цин-Ни заглядывал и в дом, а по осени, если дверь давильни бывала открытой, старался закатить туда орех-другой из-под стоявшего перед домом большого орехового дерева. Однако лучше всего он чувствовал себя в подвале, привыкнув к уютному, теплому, пропитанному винными парами помещению. К ящику, в котором он обосновался и жил в дружном соседстве со всевозможным тряпьем, бумагами, пробками и соломенными оплетками для бутылок, никто не прикасался годами.
Хозяином домика был дядюшка Йоши Куругла, когда-то заправлявший железной дорогой, хотя и вовсе не в качестве управляющего. Управляющему сроду оказалось бы не под силу столкнуть на путях два поезда, спустить состав с рельсов или учинить еще какое-нибудь чудовищное крушение, а вот дядюшке Куругле ничего не стоило бы это сделать, но он полжизни только тем и занимался, что предотвращал подобные катастрофы. Именно по этой причине его удостоили награды, отправляя на пенсию, хотя сравнялось ему всего лишь шестьдесят лет и пребывал он в полнейшем духовном и телесном здравии, коим – по мнению одного его приятеля – был обязан исключительно своему положению вдовца. Дядюшка Куругла со свойственным ему благодушием распрощался со стрелками и семафорами, проявив и тут обычное свое невозмутимое спокойствие, которое неизменно сопровождало его все годы службы и которым не мог похвастаться ни один управляющий.
Конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что железнодорожника дядюшку Йоши на его жизненном поприще не подкарауливали и черные дни – к примеру, когда пришлось везти жену на погост; однако стрелку на жизненном пути его Юлишки переводил не он, а стало быть, и с этим пришлось примириться. Смерть жены не внесла существенных изменений в его жизнь: ведь железная дорога с ее стрелками и семафорами никуда не делась, и привычные заботы в скором времени заглушили щемящую горечь утраты. К числу незначительных перемен относилось и то, что через несколько месяцев после печального события ключ от винного погреба, который до сих пор висел над кроватью жены, дядюшка Йоши перевесил к своей постели… А позднее и кровать жены переставил в другую комнату, где для нее сыскалось весьма подходящее место, и это несколько успокоило мятущуюся в воспоминаниях душу старого железнодорожника…
«Ну что ж, и через это я прошел», – говорил он про себя, и при этом вряд ли имел в виду что-либо другое, кроме опыта супружеской жизни.
– Чем не холостяк! – приговаривал почтмейстер, добрый приятель Йоши с детских лет, не без воодушевления принявший участие в перестановке мебели, а второй его друг, кальвинистский священник, молча кивал головой, словно давая отпущение ненароком мелькнувшим вольным мыслям…
– Погода стоит славная, – промолвил он, чуть откашлявшись. – Отчего бы нам не наведаться в погреб?
– Светлая мысль! – с восторгом поддержал его почтмейстер, а дядюшка Йоши, бросив взгляд на ключ от подвала, коротко отозвался:
– И в самом деле…
– Верно, Йошка! – подхватил почтмейстер. – Главное, не раскисать, тоска – она как пришла, так и уйдет. А наведаемся мы в подвал или не наведаемся, в конечном счете безразлично…
– У нас есть свежий хлеб, – строго вмешался священник, – и колбасы я мог бы прихватить… Снимать ее с крюка или не снимать – отнюдь не безразлично.
– У меня в доме хоть шаром покати, – отозвался дядюшка Йоши. – В кладовой все выметено подчистую – на поминки ушло… Придется все припасать заново. Ну ничего, поросенком я уже обзавелся.
– Видел я, сколько родни съехалось на поминки, – заметил священник. – Кстати, из вещей все в доме цело?
– Помилуй, Гашпар! – ужаснулся почтмейстер. – Эдакое предположить, да еще будучи священником!..
– В том-то все и дело. Ты разбираешься в телеграфных знаках, в почтовых расходах, в расписках-квитанциях, а я – в душах скорбящих… Ну, выкладывай, Йоши!
– Что говорить, сами знаете, как в таких случаях бывает…
– Еще как знаем! – подтвердил священник.
– Шурин поцеловал золотые часы покойной Юлишки… плакал, говорил, что они дороги ему как память…
– Забрал он часы или нет?
– Я сам отдал ему.
– Вот видишь, почтмейстер, надо смотреть на вещи реально. А теперь – к делу. Я прихвачу хлеба, колбасы, зеленой паприки. Ты принесешь сыру, лук и сало. Йоши предоставит нам вино, подвал и тамошний здоровый воздух.
– Вина тоже порядком поубавилось, – вздохнул Йоши.
– Ох уж эти мне убитые горем родичи! – горько воскликнул священник. – Шурин тянул стакан за стаканом, словно песок воду. Стоит ли после этого удивляться, что он слезу пустил!.. Ну, вы ступайте вперед, а я вас догоню!
Осенняя погода установилась чудесная. На заре выпадала легкая изморозь, однако стоило только солнцу избавиться от рассветной младенческой розовощекости, как оно изливало на мир тепло чуть ли не по-летнему щедро; под его знойными лучами таял иней, а отяжелевшие виноградные, ореховые и вишневые листья один за другим опадали на землю.
По жердям, подпирающим виноградные лозы, прыгала сорока, тряся хвостом, и оживленно трещала, что в равной мере можно было принять как за бессмысленную болтовню, так и за выражение удовольствия: наконец-то минула шумная пора сбора винограда, люди перестали сновать взад-вперед, нарушая тишину совершенно никчемной ружейной пальбой и грохотом винных бочек.
– Ну, вот мы и остались одни, – стрекотала сорока. – Те три человека, что иной раз сюда захаживают, – не в счет: к ним хоть на шляпу садись…
– Валяй, попробуй, Теч, – каркнул старый ворон, – а мы поглядим…
– Я всего лишь хотела сказать, что у этих людей нет при себе ружей, и сообразить такую простую вещь мог бы даже старый любитель копаться в навозе вроде тебя. – С этими словами сорока взмыла в воздух и опустилась на огромное ореховое дерево перед давильней дядюшки Йоши, стрекотом своим зазывая гостей.
Сорочий стрекот был слышен даже в подвале, и Цин-Ни с любопытством прислушался к характерным звукам, которые определенно предвещали гостей.
«Жаль, что Теч на всех реагирует одинаково, – думал Цин-Ни, который по случайному совпадению тоже был вдовцом. – Кое-какое разнообразие не помешало бы». Овдовел он недавно, однако внешне вдовство не сказалось на нем. Его подруга вышла на волю, желая полакомиться орехом, и не вернулась, потому что заглядывалась на орехи, вместо того чтобы внимательнее присмотреться к ореховому дереву, на ветку которого присела передохнуть пустельга. Минутой позже пустельга разжилась добычей, и таким образом наш Цин-Ни овдовел.
Оставшись в одиночестве, Цин-Ни не знал, чем заняться от скуки, и выгрыз в ящике такую норку, что она оказалась бы впору и многочисленному мышиному семейству. Управившись и с этим делом, он обошел из угла в угол всю постройку, которая с точки зрения человека считалась всего лишь маленькой хижиной, но мышке казалась бесконечно огромной. В давильне было довольно большое переднее помещение со спуском в винный погреб и комнатушка, единственное окно которой выходило на дорогу. Перед давильней, у большого орехового дерева, находилась обвитая виноградом беседка со столом и скамьей; позади росли сливовые и абрикосовые деревья и кусты астр; на этом и кончался участок, при котором, собственно говоря, виноградника не было. Виноградник как таковой представляла собою беседка, поэтому дядюшка Йоши со спокойной совестью мог сказать: «Отправлюсь-ка я к себе на виноградник», – и возразить на это было нечего. Беседка приносила бочонок вина, небольшой, но неиссякаемый, поскольку стоило ему тоскливо булькнуть на дне последними каплями, как священник с почтмейстером наперебой стремились утешить его, притаскивая с собою такие огромные оплетенные бутыли, которые можно увидеть лишь на фабриках уксуса или подобных предприятиях, имеющих дело с прочими несерьезными жидкостями.
Однако все эти тонкости вряд ли интересовали нашего Цин-Ни. Мышонком он какое-то время сторонился, даже страшился людей, но позже вынужден был признать, что это всего лишь изживший себя предрассудок. И после этого он стал буквально ждать появления людей, которые не только приносили съестное, но и вообще вносили в его жизнь приятное разнообразие.
И все же каждый раз ему приходилось перебарывать в себе этот застарелый предрассудок, и, прежде чем выйти из укрытия, Цин-Ни некоторое время подсматривал за людьми. Правда, подглядывать – занятие некрасивое, зато иной раз весьма полезное, а по мышиному своду законов – и вовсе жизненно важная необходимость.
Цин-Ни, как правило, спал днем, хотя это и не было законом, а здесь, в давильне, вообще не имело никакого значения. Сюда никогда не забредали кошки, не наведывались ласки или хорьки и не залетала ни одна из птиц, для которой мышиное мясо казалось бы лакомством или хотя бы приличной едой. Раз, правда, сквозь разбитое в уголке оконное стекло внутрь впорхнула синичка, облетела вокруг всю комнату, а затем – бум! – с маху ударилась о стекло, не будучи знакомой с его свойствами. Синичка страшно перепугалась, теперь уж ей было не до того, чтобы разглядывать комнату, она снова рванулась к окну, но налетела на стекло и рухнула на подоконник. Глаза ее затуманились смертельным ужасом перед неволей, и видно было, как сердчишко колотится где-то у горла. Синичка была до такой степени напугана, что не почувствовала страха, даже когда мышка прошмыгнула по оконной раме и остановилась у отверстия в стекле.
– Вот здесь ты можешь выйти, Цитер, – вежливо пискнул Цин-Ни, потому что, разумеется, это был он. – Но в другой раз примечай, в каком месте ты входишь внутрь, иначе не сумеешь выбраться обратно.
– А ты меня не тронешь? – растерянно поморгала синичка.
– Сразу видно, что ты родилась в этом году, иначе не задавала бы таких глупых вопросов. Отверстие находится здесь…
– Мне кажется, как будто здесь всюду отверстие, и все же я не могу пройти сквозь него. Никак не пойму, в чем дело.