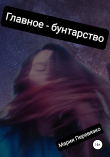Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Девушка опускается на колени. Она поникла всем телом, из глаз у нее льются слезы, с губ срывается едва уловимый шепот.
Монах тоже становится на колени; голова его покрыта капюшоном, глаза устремлены долу.
Исповедь длится недолго. Монах медленно выпрямляется.
– Ego te absolvo, – говорит он. – Отпускаю тебе грехи твои…
Он осеняет лоб девушки крестным знамением и тяжело поднимается на ноги.
– А с этим негодяем я еще потолкую по душам.
– Нет у меня к нему злобы… Ничего в душе не осталось… И ты не причиняй ему зла, святой отец.
– Пожалуй, ты права, Вера, – по некотором размышлении произносит монах. – Не печалься, все пройдет.
– Я не печалюсь.
– Ступай себе домой с богом… Вот увидишь, со временем все позабудется.
– Да, пойду домой…
Шаги монаха медленно удаляются по направлению к селу, а девушка все еще не поднимается с колен. Угли едва мерцают под пеплом, и лишь лицо девушки светится каким-то очищающим, возвышенным страданием.
Затем она встает и направляется к колодцу.
Тополь испуганно замирает, стихает ветер; из неизмеримой глубины колодца желтым оком взирает луна, но она не в силах удержать решившуюся на последний шаг девушку.
Раздается громкий всплеск воды, и опять все стихает.
Позднее из села доносится пение петухов, а еще чуть погодя ночной сторож нараспев оповещает:
– Ча-ас по полу-уночи-и!..
Ветер делает разворот и теперь заходит с севера, с холодным любопытством проносится над округой.
– Михайлов день, – подсвистывает он на лету. – Михайлов день… Я побывал во Времени и не могу забыть… Не могу уйти совсем и больше не вернуться…
– Только в эту пору… – как бы в утешение шелестит Бузина. – Только этой ночью.
– Давнее лето, давно минувшее лето… Сколько их было-прошло!.. – Как бы сам себе шепчет ветер. – Вернутся ли остальные?
– Тебе ли спрашивать? – вздыхает Бузина, которая из большого, раскидистого куста успела превратиться в дерево с мощным стволом. – Тебе ли об этом спрашивать, когда ты сам приносишь их из прошлого? Неужели ты не слышишь, когда приносишь их? Вот только ты почему-то не все минувшие лета возвращаешь из прошлого, выхватываешь то одно, то другое.
– Ты думаешь, я один? Нас, ветров, много – повсюду свой и в каждом месте разный. Летаем, носимся над самой землей и под облаками, сталкиваемся друг с дружкой, кружим вперемешку и разлетаемся прочь, в разные стороны, и все же мы – единое целое…
– Не отдохнуть ли мне в твоей кроне, Тополь, – устало шепнул под конец ветер и мягко опустился на тополиные ветви.
Внезапно наступила тишина, и теперь отчетливо слышался скрип колес тяжело груженной телеги и лошадиный топот. Шум постепенно приближался, и мягкий отзвук его угасал здесь, на площадке под развесистым деревом. Ветер притаился не шелохнувшись, и только листья порой слегка вздрагивали, напряженно прислушиваясь. Туман легкой дымкой окутал округу, но затем постепенно сполз в низину к камышам. И тогда развиднелось повсюду. Колодезный журавль, Тополь, Бузина – все они обрели тени, даже поилка, рядом с которой в лужице словно застыла луна; а в небе ярко засветились звезды.
Большая крытая повозка кряхтя тащила за собой свою тень, и вдруг – словно ей надоело надрываться – одно колесо у нее надломилось, и повозка встала под тополем. Лошади, чуя близость воды, поводили ноздрями, а под парусиновым пологом кто-то осторожно шевельнулся.
– Мари! – тихо произнес мужчина, обращаясь к кому-то в глубине повозки. – Вы спите себе, придется нам тут заночевать. Одно колесо надо будет поправить – если оно отскочит, то вся повозка завалится. В потемках да в одиночку мне с ним не управиться.
– Ах ты, господи боже! – шепотом вздохнула женщина.
– Хоть божись, хоть молись, от этого колесо лучше не станет. Спи-ка лучше!
– У-у-ух! – прокричал вдруг на вершине старого дерева какой-то небольшой филин. – Может, человек разложит костер? Я так люблю смотреть на огонь!..
– Ишь, разгалделся, как бы беды не накликал!..
– Тише, ребенка разбудишь!
– Отправлялся бы ты, сычик, на охоту! – зашелестела Бузина. – Без тебя у нас так тихо было…
Заслышав шелест, человек протянул руку назад и вытащил громоздкое, длинное ружье; тут сычик вспорхнул и скрылся в ночи.
Человек положил на колени ружье, достал огниво, и при свете одной-двух высеченных искр исследовал запал.
– Зябко мне, – прошептала женщина.
– Мне тоже не жарко. Пожалуй, разведу костер.
Мужчина осторожно положил ружье на облучок и слез с повозки.
– Ты пока оставайся тут, я тебя позову, как все готово будет…
Ветер шевельнулся в листве Тополя.
– Надо ему помочь, – прошептал он и принялся раздувать трут, который лишь дымил в руках человека, не в силах поджечь влажную траву, подсунутую под сухие сучья. Человек дул, а ветер ему помогал. И вот наконец затеплился робкий, слабенький огонек. Моргнул, вспыхнул и принялся лизать сухие листья, пробрался по ним и побежал дальше по веточкам растопки.
– Ну наконец-то! – человек поднялся от костерка. – Принесу еще веток, теперь в темноте хоть малость видно…
– Далеко не уходи…
Под Тополем и вокруг Бузины послышался шорох, возня, треск ломаемых сучьев, и вскоре мужчина притащил целую охапку наспех собранного топлива. Он торопливо подбросил веток в огонь, затем взобрался на облучок и положил ружье на колени.
– Не пугайся, – сказал он очень тихо. – Сюда идут. Я слышал шаги.
Послышался боязливый вздох женщины, негромкий щелчок затвора, а затем в круг света, отбрасываемый разгоревшимся костром, вошли трое. Пришельцы встали у костра и принялись греть руки, словно повозки тут и вовсе не было.
Дуло ружья медленно повернулось к ним.
– Не продаются лошадки? – спросил один из пришельцев; по сравнению с двумя другими парнями он казался постарше. Вопрос свой он задал так, будто обращался к огню.
Человек в повозке не ответил.
– Ружье-то и у нас имеется.
Женщина под парусиной дрожала всем телом.
И тут один из парней словно бы ненароком двинулся в тень, заходя к задку повозки. Лицо мужчины, сидящего в повозке, приобрело желтоватый оттенок, однако это было не выражением страха, а скорее проявлением ярости человека, решившегося на крайний шаг.
Незнакомец постарше грел руки у огня, а когда парень скрылся за повозкой, взглянул на другого своего спутника.
– Лошадей надо выпрячь, ежели они не продаются…
Дуло ружья поднялось кверху.
– Стой, не то убью! – яростно прохрипел хозяин повозки, и наступила тишина, исполненная столь глубокого напряжения, что даже слабое подрагивание парусины казалось нестерпимым шумом.
Лицо парня дрогнуло. Прикрывая страх какой-то отчаянной удалью, он шевельнулся было, чтобы выполнить повеление старшего, но вдруг остановился как вкопанный.
Из тени впереди повозки вышел худой, седоволосый старик. Остановившись в кругу света, он окинул взглядом повозку, взглянул на обоих людей у костра и тихо проговорил:
– Ступайте прочь.
Парень с облегчением вздохнул, но тот, что постарше, не торопился подчиниться приказу.
– Я было подумал…
Старик даже не взглянул в его сторону.
– Сказано вам – ступайте прочь…
И он направился к повозке. А парни со своим вожаком скрылись в темноте.
– Видать, я подоспел аккурат вовремя. Ружье можно спрятать, ведь мы вроде бы знакомы…
Сидевший в повозке человек отложил ружье в сторону, соскочил на землю и протянул старику руку, хотя уголки рта у него все еще подрагивали.
– Мы встречались в конторе…
– Верно. Ваша милость – новый мельник. – Старик пожал протянутую ему руку. – Ребята, видать, выпили лишку. Вот я ужо с ними потолкую.
– Да, эти лошади могли дорого обойтись им…
– Забудьте об этом. Мое имя – Петер. А еще и так кличут: старый Петер.
– Стало быть, это и есть Ценде? – спросил мельник.
– Оно самое.
Лицо мельника смягчилось.
– Иди сюда, Мари, погрейся, – обернувшись к повозке, позвал он жену, и опять обратился к старику: – Тогда мне велено вам кое-что передать.
– Я так и думал…
– «На лошади пашут, да рот ей не завяжут», – вот и все слова.
– Не завяжут – это уж точно!
– И вовек не завязать! Дай-ка фляжку, Мари, и подстилку какую-нибудь…
Женщина подает из-под полога фляжку и грубой шерсти одеяло, а затем и сама выбирается наружу. Она все еще дрожит, и лицо у нее совсем бледное.
– Никак, перепугались, ваша милость? Ничего, раз в жизни случается. Но только один-разъединственный раз! А потом хоть шелковые платки расстилайте на мельничной плотине. Ежели ветер не унесет, то никто другой к ним не притронется.
Люди мирно сидят на шерстяной подстилке, жарко пылает костер, ветер, глубоко вздохнув напоследок, уснул в кроне Тополя, и лишь Бузина время от времени тихонько шепчет что-то.
– Мельница новая, – говорит старик. – Жить вам на ней и трудиться до самой глубокой старости.
– А каков здешний управитель?
– С ним можно ладить. Конечно, ежели какой работник провинится, он и накричит, а под горячую руку и стукнуть может – не без того. Однако же расплачивается как положено, вина попросишь – и вина даст… Скотину в наших краях не угоняют. Цыгане как-то раз попробовали…
– Значит, не слишком придирчивый этот управитель? – допытывается мельник.
– Нет. Но на хорошую мучицу, должно быть, рассчитывает.
– Коли рассчитывает, так и получит.
– Ну, а ежели хозяйка к престольному празднику гуся пошлет пожирнее…
– Чего ж не послать! – кивает женщина. – И не одного, а двух гусей можно…
– А больше ничего и не требуется.
– Со святыми отцами как уживаетесь? – продолжал выспрашивать мельник.
– Нам приходится дело иметь только с ихним управителем. Ну, на рождество, на пасху да на престольный праздник, знамо дело, ходим к службе. Вам тоже по этим дням надобно в храме показываться…
– Уж конечно, – подтвердила женщина.
– Ну, а большего с вас и не спросят.
С лица женщины уже сошла неестественная бледность.
– Благослови вас бог, дядюшка Петер! – облегченно вздыхает она. – Не подоспей вы вовремя…
– Я вас у мельницы поджидал… Почему вы тут застряли…
– Колесо расшаталось. Не остановись мы, повозка могла опрокинуться. Да и дорогу я плохо знаю… а у нас дите малое…
Старик внимательно всматривается в темноту, словно увидел или услышал кого-то.
– Должно быть, старый Ферко, – поясняет он и негромко зовет: – Дядюшка Ферко!
Зашуршала трава, и из-за Бузины вынырнула какая-то фигура. Человек медленно приближался, опираясь на длинный пастуший посох, украшенный резной головой барана. И вот у костра остановился дряхлый старец с длинными седыми волосами, одетый в лапти и крестьянские порты. Его водянистые глаза невидяще уставились на огонь, а затем поочередно остановились на каждом из троих, сидящих у костра.
– Вечер добрый, – сказал он и как-то странно огляделся вокруг, даже обернулся назад, в темноту.
– Петер, сынок, не видал Веру?
– Разве она не домой пошла?
– Домой?..
– Куда же еще! Мы с ней вместе с ярмарки уходили. Она уже, должно быть, вернулась. А вы домой не заходили?
Старик перевел взгляд на огонь.
– Я думал, она тут, у колодца, – неуверенно сказал он.
– Чего ей тут делать!.. Дома она, больше ей негде быть, вас дожидается… Ужин, небось, перестоял, и Вера за вас тревожится, поди места себе не находит.
В глазах старика мелькнула какая-то робкая, печальная радость.
– Спасибо тебе, что надоумил старика! Храни вас господь, – он поднял руку в прощальном жесте и повернул прочь.
Все трое молча смотрели ему вслед, и лишь чуть погодя дядюшка Петер проговорил очень тихо, как бы в ответ на невысказанный вопрос мельника и его жены.
– Потом расскажу, – шепнул он, – а то старик иной раз подслушивает… Значит, колесо у вас отказало, – громко произнес он.
– Вот я и говорю, – подхватил мельник. – Запасное-то у нас есть, но мне не с руки было в потемках возиться, менять колесо. И дите жалко было со сна поднимать, да и с пути в темноте можно сбиться… Угодишь в болото, так на том и отъездишься.
– Все верно… Вот только как это мне на ум не пришло, вдруг да ребята подвыпьют где, а там и до беды недалеко.
Они помолчали. Женщина зябко вздрогнула, и мельник подбросил веток в огонь. Тополь изредка шелестел листвою, словно ветер, сонно вздыхая, переворачивался там с боку на бок.
– А с дядюшкой Ферко в молодые годы беда приключилась: зазноба его в этот колодец бросилась.
– Господи Иисусе! – в ужасе прошептала женщина. – Чего же колодец-то не закопали?
– А зачем его закапывать? Уж больно хороший колодец! Может, правда, воду из него тогда вычерпали. Давно это было, годов шестьдесят назад, а то и поболе. Я в ту пору пацаном был… Девушку ту похоронили, а Ферко на дочке старшего пастуха женился, потому как она впросак попала. Да и как было не жениться, ведь не простая девка, а старшего пастуха дочка!.. Хотя чего только бабы не наболтают…
– Свадьбу закатили пышную, а там и младенец вскорости появился, Верой окрестили, потому как дядюшка Ферко настоял. Жена, правда, против была, да оно и понятно: ведь ту девушку тоже Верой звали… Ну да дядюшка Ферко на крестины с топором явился. С того все и началось, а там покатилось хуже да хуже… Дочка его замуж вышла, но вскорости овдовела и вернулась в отчий дом. Тогда и дядюшка Ферко вроде бы малость поуспокоился и теперь знай бродит себе, слоняется. То тут, у колодца, то в камыши уйдет, а то по ярмаркам околачивается: все Веру свою прежнюю ищет. Ну, а раз дочку его тоже тем же именем кличут, вот ему все и говорят: «Дома она, дядюшка Ферко… Домой пошла…» С тех пор он и бродяжничать меньше стал, как знает, что Веру свою дома застанет… Обе они у него в голове перемешались, да, видать, не совсем.
Женщина засмотрелась на раскаленные угли, и на глазах ее выступили слезы: должно быть, оттого, что ветер тихонько спустился с Тополя и понес дым в ту сторону, а сам повернул к югу.
Трава вздрогнула и колыхнулась под ветром, в колодце раздался какой-то плеск: может, свалился комок земли, а может, бултыхнулась лягушка.
– Наверняка он и к вам на мельницу наведается. Надо сказать ему только, что Вера, мол, была тут, да домой ушла, тогда он успокоится и присядет трубку выкурить. В такую минуту нипочем не скажешь, будто не в себе человек.
– Я ему и поесть дам, – сказала мельничиха.
– Он принимает угощение и даже благодарит честь по чести… Ну ладно, я, пожалуй, пойду… Хозяйке вашей прилечь надобно, а я пришлю кого-нибудь, подсобить с колесом.
– Спасибо, дядюшка Петер, – поднялся мельник. – Не забуду вам этой услуги.
– Знаю!
Ночь вплотную прижалась к земле и качнула ветер. Под ветром зашумели Тополь и Бузина, всколыхнулась трава, и репейник у конца водопойной колоды с шелестом и свистом клонился в ту же сторону – к югу.
– Михайлов день… Лету конец… и этой ночи конец…
На безоблачном небе мерцали звезды.
Мельник наполнил поилку и подвел к ней лошадей.
Женщина посматривает на восток – не светает ли, но вместо желанного солнышка вновь появляются трое. Те самые лихие люди, что уже побывали здесь ночью. Глаза мельника сужаются в щелочки, но затем выражение его лица смягчается.
Один из пришельцев держит в руках колесо, другой – оглоблю.
– Доброго здоровья! – говорит тот, что постарше. – Вот, значит, и мы… Дядюшка Петер разнес нас почем зря…
Мельник медленно протягивает руку.
– Что было, то прошло!
Человек опускает колесо на землю и жмет протянутую ему руку.
– Меня зовут Габор, этого парня – Дани. А вон того – Рокуш. Имя диковинное, святое, потому как отец у него был из монахов…
Все смеются, а Рокуш снимает с шеи фляжку и сует в руки мельнику.
– Господин мельник, дядюшка Петер наказал передать, чтобы хлебнули по глотку в честь примирения. А еще велел сказать, что Габоров на свете пруд пруди, потому этого Габора Завиралой кличут… Есть у нас еще Габор Свистун да Габор Шляпник…
Мельник отхлебывает глоток, и работники отпивают по глотку, не больше, и молча улыбаются.
Габор указывает на Рокуша.
– Любит вечно языком молоть, будто проповеди читает. Не иначе, и впрямь у него отец монахом был. Ну, а теперь за работу! Господин мельник, а ваше дело – только за работой приглядывать.
Прочно залегшая ночь словно шевельнулась. Правда, пока еще темно, однако при свете угасающего костра холодным свинцом заблестела роса, и звезды мигают, словно борясь со сном.
Мельник остался один.
Лошади нетерпеливо постукивают копытами – не так, как когда их жалят оводы, а от холода.
– На мельницу мы не пойдем, – сказал на прощание Габор, – и тут нам незачем околачиваться. Езжайте прямо, как лошади стоят, а когда доберетесь до дороги с тополями по обочине, то сворачивайте направо. Тут не заблудишься, потому как дорога прямо к мельнице ведет, да там и кончается.
Мельник со всех сторон обходит повозку, затем берет в руки поводья и взбирается на облучок.
– Мари, поехали! Н-ну! – и он натягивает поводья.
Повозка со скрипом трогается, и удаляющийся шум ее замкнут двумя темными линиями, которые прочерчивают колеса на росистом лике ночи.
Костер всерьез задумывается, не погаснуть ли ему окончательно, однако то один, то другой конец недогоревшей ветки вдруг вспыхивает ярким пламенем, и прохладная темнота отскакивает назад, точно неожиданно вырвавшееся пламя обожгло ее.
С Тополя время от времени опадает на землю усталый лист; иной плавно и долго кружит, прежде чем улечься, а иной шелестя мечется из стороны в сторону, словно отыскивая себе дорогу среди ветвей и собратьев-листьев.
И этот шелест звучит совсем как сонный зевок.
– Все так оно и было, – вздыхает Тополь. – Время знает, что все так и было… и ночь тоже знает.
– И мы тоже знаем, – шелестит Бузина. – Только в одну ночь не вместить всех событий былого. Видишь, как запрокинулся ковш Большой Медведицы, и роса выпала… вот-вот светать начнет.
– Ш-шш, – остерегает ее Тополь, и все снова стихает, потому что у догорающего костра опять появился длинноволосый старец. Он стоит, смотрит на тлеющие угли, прислушивается к тишине, к негромкой перекличке удаляющихся колес.
Затем движется к колодцу, но останавливается на полдороге. Опирается подбородком на руки, а руки его покоятся на отполированной временем рукоятке посоха. Но смотрит старик не на колодец, а на лужицу возле колоды, в зеркале которой отражается молчаливо-отстраняющее сияние месяца. И в мутных, старческих глазах отсвечивает сейчас и эта убывающая луна, и бездонная глубина неба, и несказанная тоска…
– Вера, – шепчет старик. – Вера!
И, наклонясь вперед, прислушивается.
Повозка, чуть подскочив, свернула на дорогу, вдоль которой в рассеивающейся мгле угадывались тополя. Ровная поступь лошадей указывала на хорошо укатанный путь, а вскоре послышалось журчание воды, свободно стекающей у мельничной плотины.
Тополя присматривались к незнакомой повозке и головками пирамидальных стволов, устремленных к небу, кивали, подавая знак собрату-Тополю у колодца:
– Вот они едут… едут… Какой-то свет ждет их в доме.
– Какой свет? Я не вижу.
– Да тебе его и не увидеть, братец, потому что светится окошко внизу, со стороны плотины. Зато мы постараемся побольше увидеть и услышать, и ты тоже узнаешь обо всем.
Повозка катила дальше, и стоило ей поравняться с очередным тополем, как колеса начинали переговариваться громче.
– Какой-то свет виднеется, – сказал мельник, – наверно приехали.
– Ох, поскорей бы добраться, – зевая ответила жена. – Какое счастье, что дочка в тот момент не проснулась.
– Незачем ей знать про такие дела. Да и ты забудь начисто, поняла? Тут шутки плохи… Я смотрю, нас заметили: свет теперь по эту сторону переместился.
Лошади сами повернули к свету и сами стали. В дверях мельницы появился высокий человек со светильником в руках.
– Добрый вечер, – сказал он. – Я пойду впереди лошадей. Дорога к дому петляет. Лучше будет, если я покажу.
– Благодарствуем.
Снаружи шумит вода, но здесь, на мельнице, тишина молча пытается отыскать себе место. Мельница совсем новая, и предметы не успели тут обжиться. Балки треща потягиваются, мучной ларь зевает, обнажая пустое нутро, в комнате скрипит кровать, хотя никто и не думал на нее садиться, сквозняк гонит по мучному желобу забытую там стружку, и та с шуршанием катится вниз. Жернова в вынужденном бездействии давят друг на дружку и на толстую опорную балку, которая изготовлена в расчете на добрую сотню лет, а стало быть, у нее есть время кряхтеть и стонать, сколько душе угодно. Но балка и не кряхтит: она сработана из дуба и может выдержать на себе хоть всю мельницу.
В нижней части мельницы возле дубовых балок проходит толстая ось водных колес, приводящая в действие зубчатое колесо, а то – при помощи приводного ремня – дает жизнь всей мельнице.
Вода яростно пенится, потому что ее вынуждают падать вниз, а это ей непривычно, шумно, и не удается ровно стекать по желобу, ведущему к лопастям колеса; ей хочется показать свою силу, хочется своей стихийной мощью сдвинуть с места невообразимо тяжелое колесо, и тогда внутри урча-ворча заработает мельница.
– Только дайте мне себя показать! – шумит вода, а колесо делает вид, будто сопротивляется, и с поистине человеческой мудростью подставляет свои лопасти натиску водной стихии: борись и одолевай, ручей Кач, радуйся своей победе и не подозревай, что тебя заставили работать. Да тебе и не догадаться об этом: ведь ты никогда не увидишь муку – единственно ценный результат своей неверно истолкованной деятельности.
Мельницу уже опробовали, проверив, согласно ли работают все ее части, и подрядчик оставил на мельнице лишь мастера-каменщика – передать готовую постройку мельнику.
– Мельница ладно сработана, не осрамит нас, не подведет, – говорит мастер, когда они с мельником заходят сюда. – Вот и управляющий наведывался…
– Может, пустить воду?
– Конечно, отчего не пустить, – кивает мастер и выходит.
Мельник стоит посреди мельницы и чувствует под ногами привычную дрожь пола: вода вступает в единоборство с колесом. Силы напрягаются, тянут в одном направлении – точно вол под ярмом, а затем разбегаются в разные стороны, направляемые колесами, шарнирами, приводными ремнями, и вот уже – правда, чуть громче обычного, ведь пока что оно пущено на холостом ходу – приходит в движение все мукомольное устройство. Но этот шум стихнет, когда воронка будет засыпана дополна, и в этом изобилии захлебнутся жернова и желоба, а зерно пройдет свой последний путь, доверху заполняя пузатые мешки отрубями и мукой.
Мастер вернулся и теперь стоит рядом с мельником, внимательно прислушиваясь. Однако не слышно никакого лишнего шума, механизмы работают четко, ремни движутся плавно и колеса вертятся равномерно, безо всякого напряжения.
Мельник довольно кивает.
– Можно останавливать? – спрашивает мастер.
– Не надо. Пусть механизмы разработаются.
– Я ведь не зря говорил, что строили на совесть. Вот и управляющий сказал…
– Мне молоть на ней, а не управляющему…
– Оно верно… Ну что ж, тогда и мне пора. Благодарствую за гостеприимство, не стал бы спешить, кабы к утру не надо было в Сил поспеть.
Мужчины обмениваются рукопожатием, и каменщик выходит наружу, в спокойную темноту; какое-то время шум мельницы провожает его, затем мягкое урчание постепенно остается позади.
Мельник стоял в дверях, на том же месте, где они распрощались с мастером. Он прислушивался к сосредоточенной работе лопастей, вдыхал прохладный, пряный запах камышей и луговых трав, и ему подумалось, что место тут неплохое. Конечно, крепко придется потрудиться, ведь он – один работник на все-про все, но другими распоряжаться – тоже лишняя забота. Нет уж, никаких помощников ему не надо, он свое дело знает, и жена работать умеет. И умеет молчать…
– Это ты, Мари? – вгляделся он в темноту. – А я как раз о тебе подумал. Чего ты не ложишься?
– Не спится. Девчушку я уложила, а сама думаю, дай взгляну, чего вы там делаете…
– А ничего не делаем! Мастер ушел, мельницу я запустил, пусть себе разойдется. Затвори-ка дверь. Не озябла? А то я протоплю в маленькой комнате, стены еще не обсохли. Но надо признать, все сработано на славу.
Комнатка была пристроена в расчете на то, что мельнику может понадобиться помощник. Там стояли стол, кровать, скамья и был сложен открытый очаг. Небольшое оконце выходило к воде и к дому мельника.
На постели, должно быть, спал мастер, потому как сено плотно слежалось.
Отблески пламени теплым сиянием озаряли стены, а в черном зеркале оконца отсвечивал скромный огонек масляной плошки.
Ружье мельника было прислонено к стене. На столе заняли свое место кисет с табаком и трубка, которые мельник первым делом принес сюда.
Женщина присела на лежанку, а мельник принялся набивать трубку.
– Мне тоже сейчас не уснуть. Как рассветет, выгрузим скарб, и можно будет и вздремнуть. А потом наведаюсь к управителю. С будущей недели пускай подвозят зерно.
И вдруг перестал набивать трубку.
– Ну и ну! Неужто мы дверь оставили открытой? – он недоверчиво всматривался в темноту за порогом. – Мне послышалось, будто кто-то разговаривает.
Мельник так напряженно прислушивался, что даже рот слегка приоткрыл.
– А-а, это тот полоумный старик, – чуть раздосадованно проворчал он. – Есть у тебя что-нибудь ему дать?
Старый пастух к тому времени уже стоял в дверях.
– Бог в помочь! – поздоровался он и нерешительно огляделся по сторонам. – Веру не видели?
– Она была здесь, дядюшка Ферко, – поднялась со своего места мельничиха, – да мы ей сказали, чтоб не дожидалась. Мол, ежели вы сюда заглянете, мы скажем, что она вас искала…
– Славная девка, – улыбнулся старик и подошел поближе. – Куда я ни уйди, всегда меня ищет.
– Присаживайтесь, дядюшка Ферко, – сказала женщина и вопросительно взглянула на мужа. – Я сейчас приду…
Старик примостился на лежанке, а мельник сел на постель.
– Вот ведь какое дело… Я тут был с самого начала, как первые сваи забили и место для мельницы наметили. Ну, думаю, ужо расскажу мельнику, как мастера работали. Трудились не за страх, а за совесть, никак не придерешься…
– Вижу, кивнул мельник.
– Стало быть, довольны?
В комнате ненадолго воцарилось молчание.
– Оно и верно, все из камня построено, а не из самана… – глаза старика внезапно приобрели странное выражение, но затем он снова улыбнулся. – А Вера и в ту пору всегда меня разыскивала… Добрая девка… хотя она уже и не девка, а мужняя жена… – и он опять задумался.
Тут подоспела мельничиха, неся фляжку с вином, хлеб и кое-какую закуску.
– Найдется у вас ножик, дядюшка Ферко? Откушайте с нами, а то мы тоже проголодались… – она сделала знак мужу.
Старик уставился на тарелку с хлебом и салом.
– Не заслужил я угощение…
– Как это – не заслужили? Вы – наш первый гость, мы вас от всей души привечаем.
Мельник поднялся и, подойдя к двери, сказал:
– Пойду остановлю воду. А вы ешьте, дядюшка Ферко.
Ночь молчала, привыкнув к шуму новой мельницы и вбирая его в себя, но когда мельник закрыл шлюз, тишина плотным объятием охватила всю округу.
Все окрест застыло недвижимо, лишь верхушки пирамидальных тополей едва заметно подрагивали, передавая новости от дерева к дереву вдоль дороги, так что и наш Тополь узнал обо всех событиях, будто сам все видел и слышал.
Костер у колодца подернулся серой пленкой пепла, и последние струйки дыма истаяли в призрачном лунном сиянии. Снова зашумела вдали вода; судя по всему, мельник позволил ей стекать через свободный шлюз, и теперь бурный поток клокочет в ярости, видя, что колесо простаивает в лени и бездействии. А рядом с ним разгневанная вода сердито швыряет вверх-вниз отсвет робкого огонька светильника и лютует, оттого что ей надо мчаться дальше и не может она ни прихватить с собой, ни разрушить на месте этот упрямый крохотный язычок света. Мощный поток бессилен понять, что ему не подхватить и не уничтожить этот крохотный огонек, потому что на самом деле он находится совсем в другом месте и лишь отсвет его пляшет на пенистых бурунчиках воды.
Но затем и шум воды стихает. Неподвижно застывают пирамидальные тополя и Тополь с Бузиной, и кажется, что даже тишина оцепенела от предрассветной прохлады. Лишь сычик пролетел над лугом, но так тихо, что даже не слышны частые взмахи его крыльев. Он опустился на верхушку колодезного столба и застыл на мгновение, только глаза его блеснули.
– Конец! – прокричал он ночи, исполненной воспоминаний. – Конец! Ух-ху! – И с тем исчез.
Потревоженная ночь вздрогнула, и все видения исчезли, обратились в сон. Но где граница между сном и явью? Ведь любой сон может рано или поздно превратиться в реальность подобно тому, как едины пространство и время, способные иногда поворачивать вспять неизмеримо малые и необозримо великие волны своего течения.
– Конец! – сонным шепотом подхватил и ветер, словно только что примчался невесть откуда, а не отсыпался в кроне Тополя. – Ночи конец. Знаешь, старина Тополь, а про Михайлов день мне кажется, что все это – лишь сон… А впрочем, что знают дни о ночи?
– Ничего! – вздыхает Тополь.
– Ничего! – шепчет Бузина.
– Ничего! – помаргивают звезды, и кажется, будто легким инеем подернуты поля, а бледный серпик убывающей луны пышным, мягким шелком укрывают барашки облаков.
Со стороны села прилетел ворон. Уселся на верхушке колодезного столба, огляделся по сторонам, затем склонился, как обычно перед тем, как закаркать в полный голос, словно зябко подрагивающая округа ждала от него важных сообщений…
– Кар-р! – во весь голос закричал ворон. – Хор-рошо бы сейчас на солнышке погр-реться! Кар-кар-р! – оглядываясь по сторонам, опять возопил ворон; ему доставляло радость привлекать к себе всеобщее внимание. – Знаете, к чему дело идет?
– Кто же этого не знает, Ра! – сердито просвистел ветер. – Снег выпадет, а воду и землю скует льдом. Может, это только тебе в диковинку: ведь ты лошадиный навоз увидишь, а радуешься, будто гусенка нашел… – и ветер с такой силой ударил снизу по крикливому вещуну, что тот чуть не свалился со своего возвышения. Ворон, кляня ветер почем зря, оттолкнулся от колодезного столба, задел при этом шест, и ведро, раскачиваясь из стороны в сторону, загудело колоколом, а рассвет словно только и дожидался этого сигнала.
Предрассветный сумрак сдернул с огромного, молчаливого пастбища росистое покрывало, взмыл в воздух подобно гигантской летучей мыши и исчез в поднебесье. А далеко на востоке край неба начал светлеть; облака засияли, и вдруг – точно от вспышки – занялся, заполыхал, загорелся белый день.
Ночной туман поспешил укрыться в камышах, над ручьем вздымался пар, в кукурузе на дальнем конце пастбища сердито возмущался фазан, хотя так и осталось неясным, чего он бранился; впрочем, это никого и не интересовало.
В подоблачной выси пролетела к югу стая зябликов; по всей вероятности, это были самцы, поскольку у зябликов так заведено, что самочек с птенцами они загодя отправляют зимовать на юг Европы. С полузасохшей ивы путников провожает взглядом балобан, но это лишь праздное любопытство охотника, который успел набить себе брюхо. Под ивой разбросаны останки дикой утицы, так что зябликам вольно лететь куда им вздумается. Перышки дикой утки разглядывает ветер, ворошит их и по одному сдувает на воду, а ручей, качая на волнах, уносит перышки к югу. Рано или поздно он передаст их водам Капоша, тот в свою очередь – речке Шио, а та – Дунаю, и глядишь, перышки совершат водный путь до самого моря.