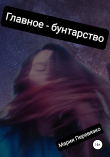Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Вино оно и есть вино, – изрекла тогда тетка Луйзи, которая вечно встревала со своими замечаниями, вот разве что в проповеди не вмешивалась: о них она высказывалась впоследствии.
– Не суйся, Луйзи, ежели не разбираешься, – оборвал ее дядя Миклош и наверное еще кое-что добавил бы, но тетка оскорбленной королевой выплыла из комнаты.
– Не обижай ты Луйзи, – умоляюще взглянула бабушка на сына. – Ты же знаешь, какая она чувствительная…
– А она пусть не лезет в дела, если ничего не смыслит…
Тут и бабушка выкатилась из комнаты… Я с такой ясностью видел перед собой эту сцену, что даже не заметил Петера, который, оказывается, искал меня в доме и явился сюда.
– Тетушка Кати говорит, ты урок готовишь…
– Как видишь…
Петер подсел рядом и заглянул в тетрадь.
– Что-то я ничего тут не вижу.
– Да я пока еще не написал…
– Знаешь что? Ты пиши поскорей свои прописи, а я пока схожу к Дерешам. Лаци уступает за пять крейцеров птенца горлицы. Клетку я уже приготовил, так что принесу птенца сюда, и мы его вместе покормим.
Петер ушел, а для меня теперь уже было естественным как можно скорее разделаться с чистописанием. Теперь, по крайней мере, было из-за чего страдать. Все посторонние мысли исчезли, а осталось одно желание: написать прописи скоро и красиво. Все осталось на месте: и ореховые деревья, и стол-жернов, и плети помидоров в огороде, – но больше они меня не отвлекали от дела, и также похвально вели себя «Витязь Янош», Илонины косы и красная жилеточка Терезы…
Раздражение против балатонских рыб и бадачоньских вин тоже улетучилось: передо мной была цель, и я к ней стремился. Правда, второпях Балатон в одном месте я написал с двумя «т», а из Бадачони у меня получился «Бадаконь», но ведь не следует забывать, что я занимался чистописанием, а не правописанием.
Тем временем в саду появилась бабушка. Ее присутствие очень мешало мне, но в конце концов я все же справился с заданием и, счастливый, отложил ручку в сторону.
Бабушка смотрела на прописи, но как-то невнимательно, будто они ее и не интересовали.
– К тебе тут приходил какой-то мальчик…
– Да, Петер!
– Кати говорит: он – чахоточный.
– Он – первый ученик в школе.
– Это прекрасно, но от чахотки не спасает. Скажи ему, чтобы не ходил сюда.
– Петеру?
– Ну конечно! Кати говорит, у них в семье все больные, а чахотка – болезнь заразная. Так что пусть лучше сюда не приходит.
– Петер – не приходит?! – глаза у меня тотчас наполнились слезами, однако бабушка, которая всегда все замечала, этого не увидела.
– Ну, если ты не хочешь, я сама ему скажу.
И впрямь сказала! Да-да так прямо в открытую и сказала, да еще и утешала его, а я сидел на каменной скамье, раздавленный, опозоренный, и рта раскрыть не мог.
Петер, прижав к себе клетку с горлицей, поплелся прочь, а для меня весь мир померк, и в саду запахло гусеницами, червяками и сырой землей.
Бабушку я невзлюбил окончательно и в тот день больше ничем не мог занять себя. Сначала я просто плакал, затем плакал и ругался, а под конец уже только ругался, исчерпав весь запас дядюшки Пишты, на редкость обширный и разнообразный…
А под вечер, когда бабушка с дедушкой вышли в сад проветриваться, я как следует отчитал тетушку Кати.
– Зачем вы Петера выдали? Теперь она запретила ему приходить в дом. Вот пусть только бабушка вернется…
– С чего бы это мне его выдавать, я только правду сказала, да и все, – пыталась отвести от себя упреки тетушка Кати. – Кто его, к бесу, мог подумать, что этакая незадача получится? Ну ничего, все одно они скоро уедут…
Эта слабая надежда меня несколько утешила, но тем не менее я сказал, что неважно чувствую себя и лягу.
– Постелите мне, тетя Кати!
– Вот увидишь, хуже будет! – сказала тетушка Кати, которая отлично изучила меня и поэтому ни на миг не поверила в мое дурное самочувствие.
– Меня знобит, – пустил я в ход испытанное средство. – И есть ничего не хочется…
– Мне что ж, я постелю, – сказала она, пожав плечами и ясно давая понять, что за последствия ответственности не несет. А я улегся в постель, и мне действительно было зябко, пока я не согрелся.
Но когда бабушка зашла меня проведать, я опять пожаловался на озноб.
Рука у нее была прохладная, как зимнее яблоко.
– Температуры у тебя нет, – определила она. – Значит, расстройство желудка. Попробуй уснуть, а вечером дадим тебе пустого чаю.
И она вышла из комнаты, которая без своей истинной хозяйки казалась пустой и неуютно холодной.
Чай мне бабушка подала самолично.
– Выпей, пока горячий, и прими слабительное. В таких случаях это единственное спасение.
А чуть погодя пришел и дедушка, неся перед собою трубку с длинным чубуком.
– Расскажите что-нибудь ребенку, – распорядилась бабушка. – Хотя трубке, конечно, не место в комнате у больного.
– А я так очень даже люблю табачный дым, в особенности когда дедушка на меня выдувает…
– Ну так и пусть выдувает, – бабушка оскорбленно поднялась и вышла, потому что курение считала приличествующим лишь в соответствующих условиях.
А дедушка принялся рассказывать мне об удивительных охотничьих приключениях, о знатных господах и браконьерах и даже о пиратском судне, которое всю ночь напролет преследовало их где-то в Красном море…
– Это там, где переправлялись иудеи?
– Ну, этого, сынок, я не знаю… А вот они в нас аж из пушки палили.
Дедушкиным хозяином был какой-то знатный господин; они охотились у берегов Африки, и в знак счастливого спасения от пиратов князь и подарил дедушке кольцо, украшенное синим камнем и монограммой, с которым старик никогда не расставался.
– Дедушка, а у вас тоже была пушка?
– Где там, у нас были только ружья, но зато мы и пустили их в ход. Когда пираты приблизились на расстояние ружейного выстрела, какой-то араб заорал с мачты по-английски, чтоб мы остановились и тогда, дескать, нас не тронут. Ну я подождал, пока он разорется во всю глотку, да как пальну по нему из ружья. Даже у нас на судне слышно было, как он на палубу грохнулся…
– А потом что было, дедушка?
– Потом они отстали, а мы прибыли в порт. Вот после того я и был назначен старшим лесничим.
Меж тем за окном стало смеркаться. Стены комнаты раздвинулись, и мы вместе с дедушкой охотились на вальдшнепов, диких гусей, козуль, и приключениям нашим не видать бы конца, если бы дедушка не выкурил свою трубку. Он предложил мне поспать и тогда, мол, к утру всю хворь как рукой снимет, а сам ушел.
Какое-то время я охотился в одиночестве, а затем голод все сильнее стал мучить меня. Охотники в дедушкиных рассказах ели баранью ляжку по английскому рецепту да бекасов и фазанов, запеченных в глине… Мой здоровехонький желудок с голодухи урчал на всю комнату, когда часам к девяти в комнату ввалилась тетушка Кати со словами:
– Ну, слава тебе господи, и этот день скоротали! Как ты тут?
– Голодный я, тетя Кати! Есть хочется прямо до невозможности. Принесли бы мне из кладовки хлебца да сала.
– Я-то бы принесла! – горько усмехнулась тетушка Кати. – Да где ключ взять?
Об этом я и не подумал, и сейчас голод, казалось бы, и без того нестерпимый, усилился еще больше.
– Все ключи на кольце висят. Притронешься – на весь дом затарахтят…
Но вскоре, должно быть, и до ее слуха дошли громовые раскаты моего желудка, потому что она вдруг подхватилась и, как была, в нижней юбке и босая, вышла из комнаты. Я нетерпеливо ждал, но и побаивался, как бы бабушка не проснулась, тогда нам несдобровать. Но ни она, ни дедушка не проснулись, а добрых четверть часа спустя беззвучно открылась дверь, и тетушка Кати положила мне на постель какой-то узелок и зажгла свечу.
– Ешь давай! Вот, раздобыла тебе. Мы тоже не лыком шиты…
– Как это вам… – начал было я.
– Как, как! Сбегала к соседке, говорю, мальчонка проголодался, а стариков будить неохота. Не станешь ведь сор из избы выносить, – добавила она. – Экий стыд, ежели узнают, что мальцу и поесть вволю не дают…
Я уписывал еду за обе щеки и с тех пор знаю, что вкуснее копченого сала с крестьянским ржаным хлебом ничего на свете не бывает!
Этого чувства удовлетворенности хватило и на следующий день. Ни свет ни заря я слетал к Петеру и условился с ним встретиться у Кача, после чего безо всяких усилий тридцать раз воздал хвалу Балатону и Бадачони, то бишь исписал требуемую страницу. К тому времени как дед с бабушкой появились на сцене, я предстал перед ними вполне излечившийся, хотя и несколько вялый: я напрочь забыл о принятом мною слабительном, и под утро мне пришлось мчаться в отхожее место, как на пожар. Но после того я настолько хорошо почувствовал себя, что мои опекуны еще не успели приступить к завтраку, а я уже уладил свою дневную программу и даже приготовил урок.
– Вот видишь, как хорошо, – сказала бабушка. – Одной заботой меньше, так что теперь можешь заняться каким-нибудь другим полезным делом.
– Я хочу пойти к Качу. Обычно мы всегда там играем…
– Что это за место?
– Долина Кача? – вытаращил я глаза, не зная, что на это ответить: Кач он и есть Кач. – Это очень хорошее место, там ручей, луг, ну и все такое… Мы играем там в мяч, – добавил я с интуитивной хитростью в надежде, что против невинной игры в мяч бабушка возражать не станет.
– А есть там кто-нибудь из взрослых присматривать за вами?
– Из взрослых? – испуганно переспросил я, в первый момент решив, что бабушка недопоняла истинное положение вещей.
Взрослые трудятся в поте лица, и им не до того, чтобы присматривать за беззаботно резвящейся детворой. Да и к чему? Ведь это пора их раздолья, их детства, и у самих ребятишек достанет разума остеречься. Ну, а если кого угораздит расквасить нос или порезать палец – поделом, в следующий раз будет умнее. И по правде говоря, в нашем распоряжении и не было опасных игрушек или игр. Утонуть в ручье было невозможно, костер мы разводили с осторожностью, и я не припомню случая, чтобы кто-нибудь из нас, даже свалившись с дерева, получил серьезные ушибы.
– Из взрослых? – еще раз переспросил я, оттягивая время, чтобы придумать ответ подипломатичнее и поступить с нашим времяпрепровождением, как с дышлом: куда поверни, туда и вышло. – Ну конечно же, есть там взрослые. Тетушка Дереш всегда отбеливает на берегу холсты, а другие женщины кто крапиву рвет, кто гусей пасет…
– Хорошо, я сама проверю.
Я покраснел было при этом ее заявлении, но затем вспомнил об укромном местечке за ивами, которое не видно с холма, и чуть утешился; ведь мне и в голову не приходило усомниться, выполнит ли бабушка свое намерение.
А она, конечно же, и не намеревалась выходить на берег Кача, но достаточно было тени страха коснуться моей души, чтобы удовольствие было испорчено и я как бы постоянно ощущал на себе надзирающее око бабушки.
Моя нервозность передалась остальным, и все утро у нас пошло насмарку. Я рассказал всей компании про бабушкины происки; в ответ на это Янчи отозвался о бабушке настолько непочтительно, что я не смею привести здесь его слова, но в наказание я затолкал его под воду и держал там, пока у него глаза на лоб не полезли.
– Дурак! – в сердцах произнес Янчи, отплевываясь. – Неужели ты думаешь, будто она и вправду сюда заявится?
Трезвость его суждения несколько привела меня в чувство. Мы вскоре примирились, но зато прослушали полуденный звон. Время тянулось подозрительно долго, и мы спросили у дядюшки Финты, косившего на лугу, который может быть час. Дядюшка Финта не спеша опустил косу, взглянул на небо, затем прикинул на глаз тень от косовища.
– Должно около часу, – сказал он. – Да и Банди давно звонил, к обеду приглашал.
– Мы не слышали, – выдвинул я аргумент в свое оправдание.
– Оно и не хитро. Ветер восточный, и орали вы как оглашенные…
«Батюшки-светы, – ужаснулся я. – Что ж теперь будет?»
Однако ничего страшного не произошло, но и обеда мне не досталось.
– Ступай туда, где был, – холодно проговорила бабушка, но, по всей видимости, даже не рассердилась. – Там тебе, может, и дадут, но здесь, покуда я живу в этом доме, обед всегда будет в полдень. Тетушке Кати отдых тоже необходим. Или ты об этом и не думал? Кстати, попроси у нее, может, она тебя чем-нибудь покормит…
В тот день, оскорбленный до глубины души, я обедал в кухне, но без сладкого.
– Слоеный пирог с ореховой начинкой она в кладовке заперла. А ты тоже хорош: неужто нельзя прийти вовремя? – распекала меня тетушка Кати.
– Да не слышали мы колокол, вот ей-богу! – отбивался я.
– Ну что ж, заварил кашу, теперь расхлебывай, – пожала плечами тетушка Кати.
Судя по всему, тетушка Кати рассердилась не на шутку, а это для меня уж и вовсе не желательно; потому я не стал на нее обижаться, даже более того, когда она после обеда собралась идти на чердак за кукурузой, я с готовностью вызвался ей помочь. Едва только я услышал, как в руках у бабушки звякнула связка ключей, у меня в голове тотчас зародился план…
– Я помогу тете Кати!
– Нужна больно мне твоя подмога!
– Пусть поможет, – вмешалась бабушка. – Добрым намерениям никогда нельзя препятствовать. Помоги тетушке Кати, детка, и ложись отдохнуть. А когда проснешься, получишь слоеного пирога…
Мы с тетушкой Кати полезли на чердак. У меня сделалось легко на душе, потому что прощение казалось полным и окончательно заглушило во мне чувство обиды и раскаяния. Я тоже простил – всем и полностью.
Когда мы взобрались по лестнице на самый верх, тетушка Кати остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд ее был не сердитый, но достаточно твердый, и я покраснел.
– Знаю ведь, что от тебя нипочем толку не добьешься, разбойник! А мне ох как хотелось бы допытаться, что у тебя на уме!
– Тетя Кати!
– Я ведь заранее сказала, что ты не признаешься… К нему всей душой, а он…
– Тетя Кати, богом клянусь…
Она зажала мне рот ладонью.
– Не божись и не клянись, не надо! – и отвернулась.
Этот усталый, отрешенный жест полоснул меня по сердцу. Мы стояли друг против друга, и я отчетливо услышал в тишине подбадривающий скрип старого кресла. Я схватил худую, жилистую руку старухи.
– Тетушка Кати, я все скажу!
Ее глаза широко раскрылись и вспыхнули – будто в керосиновой лампе вывернули фитиль, когда она услышала, что старые чердачные вещи – мои друзья и разговаривают со мной, как живые.
– Я так и думала, – она прижала руки к сердцу. – У тебя глаза, что у собаки. Вот и у старой хозяйки были такие! А ты посмотри, у деда твоего какие глаза…
Она погладила меня по щеке.
– Ты только никому больше не рассказывай. За меня не бойся, я свое дело знаю и – молчок. Ну, давай, подставляй мешок.

Я послушно подставил мешок, а когда мы спускались с чердака, подумал, что тетушка Кати, конечно, мне друг, как, скажем, старое кресло, но все тайны до конца она не знает. Мы закрыли дверь на чердачный ход, и я попросил у нее ключ.
– Я сама. – Она опустила мешок на пол и с громким скрежетом дважды повернула большущий ключ в замке; каждый, кому угодно, мог услышать, что замок закрыт на два оборота, как и положено. Но я следил за руками тетушки Кати. Ключ в замке действительно был повернут дважды, но один раз влево, а другой – вправо. Сердце мое дрогнуло, и я даже покраснел от волнения: дверь осталась незапертой…
Тетушка Кати лукаво покосилась на меня и прошептала:
– Верно я угадала?
У меня по спине мурашки забегали: ведь тетушка Кати совершенно точно угадала мое желание.
– Действуй с оглядкой!
В дальнем конце террасы стояла бабушка; она взяла у тетушки Кати ключ.
– Отдохни, Кати. Пишти тоже пускай ложится, на сегодняшний день хватит с него развлечений.
Итак, чердачная дверь на первый взгляд была заперта, но я-то знал, что меня в моем «рабстве» за этой дверью ждет свобода. И тетушка Кати предоставила мне еще большую свободу, придала большую достоверность тому миру, в который я верил иначе, чем в окружающий меня мир привычных и обычных вещей. Иногда эта вера становилась прочнее, иногда слабее, а временами оба этих мира странным образом смешивались один с другим. Но тем не менее их роднили общие черты: оба эти мира были подвластны бренности, и оба – с момента пробуждения моего сознания – были неопровержимой реальностью.
Правда, чердачная жизнь была таинственнее и прекраснее. Она немного напоминала летящего дракона на обложке сборника сказок, которые – как и письма в шкатулке – были написаны людьми отжившими. Письма эти в моих руках были реальностью, а когда заговаривали предметы, они говорили то же самое, что письма прабабушки или тетки Луйзи. А иногда и больше того.
Дни медленно, но верно шли один за другим, а я, улучив момент, пробирался на чердак, если только тетушка Кати не делала мне предостерегающий знак погодить. В таких случаях я шел в сад, откуда меня легко можно было дозваться – с чердака не всегда удавалось спуститься незамеченным, а если я долго не появлялся, бабушку это настораживало.
– Опять по-немецки тебя обсуждали, – шепотом сообщала мне тетушка Кати, которая за это время успела усвоить, что слово «Kind» имеет ко мне прямое отношение. – Побудь на виду хоть малость.
Приходилось околачиваться во дворе или в саду поблизости, где меня могли видеть. Я уж подумывал было прихватить с собой одно-два письма и вечером прочесть у себя в комнате, но шкатулка воспротивилась. И кресло протестующе заскрипело подо мною. Лишь нижняя юбка была бы не против…
– Нет, это недопустимо, – мягко заметила бывшая монашеская веревка; но посох дяди Шини отнесся к этому менее дружелюбно.
– Хороши же нравственные устои были у твоей барышни, если ты от нее набралась такого, – сказал он нижней юбке.
– Неприлично вмешиваться в дела барышни, – возмутилась юбка.
– Однако же барышня вмешивалась в личные дела Юли.
– Это совсем другое…
– Кость костью, а мясо мясом, – блеснул своей излюбленной поговоркой старый топор.
– Опять вы спорите! – гулко ухнул дымоход, и в прогретом воздухе чердака поплыл едва уловимый запах сажи. – Если шкатулка даст письма – это ее добрая воля, не даст – значит, быть по сему.
– Не дам, – с шумом качнулся замок. – Однажды я чудом открылся сам собой, но если мальчик заберет письма, то чудо может кончиться, и я захлопнусь. Впрочем, по-моему, мальчику уже расхотелось забрать письма с собой…
– Да, – робко промолвил я, – мне действительно расхотелось. Я и подумал-то об этом только потому, что нелегко сюда пробраться. Бабушка…
– Осталось три дня, – прошептал дымоход, – я сам слышал это вечером. Бабушка твоя уже соскучилась по дому. Лучше, говорит, за мешком блох присматривать, чем за этим мальчишкой.
Я обрадовался этой новости, потому что мне тоже надоело вечно быть начеку, хотя и грех жаловаться: эти последние три дня прошли так спокойно и гладко, словно под знаком примирения и прощения.
Подходила пора жатвы. По вечерам можно было слышать ритмичные вскрики косы, прижимаемой к точильному камню; они гулко отдавались среди домов, как эхо птичьей переклички в лесу. Сено уже свезли с полей, и несколько дней над селом витал его густой аромат. Но сейчас дыхание спело-желтых пшеничных полей овевало село, приводя на память дорогой каждому человеку запах свежеиспеченного хлеба, остывающего на холщовой салфетке.
Сад сделался пропыленным и увядшим, лишь по вечерам в нем вдруг ощущался укропный дух; яблоки наливались спелой желтизной и румянцем, а луна, разинув рот, плыла над селом, и весь ее путь по небу был сплошным удивлением, будто она сроду не видела отливающие золотом спелые поля.
Старики мои по вечерам теперь молчали еще больше, чем прежде, и догадаться о том, что дедушкина трубка еще горит, можно было лишь по запаху дыма. В этом безмолвии крылась грусть расставания с тем, что уже сделалось для них как бы привычным. Наверное, даже бабушка чувствовала, что эта сельская среда приняла бы их, если бы они того захотели, а жизнь, подогнанная по меркам городского комфорта, вроде бы и не казалась такой уж привлекательной.
Теперь и я без всяких усилий над собою просиживал вечера с ними; нас объединяла тишина, молчаливые воспоминания стариков, плывущий над селом колокольный звон и мягко перелетающие с места на место летучие мыши, собачий лай, сонный стук повозок и негромко оброненное слово на улице, которое могло быть знаком приветствия или подавленным зевком.
А когда бабушка тихонько говорила, что, пожалуй, пора ложиться, в ее словах звучала легкая грусть, словно на свете помимо стремления к порядку, строгой дисциплине и выполнению долга существовала и печальная старость, постоянно прощающаяся с жизнью.
Я прихватывал дедушкин охотничий стул и брал за руку бабушку, которая плохо видела.
И вечером, переговариваясь в темноте с тетушкой Кати, мы пришли к убеждению, что бабушка все же неплохая женщина, а уж лучше дедушки, пожалуй, не сыскать мужчины во всем комитате. Искренность этой оценки ничуть не снижают чаевые, полученные тетушкой Кати, и отмытая до блеска коляска, которая уже стоит наготове в сарае, чтобы везти гостей на станцию.
Вне сомнения, каждый простил другому все обиды, и на следующий день я с почти неприличной веселостью взобрался на облучок рядом с дядюшкой Пиштой, усы которого торчали, как бодливые рога. Я красовался в матроске и башмаках всем знакомым воробьям на удивление. Бабушка раскрыла зонтик от солнца, а я с независимым видом сидел возле дядюшки Пишты, словно считал такую степень утонченности вполне естественной.
Однако этой утонченности – по крайней мере во мне – хватило лишь до околицы. А там пошли тополя, элегантная утонченность которых была припорошена пылью буден, полетели навстречу пустельги и сорокопуты, сквозь кусты терновника проглядывали молчаливые поля, и тогда я расслабился и позволил вплотную подобраться к моему сердцу всем тем творениям природы, единственная и неотъемлемая утонченность которых состояла в том, что им не известно было это выдуманное человеком понятие.
– Вот это, я понимаю, ездка: за один раз всю семью прокатишь, – сказал на рассвете дядюшка Пишта, когда узнал, что другая бабушка приезжает тем же поездом, что и мои родители, и к этому же поезду мы должны проводить капошских бабушку с дедушкой, и вновь прибывшие в лучшем случае смогут помахать отъезжающим вслед, поскольку за одну минуту стоянки поезда ни на какие родственные излияния времени не выкроить.
Наверное, излишне говорить, что это последнее обстоятельство наполнило меня приятным чувством уверенности, ведь будь в распоряжении у родственников не одна минута…
– А как вел себя мальчик? – было бы первым вопросом.
Было жарко, ведь время шло к полудню, но я не ощущал полуденного зноя, точно солнце скользнуло по мне не задевая, коляска мягко укачивала на ходу, и все мое существо было пронизано каким-то невесомо легким, безымянным счастьем.
На станции все произошло так, как и следовало ожидать заранее. Капошские дедушка с бабушкой поспешно сели в один из первых вагонов, а отец с матерью и бабушкой в ту же минуту сошли с поезда, но в конце его, так что родные не могли даже помахать друг другу.
– Ну, какие тут у вас новости? – спросил отец у дядюшки Пишты, и пока тот обстоятельно пересказывал все важнейшие события нашей сельской жизни: хлеба нынче-завтра можно начинать косить, у Бодо корова отелилась двойней, дядюшка Финта вывихнул ногу, а Тереза Боршош пошла к старосте в услужение, – мы подъехали к околице села.
– Пишти не очень куролесил?
– Думаю – не очень, потому как старые господа им довольны были (я горделиво выпрямился, но при этом смотрел перед собой, как будто и не обо мне шла речь). Да и из дома он почитай что не отлучался, даром что не хворый был…
– Вот видишь! – сказал отец, и в его устах это была самая высокая похвала, на какую только можно было рассчитывать.
На этом разговор и кончился, потому что родные – судя по всему – не хотели обсуждать семейные дела в присутствии дядюшки Пишты.
Насчет тетки Луйзи с мужем бабушка коротко обмолвилась:
– Они живут хорошо, сынок. Все у них наладилось, дел, конечно, много, но ведь поначалу всегда так бывает. Лаци – закупщик, он очень ловко все раздобывает.
– И вино тоже?
На этот негромко заданный вопрос бабушка ответила с заминкой.
– Все идет как надо… – и я, не оглядываясь, видел укоризненный взгляд, брошенный ею на отца, после выразительного жеста в сторону дядюшки Пишты, и видел, как отец пожимает плечами, давая понять, что дядюшке Пиште про попойки дяди Лаци известно больше, чем всей семье вместе взятой.
В это время мы уже проезжали по селу, и я, как и дядюшка Пишта, выпрямившись сидел на облучке, явственно ощущая, что все село смотрит на нас, а точнее, на новую мамину шляпу, с которой крылатый зеленый коршун стеклянными глазами взирал в пустоту.
На другой день, не сказать чтобы спозаранку, но с утра я уже был у Петера, потому что бабушка никого не обошла своим вниманием. Дядюшка Пишти получил в подарок трубку и табак, тетушка Кати – красивую шелковую косынку на голову, а Петер – книгу сказок и две коробки леденцов от кашля. О том, что Петеру было запрещено приходить к нам, мы, как и условились с тетушкой Кати, естественно, говорить не стали: ведь у всех старух, как правило, одно на уме, и вдруг да и бабушке тоже втемяшится в голову, будто дружба с Петером чревата для меня опасностями.
Петера я застал в постели.
– Какая-то слабость у меня сегодня, – словно оправдываясь, сказал он, однако сборник сказок и коробки с леденцами вскоре помогли ему побороть слабость. У него дрожали руки, когда он перелистывал страницы; сегодня, пожалуй, сказали бы, что он был «без ума» от книг, хотя он попросту любил их, но всем сердцем и со всей жадностью своего пытливого ума.
Правда, леденцами он меня не угостил, и мне это было неприятно. Может, он думал, что мне тоже перепало? Мне действительно немало всего перепало, вот только о лечебных леденцах дарители, видимо, позабыли…
К тому времени как я вернулся домой, вся жизнь потекла по прежнему руслу. Отец в своей клетчатой домашней куртке завтракал, мама сняла свою новую шляпу, украшенную зеленой птицей, тетушка Кати плеснула свежего уксуса в мухоловку, лишь дядюшка Пишта, попыхивая новой трубкой, обкуривал свою конюшню дедушкиным табаком.
После завтрака я принес показать отцу уже исписанную страницу, и ему это было явно приятно.
– Вот видишь!.. – сказал он и чуть ли не вознамерился погладить меня, но затем передумал. – Жатва на носу, дел у меня невпроворот, так что уж с завтрашнего дня ты давай проверять урок бабушке.
Такой признак доверия растрогал не только бабушку, но и меня, хотя я и чувствовал, что теперь страница прописей для меня не урок, а дело чести, пренебречь которым никак невозможно.
В тот день я впервые почувствовал, что на людей, на село, на всю округу всей тяжестью навалилась летняя трудовая страда. Село притихло. Почти не слышно было скрипа повозок, зато иной раз уже после наступления темноты звенели отбиваемые косы, а женщины еще до полуденного колокольного звона несли на головах обед работающим в поле.
Воздух был пропитан одуряюще стойким запахом соломы, а в полдень ничего не стоило подумать, будто село вымерло, потому что единственным человеком, которого можно было увидеть на улице, был я: с огромным ключом от церкви степенно и важно брел я к колокольне, чтобы вместо дядюшки Деканя возвестить полдень…
И проделывал я это с отцовского разрешения, потому как дядюшка Декань тоже работал на жатве, а отец мой мудро считал, что жатва – это хлеб и важнее не может быть никакого другого дела в такую пору. А мальчонке время девать некуда…
Но вместе с тем – и тут ни у кого сомнений не возникало – это была и особая честь.
Особая честь и ежедневный экзамен моего умения, ведь колокол должен был звонить так, словно раскачивал его собственноручно дядюшка Декань: спокойно, размеренно, почти величественно и ни в коем случае не сбиваться и не частить, чтобы люди не вскидывали испуганный взгляд в сторону родного крова – не кудрявится ли грозный дым из-под крыши, давая основание набатному звону. За мою работу мне краснеть не приходилось: колокол в моих руках звучал благоговейно и умело. И хотя я опаздывал к обеду, никто не бросал на меня осуждающих взглядов, потому что всем были известны мои звонарские обязанности…
Конечно, дядюшка Банди передал мне свои обязанности всего лишь на несколько дней, пока не управился со своим небольшим участком, однако репутация моя за это время успела упрочиться. И мало было вероятности, что она пошатнется, ведь в эту пору и наши забавы у Кача почти прекращались. Во время жатвы даже грудные младенцы находились в поле, правда, в тени деревьев и под призором сестры или брата постарше, которым было наказано отгонять мух и сообщать матери, если младенец захочет есть или с ним случится конфуз… Младенец какое-то время таращился на листья дерева, сквозь которые проглядывало голубое небо и плывущие по нему любопытные облачка, затем изучал собственные ручонки, инстинктивно размахивая ими в воздухе. Затем личико его становилось серьезным, словно ему вдруг вспомнилось нечто весьма печальное, рот кривился, и, пискнув разок-другой для разгона, младенец заходился во всю мочь, жалуясь на голод поникшим от зноя и собственного изобилия полям и в первую очередь обливающейся потом труженице-матери.
Старший братец или сестрица и пошевельнуться не успевают, как мать уже опускает охапку колосьев на землю, а отец принимается точить косу.
– Не спеши, пускай дите наестся вволю. К вечеру мы так и так успеем.
И дитя наедается вволю! Над верхней губой засыхает капелька молока, и мать, возможно, думает о том, как жаль, что не послал бог двойню, тогда за один раз в семье было бы хорошее пополнение. И молока у нее столько, что двоим с избытком хватило бы… Мать утирает ротик младенцу и говорит старшему:
– Сейчас, как полдень прозвонят, обедать станем…
Кипит в полях работа, и все меньше остается несжатых полос.
А в долине Кача тоже многое изменилось. Отава еще не подросла, стебли щавеля стали твердые, как ремень кнута, – не угрызешь, а сам ручей до того обмелел, что лягушки не прыгают, а ползают в нем; тропа, такая мягкая по весне, сейчас вся затвердела и пошла трещинами, молодые гуси и внимания не обращают на ребятишек-пастухов, а те вскакивают лишь в тех случаях, когда какой-нибудь коршун вдруг начинает проявлять интерес к молодой гусятине.
– Кыш, кыш, проклятущий… – отпугивают пастушата хищника, суля ему всевозможные неприятности, которые принято лишь говорить, но осуществить еще никому не удавалось.
Коршун удаляется, пристыженный, а мы смотрим ему вслед, думая, что хорошо бы когда-нибудь поймать такую большую, красивую птицу. Он летит к мельничной запруде, и туда же направляемся и мы: Петер, Янчи и я. Мы почти не разговариваем, потому что солнце палит нещадно; тропа ведет нас вдоль берега канавы в камыши, затем, выбравшись из камышей, мы подходим к запруде и останавливаемся, потому что воды возле мельницы кот наплакал, да и пока туда доберешься, только взбаламутишь густой ил. Так что мы решаем искупаться в ручье, хотя с успехом могли бы сделать это и раньше, а затем валяемся в теплой, мелкой – по щиколотку – воде. Мне торопиться некуда, моя служба на колокольне кончилась; семья Петера уже кончила жатву, и Янчина тоже: земли у них мало, это самые бедные люди на селе. Мы то валяемся на бережку, то опять бултыхаемся в воду. Петер больше молчит, он вообще по натуре немногословен, зато Янчи болтает за двоих, он говорит без умолку, а я изредка вставляю реплики: «Ну конечно!» – или: «Ни за что не поверю!»