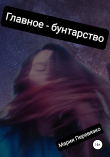Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Воздух затуманился от взметнувшейся кверху пыли, где-то неподалеку ветер хлопал чердачной дверцей, а та каждый раз судорожно всхлипывала.
В последнюю минуту запыхавшись прилетел воробей.
– Ух, как я торопился поспеть до дождя!..
Воробьиха не удостоила его ответом, но по глазам ее видно было, что вслед за бурей, бушующей снаружи, надлежит ожидать бури семейной.
Ветер временами врывался в сарай. Ката в таких случаях норовила еще плотнее прижаться к соломе, пиджак испуганно раскачивался из стороны в сторону, опасаясь, как бы ветром его не сорвало с гвоздя, и лишь тыква-цедилка весело перекликалась с ветром да бочонок гулко выводил какую-то старую, как мир, песню о винограднике, горе и любви…
– Э-гей, подружка! – с гиканьем обращался он к цедилке, когда в него особенно сильно задувал ветер. – Хоть и воровка ты была отменная, а все же я тебя любил! Стоило тебе, бывало, нырнуть в мое вино по самую твою длинную шею, и дело обязательно кончалось весельем и песнями. Давай, ветерок, задувай веселей во все щели-дырки, а то без тебя я как без голоса! Да и ты у меня внутри покрутишься – потише станешь.
– Так точно-с!.. – раскатисто пел в бочонке ветер и, пошатываясь из стороны в сторону, выбирался назад через трещину, распространяя вокруг приятный запах виноградной мезги.
– Будто стоишь во дворе у корчмы! – мечтательно скрипнула телега.
– Будто идет пир после убоя свиньи! – шевельнулось старое корыто, в котором прежде обдавали кипятком свиную тушу.
Даже осы и те загудели в гнезде у балки.
– Откуда этот приятный запах? – колыхались под потолком крохотные тени. – Обычно так пахнет во время сбора винограда.
– Алкоголь он и есть алкоголь! – осклабились грабли. – Что в нем можно найти хорошего?
– Глупости! – гневно загремел бочонок. – Тут и находить нечего, надо его просто любить, и вся недолга. Когда мое вино подходило к концу, то всех заедала черная тоска. Подвал затихал и так широко зевал от скуки, что впору было выкатиться из него наружу. Зато после сбора винограда, когда во мне поспевало вино, хозяин увивался вокруг меня как блаженный… Но конечно, та радость шла не от алкоголя, а от вина! От аромата, который рождается из сахара и солнечных лучей, из соков земли и света неба, из плавного течения дней и ночей, из благоухания цветов и плодов… Алкоголь вредит лишь тем, кто меры не знает; тогда он и в желудке бесчинствует, и в голове колобродит.
– Итак, запомните: не алкоголь, а вино! Чистое, доброе вино, душу согревающее и сердца примиряющее. Пейте, покуда приятно, и никакого вреда вам не будет… Поверите ли, в нашем подвале никогда не случалось пьяной ругани, криков, драк, зато сколько бывало задушевных бесед, умных разговоров, сколько песен старинных пелось, даже мышь, и та вылезала послушать, и никто ее не трогал: такой нерушимый мир и согласие витали под сводами.
– До чего же добрые, славные времена были!
– А нынешнее время, судя по всему, не такое доброе и славное! – кудахтнула курица, которая, как это свойственно матерям, трезво взирала на жизнь и к тому же никак не могла взять в толк, почему для всеобщей любви и согласия необходимо вино.
– Тебе и не понять, Ката!.. – пробурчал бочонок и хотел было еще что-то добавить, но в этот момент небеса взревели, как гигантский лев, пронзенный огромным раскаленным копьем. Затем все вокруг озарилось голубоватым светом молнии, настолько ярким, что даже здесь, в сарае, можно было бы сосчитать трепещущие нити паутины, а небо с грохотом треснуло, раскололось до самого дна.
Долгое время после этого только и слышался упругий шелест дождевых струй, затем – бульканье образовавшихся луж, а еще позднее – глухое урчание воды в сточных канавах на улице. Дождь разгулялся вовсю! Прибил пыль, разогнал ветер, залил водой полыхание молний, и теперь зарницы вспыхивали лишь вдалеке, в том краю, куда умчалась гроза.
Сумерки наступили сразу, и им на смену пришел вечер.
Разыгравшаяся поначалу грозная буря оставила после себя проливной дождь, но и тот стал стихать, по крыше сарая точно колотили миллионы крохотных молоточков, а вечер словно набросил на дверной проем черную пелену мрака.
Внутри все притихло, обитатели сарая зябко съежились, а затем размокли, раскисли, расслабились: студеная сырость текла и текла понизу, словно в двери сарая подняли шлюз. Бесформенная расползшаяся тьма сейчас прочно связала сарай с внешним миром. Однако темнота лишь внизу была пронизана леденящей сыростью; сверху, на уровне дверной притолоки, сарай сохранял сухое тепло.
И, защищенный этим собственным теплом, сарай все глубже и глубже погружался в тишину. Несмолкаемый шелест дождя действовал убаюкивающе, и в сарае мягко, исподволь, распростер свои крылья сон.
Затем наступило утро, пролетел день, пришел вечер, но за это время не случилось ничего примечательного.
Старухе пришлось кормить свою живность на крыльце, где на короткое время появились и Ката, и чета воробьев, но едва только хозяйка скрылась за дверью, Ката бегом припустилась обратно в сарай, а воробьи вернулись в гнездо под крышей. Куры, сонно нахохлившись, отсиживались в птичнике, а дождь моросил не переставая, словно небосвод затянуло тучами на веки вечные.
– Теперь можешь сколько угодно переворачивать свои яйца, Ката! – пискнула мышь, но ей никто не ответил; Ката еще на рассвете успела управиться со своим важным делом, а остальным просто нечего было сказать.
Яйца теперь уже полностью прогрелись и слились воедино с излучающим тепло материнским телом. Затем – кто ведает, в какой момент, – за твердой скорлупой, за тонкой оболочкой, за слоем белка и желтка, где-то в самой глубине зародыша что-то стронулось с места: запульсировала, забилась новая жизнь; ей можно дать название, истолкование, ее можно сфотографировать, увидеть на свет, точно замерить… но нельзя не поражаться этому извечному великому чуду природы!
Ката не отдает себе в этом отчета, но, вероятно, чувствует, в каком из яиц зародыш отзывается на биение ее сердца, а какие молчанием дают понять, что новой жизни в них не суждено пробиться.
И старая курица, не мудрствуя лукаво, согревает их своим теплом. Повинуясь неодолимому внутреннему побуждению, она испытывает ответственность за каждое яйцо до самого последнего момента, когда с абсолютной точностью выяснится, сколько жизнеспособных цыплят появилось на свет благодаря усилиям матери-наседки, качеству самих яиц и стечению обстоятельств.
Впрочем, до этого еще далеко. Живые, проворные цыплята – лишь отдаленная мечта, к которой день за днем быстротечное время несет сарай, Кату, ее гнездо и лежащие в нем яйца.
Пасмурная погода установилась на несколько дней, хотя заметно потеплело. Моросящий дождь на часок-другой прекращал свою монотонную работу, и тогда казалось, что посветлевшие облака вот-вот рассеются, но южный ветер вновь нагонял тучи, и опять начинал накрапывать дождь.
– После такой погоды все пойдет в рост! – удовлетворенно кивали люди, даже не выходя удостовериться за околицу, где посевы резали глаз яркой зеленью, а обнаженная грязно-бурая земля вдоль обочин была подернута нежной зеленоватой дымкой пробивающейся молодой травы. Кусты и деревья, омытые дождем, изготовились к весеннему свадебному пиру – оставалось лишь увенчать себя зеленым венцом; вороны исчезли, получив от гигантских тополей по берегам больших рек весточку, что пора приводить в порядок прошлогодние гнезда; зато на смену им прилетели жаворонки, и пение их лилось на землю вместе с дождем, тотчас обращавшимся в пар, ибо земля пресытилась влагой и жаждала солнца, жаждала человеческого труда.
А благое желание, от глубин души и сердца идущее, непременно оказывается удовлетворенным.
Появилось солнце, и появились люди.
Но первым, конечно, порадовало землю солнце!
Казалось, что прогретая земля сама оттолкнула от себя тучи, а те и не сопротивлялись: ведь даже слепому было видно, что в них больше нет нужды. Тучи и облака взметнулись высоко вверх, затягивая небо лишь легкой туманной поволокой, и солнцу ничего не стоило сверкающей метлой своих лучей вмиг размести их, и поток животворного тепла озарил всю округу.
Где-то звякнула мотыга, вдалеке запыхтел трактор, и после осеннего мучительного хрипа его голос звучал сейчас как победный трудовой гимн:
– Пых-пых-пых! Одно удовольствие, а не работа. Это вам не промерзлую грязь в ноябре перепахивать!..
Деревья и кусты наливались весенними соками. К полудню расцвел терновник, полопались почки и на садовых деревьях, и на поросли вдоль опушки леса, а в цветущей кроне ранней дикой черешни гудели пчелы, словно перебирая струны гигантской арфы – натянутые между землей и небом золотые нити солнечных лучей.
Тропы просохли, повозки, негромко, торжественно постукивая, катят по проселку; время от времени раздается чей-то возглас и мягко прокатывается над полями-лесами, подобно весеннему кличу пробуждающейся любви и материнства.
По дорожной колее неспешно бредет большущая майка. Крупная синяя жучиха пойдет, пойдет и остановится; может, подыскивает местечко, чтобы отложить яйца, а может, майка только что выбралась из-под земли в этот удивительно прекрасный мир, краше которого и вообразить себе невозможно. Вполне вероятно, что у этой синекрылой красавицы есть какие-то свои жизненные планы или мечты, которыми майка никогда ни с кем еще не делилась, да и не поделится.
Во всяком случае, она решает тронуться в путь – на свою беду.
Высоко в небе неподвижной точкой замерла пустельга, внимательно приглядываясь к пробуждающимся после зимней спячки насекомым; пожалуй, она и не заметила бы майку, замри та на месте. Но незадачливая майка бредет по дороге, а пустельга одним махом спускается как бы этажом ниже и опять повисает в воздухе.
Майка ковыляет как ни в чем не бывало.
Пустельга в свою очередь приспускается еще ниже.
Лучи солнца ложатся косо, и птица не отбрасывает тени, которая могла бы предостеречь жука.
Майка по-прежнему не спеша бредет по дороге, затем взбирается на край придорожной канавы: здесь, на возвышенности, больше света и тепла.
«Куда бы теперь податься?» – размышляет майка.
А пустельга складывает крылья и камнем падает вниз. Почти у самой земли крылья мягко расправляются, тормозят падение; птица выпускает когти, смыкает их – и с земными заботами майки покончено.
Солнце заливает мир безмятежным сиянием.
Травы молча набирают силу, бутоны раскрываются цветами, проросшие зерна разворачивают на поверхности земли робкие ростки и как бы взывают к своим пока еще чахлым и бледным отпрыскам: «Ну как, удалось вам пробиться? Теперь ваше дело – не сводить глаз с солнца, а мое – заботиться о вашем пропитании».
Жизнь идет своим чередом.
А вот для крапивы подобные материнские заботы уже позади. Она вымахала довольно высоко, налилась ядовитым зеленым соком и стоит на страже садов-огородов, словно зная, что, пока гусята еще не вывелись, она может позволить себе покрасоваться. Ведь потом придет кто-нибудь из женщин и серпом подсечет молодые крапивные побеги, потому что для гусят это – наипервейшее лакомство.
Но для этого еще не приспела пора.
Старая хозяйка в то утро спала крепким сном, а пробудилась от такого ослепительного сияния, что в постели было не улежать ни секунды.
В тот же миг перед ней возникли грабли, мотыга, мешочки с семенами – неизменные спутники оживленных хлопот на грядках. И, вместо того чтобы по своему обыкновению предаться неспешным утренним раздумьям, старушка подхватилась и, не успев опомниться, направилась было в пропитанный весенним благоуханием сад. Однако на крыльце ее подкарауливало нечаянное препятствие.
Перед дверью в ожидании причитающегося им завтрака выстроились все обитатели птичьего двора. Здесь же стоял Шарик, виляя хвостом, что должно было означать: за ночь не произошло никаких чрезвычайных событий, и теперь вполне уместно приступить к завтраку. На ступеньках приставной лестницы мяукала кошка, жалуясь, что она, мол, не решается спуститься из-за этого склочного пса, который вечно ее задирает, а так и с голоду умереть недолго…
Старая хозяйка едва было не рассердилась всерьез, однако бодрящий, напоенный весенними ароматами воздух не дал досаде разыграться; старушка отставила садовый инвентарь в сторону, насыпала птицам корм, а для собаки не пожалела даже такого исключительного лакомства, как ветчинная рулька. Затем хозяйка чуть ли не бегом припустилась в хлев, подоила корову, дала кошке молока и наконец-то устремилась в огород с твердым намерением изничтожить любого, кто посмеет встать у нее на пути.
Но кому было преграждать ей путь?
Шарик – держа в зубах косточку – учтиво проводил хозяйку и улегся в саду подле хижины, поскольку хозяйке явно было не до него. Она озирала огород из конца в конец с видом полководца на ратном поле, который еще задолго до весенней баталии продумал, где разместить артиллерию, где пехоту и где кавалерию; иными словами: где посеять мак, где посадить морковь, петрушку, помидоры, паприку, огурцы, тыкву… А в том, что победа обеспечена, ни генерал по имени тетушка Юли, ни ее верный адъютант Шарик, с наслаждением обсасывающий кость, не сомневались ни на минуту.
И тетушка Юли с такой любовью тянулась к рыхлой, прогретой земле, как, пожалуй, в былые времена – к колыбели сыночка, останки которого покоятся где-то на чужбине, в такой же мягкой и теплой весенней земле.
Солнце припекает, и Шарик уже дважды собирался уйти в тень, но так и лежит, не в силах пошевельнуться. Косточка, хотя мяса на ней не было с самого начала, источает аппетитнейший дух, пес совершенно сомлел от этого запаха и каждой клеточкой своего существа предается сладостной истоме и лени.
Впрочем, вскоре ему приходится раскаяться в этой лености: со стороны смородиновых кустов мягкими прыжками приближается жаба, по всей вероятности, вспугнутая старухой; однако последнее обстоятельство даже не приходит псу в голову. Жаба делает скачок-другой, затем плюхается на брюхо и ползет. Блестящая кожа у нее на горле вздувается и опадает – видно, что жаба тяжело дышит.
Шарик рычит, но зажатая в зубах кость приглушает его рычание.
– Ступай прочь, Унка! – колотит он хвостом по земле. – От одного твоего вида у меня аппетит портится. Даже к такой чудесной косточке душа не лежит.
– Откуда тебе известно, что брюхо у меня горьковатое и едкое на вкус? – моргает жаба.
– Слухами земля полнится… И мать когда-то меня предостерегала…
– Ах, вот как! – ехидно подмигивает жаба, а сама краешком глаза меряет расстояние до собаки и до густого кустарника, где в случае чего можно укрыться. В поведении жабы от прежней вялости и следа не осталось. Она наслаждается солнечным теплом, и в золотистом блеске ее выпуклых глаз мелькает лукавство, словно ей известно, что когда-то, в давние-давние времена собачий предок в отроческом неведении ухватил зубами точно такую жабу. Неокрепшие щенячьи зубы не причинили жабе большого вреда, зато жабьи железы выделили из себя жидкость – едкую, горьковатую, кислую и к тому же нестерпимо вонючую. Выплюнув жабу, щенок вывернул наружу содержимое своего желудка, затем выпил неимоверное количество воды, но даже у воды вкус был горький, и она тоже вызывала рвоту. Собака пыталась отбить этот привкус зеленой травой, но и от травы ее тоже рвало и рвало без конца, уже одной слюной… Стоит ли удивляться, что наш Шарик с бесконечным отвращением смотрит на жабу и не согласился бы к ней притронуться даже по строжайшему хозяйскому приказу!
Но вот знает ли об этом жаба?
Должно быть, кое-что знает, потому что с вызывающей медлительностью ковыляет она под носом у собаки, а Шарик мучается, не в силах подавить отвращение, хотя жаба уже давно скрылась под сенью кустарника.
Однако косточка источает соблазнительный аромат, а жаркие солнечные лучи вскоре испепеляют даже воспоминание о мерзкой жабе.
Шарик временами погружается в короткую дрему, не выпуская кость из зубов, и при этом напоминает старика, уснувшего с трубкой во рту: от блаженства у заядлого курильщика даже слюнка течет во сне.
Блаженствует и Шарик, не замечая, что по тропинке вышагивает кошка, изящно переставляя лапки, – точь-в-точь жеманная деревенская красотка, перебирающаяся через грязь. Кошка внимательно смотрит на спящего Шарика, и устремленный на него кошачий взгляд исполнен такого глубокого презрения, что пес зашелся бы от ярости, если бы видел это. Но, по счастью, он спит и ничего не видит.
Проснувшись, пес чувствует, что все же недурно было бы перебраться в тенек; после минувших пасмурных, прохладных дней невозможно сразу привыкнуть к такому ослепительному сиянию и палящему зною.
Солнце стоит уже высоко. Под его щедрыми жаркими лучами растет и расцветает все живое, а сухие ветки и прошлогодняя листва съеживаются и усыхают еще больше. Достаточно оказалось первого же солнечного утра, чтобы зазеленели все деревья, оделись цветущим убором ветви, хотя эта ранняя зелень напоминает нежную зеленоватую дымку, а белые головки цветов еще не успели сбросить с себя оболочку бутонов.
Намокший стог сперва курился облачком пара, расставаясь с памятью о затяжных дождях, а сейчас подсыхающие соломины с чуть слышным хрустом распрямляются и укладываются привычными рядами. Этот хруст немного похож на потрескивание огня, а сам стог словно источает аромат свежего, теплого хлеба; можно подумать, будто солнце со своей непомерной вышины шлет сюда воспоминание о прошлом урожайном лете.
Но в стогу есть и укромное, тенистое местечко: старая хозяйка обычно выдергивает снизу солому то на подстилку корове, то на растопку печи. И в этой выемке образовалось уютное прибежище для собаки, которая – как всем известно – целую ночь напролет несла сторожевую вахту и честно заслужила покой.
Итак, Шарик спит – но не совсем крепко, потому что у собаки, если, конечно, она не очень старая, сон всегда чуткий. Псу что-то снится: лапы у него дергаются, будто он гонится за кем-то, и при этом он тихонько тявкает во сне, но тявканье это такое далекое, точно выходит откуда-то из глубины незапамятных времен и загадочного царства сновидений.
Кость валяется перед собачьим носом в пыли и, по всей вероятности, еще испускает какой-то запах, потому что ее облепило целое сонмище мух. А мухи – существа настырные, в особенности, если на кости можно учуять хоть след собачьей слюны. То одна, то другая резвая муха взлетает время от времени на разминку, сделает в воздухе круг и снова опускается на кость или на собачий нос, потому что он тоже влажный. Если же нос у собаки не влажный, то не иначе как она заболела: сухой нос – признак повышенной температуры. Однако излишне было бы тревожиться о здоровье Шарика, он не болен, а если и горит, то от ярости; разбуженный наглыми мухами, невыспавшийся, с налитыми кровью глазами, он тупо рычит. И на кого, как думаете? На Кату, которая направлялась в сарай, к своему гнезду, и не сумела прошмыгнуть мимо собаки незамеченной.
Курица и собака не спускали глаз друг с друга.
– Чем я тебе не угодила? – испуганно кудахтнула Ката.
– А, ерунда! – Шарик слегка вильнул хвостом в знак явно миролюбивых намерений. – Я ведь не знал, что это ты сидишь в кузове, а мне непременно надо было выяснить, в чем там дело. Правда, ты меня клюнула в нос, но я зла не помню: зло грызет того, кто его в себе держит.
– Спасибо, – застенчиво отвернулась курица. – Знаешь, там так темно, в этом сарае, я тебя не признала и со страху совсем потеряла голову…
Шарик теперь уже в некотором нетерпении молотил хвостом по земле и скучающе пялился на понурую голову курицы, которая якобы была потеряна ею.
– Не остынут ли твои яйца?
– Мне кажется, я не заслужила, чтобы мне напоминали о моем прямом долге. Так что можешь не беспокоиться: я их тепло укрыла…
– И правильно сделала! – Шарик широко зевнул, обнажив свои устрашающие клыки. – Молодец! Ну, а теперь… – он опустил голову на лапы и даже глаза зажмурил.
– …Яйца я укрыла, ведь сейчас их особенно надо беречь, – продолжала Ката. – По-моему, только одно-два из них окажутся испорченными… А может, и ни одного. Вот уж удивится потом хозяйка…
– Она была в саду, – сонно причмокнул пес. – А сейчас возвращается сюда…
– Куд-да – сюда? Что же ты меня раньше-то не предупредил? – И Ката поспешно скрылась в темной глубине сарая.
Настал час, когда на гумне, по-весеннему оживленном, опять все притихло. Куры купаются в пыли у забора, солнце стоит в зените, тень от колодца провалилась в саму колодезную глубину, а вокруг прогнившего водопойного желоба роятся усталые пчелы: пьют воду и отдыхают после трудов.
Шарик спит, но кость он счел за благо держать в зубах, и мухи взволнованно трепещут крылышками в раздумье, сесть ли на выступающий конец косточки или лучше поостеречься.
Ката уселась в гнезде; раскрыв клюв, она тяжело дышит, запыхавшись от спешки; да и жара ее донимает, к тому же добавляют тепла заботливо прогретые ею яйца.
Сарай окутан тишиною, одни балки потрескивают иногда: толстый слой замшелой соломы на крыше испаряет впитавшуюся в него дождевую влагу и тем самым облегчает свой вес. Лишь полуденное спокойствие гнездится сейчас на крыше, но оно ведь не имеет веса…
Осы негромко гудят в ячейках большого гнезда, однако то один, то другой труженик в желтой робе вырывается на залитый солнцем простор, а другие возвращаются на его место с пропитанием или строительным материалом. В дверном проеме мелькнет на миг их желто-черная униформа, но маленькие сборщицы тотчас тонут в полумраке, и лишь равномерное жужжание прочерчивает их трассу к гнезду.
В верхних слоях воздуха царит сухое тепло, но внизу соломенная труха все еще влажная, и по ней беззвучнее обычного мечется крохотная тень. Мышка обнюхивает все подряд, от помягчевшей сапожной кожи до шрапнельной гильзы, и наконец встает на задние лапки, что означает у мышей либо признак довольства, либо растерянности.
– Цин-цин! – задумчиво произносит мышь. – Знать бы только, в какой стороне околачивается эта проклятая кошка.
Мыши никто не отвечает ни словом, ни движением – ведь любое малейшее движение может служить и ответом; только вдруг в темной глубине сарая сверху падает какая-то белая крупица, всего-то размером с ноготок, но мышь бросается к нежданной добыче со всех ног, обнюхивает ее, вертит в лапках и даже пробует на язык.
– Все лучше, чем ничего! – издает она благодарный писк и помаргивая смотрит вверх, на воробьиное гнездо. – Уж на скорлупу-то мог бы и не скупиться, Чури.
Отец воробьиного семейства сидит, важно выпятив грудь, и лишь немного погодя чешет клювик в знак ответа.
– Всему свой черед! – напыщенно изрекает он, будто по меньшей мере золотое зерно обронил из своего непотребно захламленного и вонючего гнезда. – Не сдирать же с птенцов скорлупу насильно, подсохнет – сама отвалится…
– Ну, теперь крика-писка не оберешься! – сокрушенно присвистнула коса.
– Приманят сюда кошек и хорьков со всей округи!
Вы и сами догадались, что эти жестокие слова произнесли, цедя сквозь редкие зубья, грабли и были чрезвычайно довольны собой, увидев, что у мыши глаза застыли от ужаса, а у Каты встопорщились перья…
– Птенцы сейчас пищат повсюду! – зачирикал в ответ воробей. – Гнезд полным-полно в каждом сарае, под каждой застрехой, у любой балки… Ни хорьков, ни кошек столько не наберется, чтобы всех птенцов переловить…
– Ничего, каждому достанется! – не унималась беззубая злючка, но тут уж Ката решила не давать спуску.
– Может и выйдет по-твоему! – сердито клокотнула она. – Но и ты добра не жди, вот только улучу минутку и не поленюсь наступить на твою беззубую челюсть. Завалишься здесь, перед дверью, и старуха, как тебя увидит, наверняка прихватит на растопку. Туда тебе и дорога…
– Поделом этой старой забияке! – едва слышно стукнула телега, потому что за время сырой, прохладной погоды все шпунты у нее ослабли и трещать не было мочи. – Ката права!
– Подумаешь, уж ничего и сказать нельзя! Хочешь сделать как лучше, предостеречь желаешь!.. – смутились грабли. – А Ката могла бы и припомнить, кто именно спас ее в прошлый раз от изгнания…
– Ха-ха-ха! – разразился смехом бочонок, в него по нечаянности залетела оса, нанюхалась винных паров и, пьяно жужжа, тыкалась по стенкам в поисках выхода; ее-то голосом и воспользовался бочонок, потому что сам от природы был безголосый.
– Ха-ха-ха! Лети кверху, малышка, там найдешь пролом в обруче, если хочешь выбраться наружу. Хотя мой тебе совет не торопиться домой. Лучше проспись, чем в таком виде перед царицей показываться. Женщины на этот счет вообще народ щепетильный, а уж царицы и подавно… Среди нашей братии царей да цариц отродясь не бывало, только маленькие бочата и большие бочки, и тот считался первым, в ком напиток был благороднее…
– Опять нализался! – прошептали грабли.
– А хоть бы и так, тебе что за дело, старая ведьма! От злости вся высохла, как палка! Нализался я, видите ли!.. Тебя забыл спросить, карга беззубая!.. Давай, малышка, держись правее и выберешься… Хотя, конечно, жаль с тобой расставаться: уйдешь и унесешь мой развеселый голос…
– Пьянчужка окаянный!
– А по-моему, он очень здраво рассуждает! – пиджак опять провис складками, потому что сырость из него улетучилась, весь он сделался легче, и пропала боязнь, что ненароком можно сорваться с крюка. – На редкость разумные речи, разве пьяный мог бы так трезво рассуждать! Помню, мой старый хозяин иной раз хлебнет, бывало, лишнего, и тогда от него таких связных слов и не дождешься, зато…
– Не будем отвлекаться! – свистнула коса, призывая всех к порядку. – Такой спор надо пресекать единым махом: бочонок рассуждал по справедливости, а грабли злопыхательствовали…
– По своему обыкновению! – пискнула мышь.
– Верно: по своему обыкновению! – подтвердила коса. – Но грабли – мой собрат по ремеслу, поэтому прошу Кату хорошенько обдумать свое намерение опрокинуть грабли…
– Граблям тоже не мешало бы обдумывать свои слова! – чирикнул воробей. – Хотя нас этим не напугаешь…
– Тебе легко рассуждать сверху! – кудахтнула Ката и хотела еще что-то добавить, но в этот момент на дверной косяк упала тень, и весь сарай замер в молчании.
В дверях стоял Шарик, сдержанно помахивая хвостом.
– Думаю, дай загляну на минутку, – как бы говорило это его движение, – Кату проведаю, раз уж она отогнала от меня сон, да и мухи все равно не дают заснуть.
Сарай затаился, мышка стремглав метнулась в нору, а пес направился к плетеному кузову, где Ката с весьма умеренной радостью поджидала незваного визитера.
Шарик встал на задние лапы, обнюхал гнездо и все вокруг него и одобрительно вильнул хвостом.
– Все в порядке, Ката! При ночном обходе загляну и сюда разок-другой, так что ты спи спокойно. Да и мышь пусть не беспокоится; передай, что я видел, как она убегала, только ведь меня не проведешь – запах-то мышиный я чую. Но мышь для меня – слишком мелкая добыча и ничтожный противник, не связываться же с ней такому испытанному борцу, как я. Зато кошку, если тут застану, разорву в клочья, а если учую запах хорька, то приведу подмогу: есть у меня одна приятельница – большая мастерица хорьков, ласок и крыс ловить. Правда, ноги у нее чуть кривоватые, но уж такая она уродилась, ничего не поделаешь. Зато во всем остальном весьма симпатичная дама…
С этими словами Шарик удалился, но на прощание поприветствовал дверной косяк, подняв заднюю ногу.
Косяк лишь через некоторое время пришел в себя от возмущения.
– Ну что за глупая привычка! – сердито скрипнул он. – И уж хоть бы оставлял свой след не каждый раз в одном и том же месте!
– Шарик – молодец! – шевельнулась, отстаивая свою точку зрения, Ката. – Теперь у меня на душе гораздо спокойнее.
– И у меня тоже! – пискнула мышь. – Он обещал не трогать меня. Только бы вел себя поумнее и порасторопнее.
– Ум и доброта редко сочетаются, это каждому воробью известно! – чирикнул Чури и вымел из гнезда целую кучку яичной шелухи.
– Ой, до чего добрый наш Чури! – пискнула мышка без всякой задней мысли, и все в сарае, включая сердитых ос, весело улыбнулись. Ведь мышь не вдумывалась в двойной смысл своих слов, а Чури тотчас клюнул на похвалу и впрямь уверовал в собственную безграничную доброту.
Но, возможно, улыбка расцвела оттого, что солнце стало клониться к закату, и золотистое сияние, устремленное навстречу сумеркам, озарило глубину сарая, где все предметы жили своей жизнью, и в этом сиянии сонмы крохотных, невесомых пылинок резвились, колышимые токами тепла.
Теперь даже прелая соломенная труха на полу сарая просохла окончательно, а теплая, рыхлая земля на грядках приобрела светло-бурый оттенок.
Деревья кажутся глазу явно зеленее, чем утром, но и белизны в их кронах прибавилось: развернулись новые листочки, а бутоны уступили место цветам. Предзакатные тени уже вытягиваются в длину, сладостно дурманящее ликование цветов волнами перекатывается под сенью деревьев, небольшая группка ос, посланных со специальной целью, внимательно обнюхивает место порушенного гнезда, чтобы установить, улетучился ли запах дегтя; пчелы запыхавшись спешат к дому с шариками цветочной пыльцы на ножках; выпученные жабьи глаза горят азартным охотничьим блеском, и стоит какой-нибудь ничего не подозревающей мухе или комару пролететь перед местом засады, как жаба молниеносно подхватывает добычу языком и заглатывает ее.
Движения старой женщины, работающей в огороде, становятся усталыми, медленными, наконец она подпирает щеку ладонью и говорит сама себе:
– Ну, чего ты надрываешься, Юли? Кому теперь это нужно?
И в сгущающихся сумерках печаль тенью скользит по земле.
Ночь выдалась тихая, звездная, и рассвет не заставил себя долго ждать: над нежной дымкой тумана вдоль восточной кромки неба вспыхнула яркая заря. Ката теперь все старательнее переворачивала яйца. Прошли добрых две недели с тех пор, как она начала насиживать, хотя старой курице, конечно, было невдомек, что значит «две» и что такое «неделя».
Она не умела мерить время, но чувствовала его и чувствовала, что в яйцах под ее облезлым животом все сильнее бьется, пульсирует жизнь. Старая наседка застывала иной раз в такой позе, словно прислушивалась к чему-то внутри себя – даже голову склоняла набок.
Сама не зная почему, Ката радовалась, что луна между тем пошла на убыль, а стало быть, детеныши ее появятся на свет в новолуние: ведь всем известно, что выводить цыплят в период убывания луны – никчемная затея. Откуда курице знать, что такое «суеверие», а значит, и суеверной Кату назвать нельзя, но ведь достоверный факт, что под зловеще-красноватым светом убывающего месяца не рождается на земле ничего хорошего, доброго, здорового.
Село с наступлением темноты наполнилось звуками: пыхтение моторов раздавалось даже в тот час, когда на небе уже высыпали звезды, по улице громыхали телеги, во дворах мычала скотина, водопойные желоба с плеском наполнялись водой. Но этот слитный гул сельской жизни отнюдь не напоминал галдеж или разгульный шум, он походил скорее на какое-то глухое урчание, негромкие раскаты которого терялись где-то в полях за околицей.