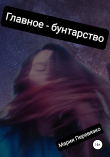Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
– И вовсе я вас не боюсь…
Это выказанное храброй мышкой дружелюбие было неотделимо для меня от голосов старых вещей, которые словно бы звучали во мне и в любой момент могли зазвучать снова.
Мышка вылизала свою шубку и решила пригладить редковатые усы.
«Ничего не стоило бы ее поймать», – подумал я, и в ответ на это тотчас скрипнуло кресло…
– Нельзя! Как только пошевелишься, сразу же вернешься в обычный мир…
«Да, конечно, – подумал я. – Но мне вовсе не хочется шевелиться, и, пожалуй, я и не смог бы…»
И опять возникло удивительное ощущение, будто бы и эти свои мысли я услышал произнесенными вслух.
– В свое время я всласть полакомилась мышиным мясом, – заговорила сорока, вернее, сорочье перо. – И мелкими раками на морском побережье – ведь я родом оттуда.
– Будто мы не знаем! Неужели никто из вас не может сообщить что-нибудь новенькое? Видно, и впрямь тут подобрались одни тупицы! – сердито трепыхнулись оленьи рога. – Помнится, когда мы украшали лоб своего хозяина…
– Тоже мне – новенькое! – сухо прошелестел шелком старый зонтик. – Сейчас пойдет опять рассказывать, как его несравненный венценосный хозяин дрался и всех побивал своими рогами, пока злая пуля не оборвала его королевскую жизнь. А истина в том, что никакой он был не венценосный, а обыкновенный дряхлый олень, умерший от старости в заповеднике. И рога свои сбросил с горя, что былая мужская краса его теперь никому не нужна…
«Ах, зловредина», – подумал я, и зонтик тотчас откликнулся с укором:
– Друг наш мальчик, разве я что неверно сказал?
– Все верно. Но я бы этого говорить не стал. Лучше уж ложь во спасение, чем губительная правда. Правда она правдой и останется, даже если ее не высказывать вслух.
Настала долгая, ничем не нарушаемая тишина, и лишь позднее из толстой книги в кожаном переплете высыпался комочек истонченной в пыльцу бумаги.
– Мальчик прав, – прошелестели старые, пожелтевшие страницы. – Кто там разберет, что правда, а что ложь. Тут только Время может рассудить, а мы ему не указ. Сегодня правда одна, а завтра – другая…
– Пус-стая трес-скотня! – присвистнула погнутая капустная сечка. – Когда я была еще саблей…
– Косой ты была, а не саблей, – негромко звякнула шпора. – И на твоем месте я бы этого скрывать не стала. Поверь, что хлеб косить – ничуть не менее славное занятие, чем людей убивать…
– А помалкивать – куда более мудрое дело, чем языком болтать, – огрызнулась сечка. – Сразу видно, что тебя дальше сапога не пускали. Прежде чем стать косой, я была саблей.
– Нашла чем хвалиться! – осуждающе прошелестела шелковая нижняя юбка, которая валялась брошенной на крышке одного из чемоданов. – Никто не знает, что сейчас в моде?
Наступило молчание; лишь потертая воинская фуражка сделала такое движение, будто кто-то под нею горделиво подкручивал ус, да скребок для чистки обуви подрагивал тихонько, словно кто-то счищал об него грязь с подошв.
– Я недавно попал в эту почтенную компанию, – проговорил скребок.
– Мог бы сказать: в музей! – проскрипел ржавый напильник. – Тут никто не обидится…
– Давайте послушаем, что скажет скребок, – вмешались гусарские штаны. – Меня дамская мода интересует…
– Да, я недавно попал сюда, и если учесть, что я взирал на мир снизу, то, думается, мне есть что сообщить на эту интересующую вас тему.
– Да не тяни, говори скорее, – нетерпеливо прошуршала нижняя юбка, – не то я на пол свалюсь от любопытства…
– Словом, барышня юбка, ситуация такова, что нынче нижних юбок не носят!
– Жаль! – воскликнули гусарские штаны.
– О чем тут жалеть? – досадливо скрипнуло прабабушкино кресло. – Не носят, и ладно…
– Прошу прощения, – решили оправдаться штаны, – но вопрос должен быть рассмотрен с двух сторон.
– Ну и разглядывай, коли не лень!
– Вот и хозяйка его такая же грубиянка была, – гулко отозвалась старая кастрюля с отломанными ручками, тоже решив вступить в разговор. – А кто груб, тот не прав.
– Если мне позволят, – просипел кран, – то я мог бы поделиться новостью, хотя всего год, как я здесь…
– Значит, и новость свежая, – заметила шляпная картонка, устраиваясь поудобнее.
– Во-первых, сейчас среди нас мальчик…
– Нашел чем удивить! – качнулся деревянный конь. – Да я его давным-давно знаю, на мне он учился качаться. Помнится, я раз даже сбросил его, но за дело: он мою роскошную гриву выщипывал.
– Кран прав: конечно, это новость! – стукнуло ножкой старое кресло. – Ведь сегодня мы позволили мальчику видеть и слышать нас или, во всяком случае, верить, будто он видит и слышит. Разве это не новость?
– Ага! – гулко отозвался кран. – Я тоже так считаю. Но вообще-то я хотел рассказать вам историю, которую слышал от старой жабы.
– Давай рассказывай! – прокатилось по всему дымоходу, и я только сейчас сообразил, что вместе с потолочными балками и гладко вытоптанными кирпичами пола он тоже входит в эту тесную компанию.
– Мальчик сунул жабу в карман и унес ее в комнату. Жабе это не понравилось, хотя мальчик бережно положил ее в постель.
У меня кровь в жилах похолодела, но прабабушкино кресло успокаивающе скрипнуло:
– Важна цель, а не сам поступок! Продолжай дальше!
– Старой жабе не так уж плохо было на новом месте, но потом кто-то улегся на нее и завизжал на весь дом. Жаба говорит, что такого отчаянного визга не поднимала даже та большущая крыса, которую поймала кошка Нуци и едва смогла одолеть… Эта тетка вскочила с постели как ужаленная и визжала, визжала, не переставая…
Кран умолк.
– Правда это, малыш? – спросило старое кресло, но словно бы заговорила моя прабабушка, с которой мы никогда не виделись.
– Правда! – признался я.
– И за что ты ее так?..
– Она оскорбила мою мать… сказала, будто дедушка обкрадывал графа, и чего, мол, ждать от мельникова отродья… – перечислял обиды я, и глаза мои были полны слез.
– Не плачь…
– …И будто мама глупая и необразованная…
– Кто была эта особа?
– Сестра моего отца.
– И ты только одну жабу подложил ей в постель?
– Трех, – едва слышно выдохнул я.
– Молодец! – одобрительно скрипнуло старое кресло. – Мельниково отродье! Как им не надоест эта старая песня? Эй, гусарские штаны, слово за вами! Отвечайте нам, бравые, красивые гусарские штаны: какова была мельникова дочка?
Штаны выпрямились и напряглись, как на параде, а весь чердак заполнила такая плотная тишина, что я чуть не задохнулся.
– По правде говоря, – донесся ответ, – это была достойнейшая из достойных, самая благородная женщина, какую я когда-либо видел!
– Можешь идти домой, сынок, – скрипнуло старое кресло. – На сегодня хватит, но помни, что мы тебе всегда рады, если один пожалуешь…
Даже когда я спустился на террасу, все лицо мое еще было залито слезами облегчения, и я радовался, что меня никто не видит. Я умылся над водопойной колодой и лег подле соломенного стога, чувствуя себя бесконечно слабым и усталым. Но спать мне не хотелось. Тело мое мягко утопало в золотистом ложе, ноздри щекотал запах лежалой прошлогодней соломы, и, кажется, в этот миг я был счастлив. Я чувствовал себя невесомо легким, и солнце пронизывало меня насквозь, давая мне тепла ровно столько, сколько его жаждало мое существо. Мысленно охватив весь минувший час, я убедился вдруг, что чердачные тайны стали для меня такой же повседневной реальностью, как вот этот забор и старая яблоня возле него, которая ежегодно приносила одно-два яблока размером с маленькую дыньку. По осени отец каждый раз решал срубить ее под корень, а каждой весной неизменно говорил:
– Жаль старушку. Глядишь, она этот год и соберется с силами…
Заговори сейчас яблоня со мной, я бы ничуть не удивился, но где-то глубоко в подсознании прочнее и неумолимее любых клятв и заверений утвердилось решение никому не рассказывать о том, что я видел и слышал. Даже бабушке, которая была мне верным другом. Нет, об этих вещах нельзя говорить вслух, потому что, обидевшись на мою несдержанность, они в тот же миг обратились бы в ложь или глупые бредни. То, что я видел и слышал, могло оставаться реальной действительностью лишь до тех пор, пока безраздельно принадлежало одному мне.
У меня с ними установились примерно такие отношения, как с дядюшкой Цомпо, большой сад которого простирался под бабушкиным окном. Дядюшка Цомпо был кузнечных дел мастером, но в кузне теперь всеми делами заправлял его сын, а бывший кузнец переключился на пчеловодство.
По вечерам я всячески старался укараулить момент, когда дядюшка Цомпо раскуривал трубку и пламя спички на миг выхватывало из темноты его лицо, руки и уголок пчельника. В таких случаях я всегда кричал ему:
– Спокойной ночи, дядя Цомпо!
– Доброй ночи, сынок!
Спичка гасла, и больше ничего не было видно, но я знал, что старый мастер там, в темноте, курит свою трубку, что он есть и существует, хотя его никто не видит и не догадывается о его присутствии.
Примерно так же обстояло у меня и с ожившей чердачной рухлядью. Лишь я один видел те вещи и слышал их разговоры, я и никто другой, но они были столь же реальны, как дядюшка Цомпо, курящий трубку в темноте.
И эти незримые видения оказались важны для меня, важнее всего прочего, ведь я и думать забыл о бабушкиной шкатулке, об открытом замке, хотя в тот момент, когда он так неожиданно распахнулся передо мною, проникнуть в его тайну казалось мне самым важным и спешным делом на свете.
На другой день я уже спозаранку слонялся по террасе, чтобы, улучив момент, прошмыгнуть на чердак, но на беду меня увидел отец.
– Мы собираемся в лес за палой листвой, – сказал он. – Хочешь с нами поехать?
– Еще бы!
– Не «еще бы», а «спасибо, папа»!
– Да… спасибо…
– Тогда залезай наверх, вдруг по дороге птицу какую красивую увидишь. А сумеешь определить, что это за птица, то считай, будто она – твоя.
Отец был любителем птиц и старался привить эту любовь и мне, в чем и преуспел, – не считая одного-двух случаев, когда я соблазнился заманчивым экспериментом.
Я вскочил на грохочущую повозку, и, вздымая пыль, мы вылетели за околицу, на проселок, и невозможно было поверить, будто каких-то несколько месяцев назад по пути к железной дороге мы увязали здесь в грязи по самые оси.
Утро стояло безоблачное, листья тополей, почетным строем вытянувшихся вдоль дороги, едва колыхались под ветерком, а над грохочущей повозкой с криком носились пустельги. Какое-то чуть заметное мерцание переливалось над пшеничными полями, и мне казалось, будто я вдыхаю в себя аромат всего края, цветущих лугов, созревающих хлебов, тополей. Как жаль, что я тогда не понимал, насколько счастлив бывает человек от этого пьянящего чувства свободы и раздолья!
Нужный нам лес находился неподалеку, и когда, миновав изъеденный гусеницами боярышник, мы попали в тенистую дубраву, пропитанную густым, терпким ароматом, я позабыл даже о чердаке…
Незнакомые птицы на все лады щелкали, ухали, заливались звонкими трелями, их голоса эхом отдавались в старом лесу; сквозь деревья, подобный золотистому меду, струился солнечный свет, а под колесами шуршала палая листва. Едва повозка остановилась, кобыла Торопка, расставив ноги, решила помочиться.
– Эх ты, – укоризненно сказал отец, – уж не могла справить свою нужду дома…
«За дело он ее», – подумал я, сочтя поведение лошади крайне неприличным; мне и невдомек было, что отца заботит понапрасну пролитое естественное удобрение.
Мною взрослые не занимались.
И насколько же они были правы! Как благодарен я им за то, что мне было позволено оставаться ребенком! Меня не воспитывали, не поучали, не одергивали каждую минуту и по любому поводу. Мне предоставили возможность быть тем, кто я есть, и часы учения-назидания не торчали камнем преткновения посреди цветущего луга моего ребячьего одиночества…
Дубрава была очень старая, по ней ни разу не проходился топор, поскольку у церкви в других местах хватало лесных угодий и деревьев для рубки. Наш участок тоже принадлежал церкви. Лес занимал, должно быть, всего несколько сот хольдов – невелика ценность, и все же когда тридцать лет спустя я очутился в тех краях и не обнаружил и следов старой дубравы, у меня было ощущение, будто я утратил полмира.
Но в ту детскую пору я бродил по лесу в каком-то сладостном упоении; оно было сродни чувству, охватывавшему меня в церкви, если я находился там один, или на чердаке…
Отец граблями сгребал листву, дядюшка Пишта сваливал ее в корзину, я же собирал дубильные орешки, а затем уселся у кряжистого старого дуба и созерцал окружающий мир.
Лесной простор, пронизанный токами воздуха, солнечными лучами и густыми тенями, был так не похож на внутренность церковного храма с его запахом прохладного камня и святой воды или на чердак, пропитанный запахами деревянных балок, пыли, старой одежды, свечного сала, мышей и хлебного зерна, – и все же у них было много сходного.
Благоговейное одиночество порождало и мысли под стать, давало почувствовать всевластие Времени.
По сучковатому стволу мощного дерева вверх-вниз безмолвно сновали муравьи, повинуясь какой-то только им известной цели; на одно и то же место время от времени садился шершень, разведывал что-то необходимое и снова улетал прочь; а когда спина моя, казалось, слилась воедино с древесным стволом, откуда ни возьмись вдруг прилетела сойка, опустилась на землю и, неподвижно застыв, принялась внимательно разглядывать меня.
– Смотрите-ка, да это мальчик! – как бы говорил ее удивленный взгляд. – Ты меня не тронешь?
«Даже будь у меня ружье, я бы не причинил тебе вреда, – подумал я. – Хотя вы, сойки, – мастера по чужим гнездам разбойничать».
– Верно, – птица согласно кивнула и хохолком встопорщила на голове перья. – Осоеды промышляют осами и пчелами, дятел не дает прохода червякам, ястреб охотится на других птиц, а от аиста нет покоя лягушкам, но самый опасный из всех разбойников – человек… Хотя ты, похоже, не такой?..
– Я и впрямь не такой…
– Какие странные у тебя глаза… Можно мне подойти поближе?
– Я не трону тебя, красивая птица… Я не причиню тебе вреда, потому что люблю тебя.
Сойка несколькими прыжками подобралась совсем близко ко мне.
– Птенцы у меня, – она поморгала своими блестящими глазками. – Забот с ними хватает, но скоро они вылетят из гнезда. А отца их загубил ястреб…
«Презренный убийца», – гневно подумал я.
– О нет, – сойка почесала клювом грудь, – просто ястребу хотелось есть. А супруг мой выбрался в поле: нарушил закон и погиб.
– Пишта! – позвал меня отец, и сойка упорхнула. – Ты что, уснул? Оно и не мудрено, от густого запаха в лесу всегда в сон клонит…
– Я не спал. Тут прилетала сойка, красивая такая, чуть ли не на колени ко мне уселась. А ее друга ястреб схватил…
– Ты сам это видел?
– Нет. Просто она одна была, вот я и подумал…
– Глупости какие! Сойки и не летают парами… Садись-ка в конец повозки и придерживай большую корзину, чтобы листья не высыпались.
Я сидел чуть не по шею в мягкой, сухой листве. Повозка грохотала, и убаюкивающий лесной аромат тянулся вслед за нами к дому.
По возвращении домой отец сказал мне:
– Принеси из подвала две бутылки вина. Справишься с таким поручением?
Слов нет, поручение действительно было почетным для меня.
– Справлюсь, – ответил я и, преисполненный сознания собственной важности, гордый отцовским доверием, спустился в подвал. Ступеньки, ведущие вниз, были сродни чердачным, но в то время как те, прогретые солнцем и посеревшие от сухой пыли, задорно карабкались вверх, эти, потемнев от сырости и недостатка света, степенно уходили в темную глубь подвала.
Бутылки, вытертые насухо и до блеска, в мгновение ока были готовы к доставке наверх, но я не спешил уходить отсюда: с подвалом так же, как и с чердаком, нельзя было разделаться походя. А сегодня и подавно: ведь посреди подвала я увидел не кого иного, как ту огромную жабу, которую отец прошлым летом выбросил из окна в сад дядюшки Цомпо после того, как обнаружил ее под подушкой у тетки Луйзи, куда она попала, должно быть, чисто случайно…
– Ума не приложу, – удивлялся отец на другой день, – как могли забраться эти лягушки к Луйзи в постель? Не иначе как через окно…
Зато мне это очень хорошо было известно, и сейчас я растроганно смотрел в золотистые жабьи глаза.
– Значит, ты вернулась на свое место? – не в силах скрыть удивление, спросил я. – Долго же ты сюда добиралась?..
– Перезимовала я на пасеке, – моргнула жаба. – А потом дядюшка Цомпо меня оттуда вытурил. Куда же мне было податься?
– Ну и ну!.. И ты только что вернулась?
– Этой ночью. Мне пришлось быть осторожной: под свиным хлевом хорек поселился, душегуб кровожадный… Но сюда он не придет.
– Можно, я расскажу о нем взрослым?
Жаба закрыла глаза.
– Все равно тебе не поверят…
И все же я выдал эту тайну отцу, который, кстати сказать, похвалил меня за вытертые до блеска бутылки.
– Вот ведь можешь же ты быть аккуратным…
Осмелев от непривычной похвалы, я сказал:
– А под свиным хлевом хорек завелся…
– Во сне тебе, что ли, привиделось?
– Нет, я и вправду видел хорька под балкой…
«Если жаба обманула, – подумал я, – то вышвырну ее из подвала». Но я уже давно успел убедиться, что животные никогда не обманывают. Не в пример людям…
В то утро я так и не выбрался на чердак, потому что отец придумал мне другое задание: он вышел из кладовки с мощным железным капканом и вручил его мне.
– Неси к навозной куче и как следует смочи его в жиже, а потом пусть подсохнет.
Когда капкан высох, отец смазал его гусиным салом, затем насадил на один из зубьев капкана куриное яйцо, и мы осторожно двинулись к хлеву.
– Вон там, – показал я на то место под балкой, где видел, правда, не хорька, но крысу.
– Вполне возможно, – кивнул отец, – ведь хорьки – они и на крыс охотятся.
– У него была такая красивая, блестящая коричневая шкурка, а глаза черные…
– Вот теперь я тебе верю, – сказал отец, и конечно же не догадывался, что теперь я и сам в это поверил: в конце концов, с меня станется приврать, а уж старая жаба врать не будет.
В тот день после обеда я с такой осторожностью поднялся со старого дивана, что бабушка даже не проснулась.
На кухне – ни души, терраса тоже была безлюдна, а дверь на чердак открылась с такой легкостью, точно ее подмазали.
– Проходи, пожалуйста, – шепнула она. – Как видишь, если надо, я могу и не скрипеть. Мышка мне все про тебя рассказала…
Вступив в застарелую, пропитанную ароматами лета тишину, я на мгновение замер, как зверь, прежде чем войти в лес. Я стоял, явственно ощущая вокруг себя настороженность.
Но затем из-под кресла выбралась мышка.
– Входи, мальчик, – взглядом позвала она меня. – Видишь, я тоже вышла из укрытия. Здесь была кошка, но услышала твои шаги и выпрыгнула из окна.
– Рыжая кошка?
– Она самая, – как будто бы ответило кресло, потому что спинка его чуть подалась назад. – Приделай к окну решетку, тогда она не сможет лазать сюда. Я люблю кошек, в особенности пока они маленькие, но рыжей кошке тут делать нечего. Может, присядешь?
Я с удовольствием опустился в кресло, и, когда я устраивался в нем поудобнее, мне показалось, словно кто-то обнял меня.
И тут чуть приоткрылась крышка шляпной коробки.
– А вот я кошек терпеть не могу, – с сердцем выдохнула коробка. – Мици как-то давно еще окотилась во мне, и с тех пор я до того провоняла кошачьим духом, что самой тошно.
– Не на сковородке же ей котиться, – холодно блеснул медный подсвечник.
– Уж это точно, – проскрежетал ржавый топор. – Ох и затупился я! Не всегда человек рубит мясо, иногда и кости тоже…
– А то и гвозди, верно, мальчик? – маленький топорик прижался к дымоходу и бросил на меня предательский взгляд.
– Верно, – покраснел я. – Не расстраивайся, я отнесу тебя к дядюшке Цомпо, и он наточит тебя.
– Это было бы несправедливо, – моргнула плошка, и на мгновение в ней как бы замерцал отсвет давнего пламени. – Кто сюда попал, здесь должен и остаться.
– А что такое справедливость, истина? – не без горечи вопросил тонкий, сточенный серп. – Если я в данный момент подсекаю стебли – это истина, если не подсекаю – тоже истина. Ведь истина действительна лишь одно мгновение, но не минуту или больше…
– Только этого не хватало, – огорченно вздохнула старинная книга, – выслушивать мудрствования какого-то серпа! Да если я начну читать вам проповеди об истине да справедливости, вы окончательно ума лишитесь и друг с дружкой перегрызетесь, ведь у каждого своя истина – даже здесь, во мне, а я – всего лишь одна книга из многих. А что уж говорить, если мы сотнями тысяч собраны в одном месте!..
– Какой ужас! – содрогнулись гусарские штаны.
– Поистине так, – вздохнула книга. – В особенности для солдата…
– Прикажешь расценивать это как оскорбление? – сверкнули прислоненные к дымоходу ножны. – Хотя во мне сейчас и не хранится сабли – она сломалась на поле брани, – но…
– …но поскольку ею режут мясо на кухне, она и не может находиться здесь, – насмешливо ухнул глиняный горшок. – Не знаю, как она вела себя на поле брани…
– Рубила неприятеля, как капусту.
– Возможно. В этих делах я не разбираюсь, зато на кухне от сабли явная польза. Ее укоротили, подточили, ведь сталь у нее превосходная. Так сказала тетушка Кати, а значит, это истина.
– Моя хозяйка говорила, – тихонько скрипнуло подо мной прабабушкино кресло, – а она ни разу в жизни не солгала, – так вот моя хозяйка говорила, что по-настоящему правы только матери, когда производят на свет человека…
– Чтобы этот человек потом стал убивать себе подобных! – гневно прошуршала тонкая белая веревка, которая когда-то препоясывала грубое монашеское рубище, а теперь вот уже не один десяток лет висела, переброшенная через балку. – Убивать за правду и славы ради, из-за золота и земельных угодий, убивать из-за женщины, из мести или страха. Бьются люди смертным боем, а потом замирятся, упьются на радостях и обманывают друг друга напропалую, и никому нет дела до убитых и умерших, – это тоже истина… Вот поэтому и прошу вас, братья мои, не омрачайте светлые мечты и думы этого мальчика. Придет пора, и он сам поймет, что человек прав, лишь покуда он один. Позвольте ему открыть шкатулку и прочесть письма. Ведь ты за этим пришел, верно, мальчик?
– Да, – робко пробормотал я. – Мне кажется, прабабушка мне разрешила бы…
– Ух, ну и хитрюга! – шевельнулась в углу кочерга. – Он думает, что так мы скорее согласимся…
– Уж твоего-то согласия во всяком случае никто не спросит, – негромко прогудел дымоход. – По-моему, письма для того и пишут, чтобы их читали.
– Читали, да не всякий и каждый! – стояла на своем кочерга. – Меня, например, сделали для того, чтобы регулировать огонь, но не везде…
– Тоже мне регулировщица выискалась! – с презрением глянул с балки тяжелый молоток. – Бьют ею по поленьям, пока в лепешку не разобьют, а там только и проку от нее, что на ручку к мусорному совку использовать…
– Полно ссориться, братья мои! – взволнованно шевельнулась веревка. – Помнится, мы – когда не могли прийти к согласию – сядем, бывало…
– …и выпьем как следует! – восторженно отозвался подле шляпной коробки деревянный кубок, который я до сих пор принимал за ступку для толчения мака.
Все обитатели чердака словно улыбнулись этому возгласу, а объемистый кубок продолжил:
– Но пить мы умели, никогда допьяна не упивались! Словом, сядем, бывало, и проголосуем. Как большинство решит, так тому и быть!.. Вот я и предлагаю: если кто из вас считает, что мальчику не следует читать письма, пусть сделает знак!
Настала глубокая тишина. И вдруг закачался замок на шкатулке, и с громким треском шевельнулась крышка.
– Письма эти – мои! – прошептала в тишине шкатулка. – И тайны храню я, а стало быть, мне и решать! Пусть мальчик прочтет письма. Конечно, лучше бы ему их не читать, но из всех нас он один обладает волей, и волю свою он все равно осуществит. Радости он не испытает, но разве это остановит его, даже знай он об этом заранее? Ну что же, прочти письма, мальчик, узнаешь многое, чего не знал до сих пор, и поймешь, что знакомство с тайнами иногда причиняет и боль. Я открыта для тебя, мальчик…
Замок призывно качался в дужке, а я все смотрел и смотрел на него, пока гусарские штаны не склонились доверительно к нижней юбке.
– А мальчик-то трусит! – прошептали они.
Сердце мое решительно забилось, и точным, уверенным движением я сорвал замок.
Однако, несмотря на такое многообещающее начало, в тот день дальше этого я не ушел: пока я завороженно разглядывал пропахшее затхлостью и стариной содержимое шкатулки, с террасы донесся крик, не сулящий мне ничего хорошего:
– Пишта-а! Куда ты опять запропастился? Да что же это за непослушный малец, отродясь таких не видывала!..
Сей риторический возглас исходил от тетушки Кати, которая знала только две крайности: либо тихонько нашептывать, либо надрываться во всю мочь, – и соответственно этому взгляд ее был кротким, как у агнца, или же метал молнии.
– Меня зовут! – я захлопнул крышу шкатулки и, взглядом попросив прощения у своих новых друзей, мигом слетел с чердака. В следующую минуту я стоял уже возле тетушки Кати, которая ожидала моего появления с противоположной стороны.
– Что случилось, тетя Кати?
– Ах, чтоб тебе пятки крапивой ожгло!.. Да нешто можно так пугать?.. Отец тебя спрашивал, потому как господин учитель тебя видеть желает. Бабушка тебе все чистое приготовила…
Дядюшка Гашпар знает меня как облупленного, чего ему на меня смотреть, – размышлял я, переодеваясь в парадный костюм, и как раз пытался втиснуть в башмаки отвыкшие от обуви ноги, когда отец заглянул в комнату.
– Чего это ты так вырядился?
– Тетушка Кати велела гостям показаться…
– Больно нужно им на тебя смотреть! Сбегай в подвал да принеси две бутылки вина, а то священник тоже обещал наведаться.
Я сбросил с себя праздничную одежду, рванул в подвал и притащил две бутылки вина; дядюшка Гашпар – просто так, походя – дал мне такого щелчка по макушке, что меня аж слеза прошибла. Выполнив отцовское поручение, на чердак я больше не полез, потому что благоговейное настроение мое было решительно испорчено, а направил свои стопы в кладовку, которую тетка Луйзи называла «провиантской».
Ключ от кладовки среди дня всегда находился в двери, и веселый задор, охвативший меня, поколебал мою и без того не слишком стойкую совесть.
Пригоршня кускового сахару, горсть миндаля, щепотка изюма служили в таких случаях негласным угощением гостю; правда, добрая половина сахара пошла Барбоске.
Оба мы еще не успели управиться с угощением, когда дядюшка Пишта Гёрбиц выкатил коляску.
«Ага! – подумал я, – значит, они куда-то уедут…»
Я обрадовался, потому что отъезд отца всегда означал некоторое высвобождение от строгого надзора.
Когда дядюшка Пишта покончил с упряжкой, из дома показались гости и вместе с ними отец, который с улыбкой прислушивался к спору учителя со священником. Такое распределение ролей было привычным, хотя частенько я даже не понимал, о чем идет спор, потому что его преподобие так и сыпал латынью, словно во время богослужения.
Прежде чем компания отбыла, я слышал, как священник спросил у отца, не забыл ли он прихватить карты для игры в тарок. Отец молча хлопнул себя по карману, и коляска выкатила со двора.
– Посмотрим, нельзя ли чем поживиться! – подумал я и направился в дом, потому что очень любил, когда гости уходят. Правда, я любил и когда они приходили, но дом, как бы опустевший после ухода гостей, мне нравился больше…
В такие моменты я всегда старался прошмыгнуть в гостиную, где стоял приятный, мужской дух: смесь сигарного дыма и чуть пряного запаха крепкого дёргичского рислинга…
Отодвинутые от стола стулья еще хранили последнее движение отбывающих гостей, недокуренные сигары дымили в пепельнице, и среди этого раздолья я мог быть один, потому что матушка, тихонько напевая, мыла посуду и прибирала на кухне.
Я крался в комнату, как жаждущий добычи хищник подкрадывается к богатым добычей зарослям камыша: бесшумно, принюхиваясь и настороженно прислушиваясь, точно в воздухе, пропитанном табачным дымом, еще звучали последние слова гостей… Мне не составляло труда определить, кто из них где сидел. Вот это место наверняка занимал дядюшка Гашпар, потому что он курил сигареты «Дама».
Коляска вздымала пыль, должно быть, где-нибудь далеко, а я восседал на гостевом месте и думал: как хорошо быть взрослым! Кури, что душе угодно, хочешь сигареты «Дама»…
Тут рука моя сама протянулась к пачке, и я вытащил сигарету – смело, безудержно… Ну, а раз вытащил, то надо и закурить. Чем я не взрослый!..
Дым был странный на вкус и ароматно пьянящий. Я втягивал его в себя и выпускал густыми клубами, держа сигарету двумя пальцами, как подсмотрел у взрослых.
Ощущение было ни с чем несравнимо, но вскоре мне захотелось пить, и так же естественно мелькнула мысль: а почему бы не утолить жажду вином?
Не то чтобы мне хотелось именно вина, но, наверное, само собой так вышло: возжелаешь сигарету, а она требует вина… Короче говоря, я налил себе – щедро, не скупясь…
Промочить горло оказалось очень приятно, и я решил, что в сигаретнице запас достаточно велик и не убудет, если я отложу себе впрок сигарету-другую.
Молодецкая удаль из меня так и перла. Что бы еще такое удумать? Ах да, можно же взять у отца ружье и отправиться на охоту… И почему бы мне не расцеловать соседскую Илону? Ведь в десяти заповедях о поцелуях не сказано ни слова… Куплю ей на ярмарке золотые часы, и тогда уж она наверняка меня полюбит…
Правда, позднее меня покинула уверенность в том, что жизнь обернется ко мне сплошь радужным сиянием. Я хлебнул еще глоток, но на этот раз вино уже не показалось мне вкусным. Пришлось отложить и сигарету, потому что в желудке противно перевернулось. К тому же в ушах раздался колокольный звон, но какой-то странный – тонкий, будто загробный.
Неужто я умираю? Я попытался встать на ноги, но при этом комната вдруг вся поплыла куда-то, пол заплясал под ногами, а дверная ручка, язвительно ухмыльнувшись, выскользнула у меня из пальцев.
Надо бы прочесть молитву, – мелькнула мысль, но никакие привычные обращения к богу на ум не приходили. Я вышел на крыльцо, но землетрясение преследовало меня и там, и во дворе, где ко мне со стороны ворот стали приближаться сразу три дядюшки Цомпо…
– Спокойной ночи, дядя Цомпо, – сказал я и свесился через перила крыльца, подобно Робинзону Крузо, когда тот склонился над бурным морем, припоминая все содеянные им грехи…
Когда я пришел в себя, на груди у меня лежало что-то холодное, а во рту было ощущение отвратительной горечи. Возле дивана стояла матушка с полными слез глазами.
– Дайте ему еще глоточек, мама…
Я прихлебывал крепчайший кофе и постепенно приходил в чувство.
А потом я покаялся в своих прегрешениях, и на душе у меня полегчало.
– Как ты только додумался до такого, сынок?