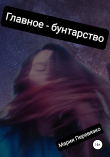Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
– Не знаю, бабушка… Захотелось…
Матушка не переставая гладила мои руки.
– Только бы отец не узнал! Ты белый как стенка, он сразу догадается, что ты захворал.
– Он захватил с собой карты, я сам видел. Значит, не скоро вернется…
Бабушка и мама рассмеялись. Заплаканные и еще не оправившиеся от потрясения, они все же смеялись… А тетушка Кати принесла кислой капусты с большим количеством рассола.
– Похоже, ты в дядю Миклоша пошел, – сказала она. – Того, бывало, тоже я в чувство приводила.
Отец не узнал об этом случае, но на утро не преминул заметить, что разумнее будет дождаться, пока абрикосы поспеют, ведь я не иначе как абрикосами желудок себе испортил.
Однако на чердак я в тот день не полез, чувствуя себя словно недостаточно для этого чистым, и единственное место, куда можно было податься, – к Качу, смыть с себя это ощущение.
К Качу!
Мы только так и говорили, и ни разу нельзя было услышать «к ручью» или «на берег».
– Куда идешь? – На этот вопрос был один-единственный ответ: «К Качу!» И означал он не только воды ручья (да у нас и ручьем-то его не называли, а «канавой»), а ту плавно опускающуюся долину, по дну которой протекал Кач. В некоторых местах он был по колено, в других доходил до щиколоток, но по большей части его можно было перемахнуть прыжком, и границы его определяли мельницы хромого мельника и Потёнди – расстояние всего-то в два, от силы три километра. С тех пор довелось мне видеть луговые просторы и в тысячу хольдов, но такого бескрайнего раздолья, как у Кача, – никогда!
Чего там только не было! Обилие щавеля и птичьи гнезда, мочило и «бездонное» круглое болотце, ивы и камышовые заросли, санная горка и мельничная запруда, – там было все, что только может пожелать любой здравомыслящий человек; ну, а когда на покосе заводила свою песнь звонкоголосая птица – как я позднее узнал, коростель, – то большего даже и безумец не пожелал бы.
Прибывать к Качу каждому уважающему себя человеку было положено только бегом, чтобы не пропустить ни одной забавы-проказы. Под «человеком» здесь следует понимать исключительно тех школьников, что под присмотром учителя тянут иссохшие сосцы матери-науки и пока еще не разменяли тринадцатый год: иными словами, пока еще не выбыли из школы по окончании шести классов. «Перестарку», который уже распрощался с шестью классами, зазорно было бы затесаться в нашу компанию, да для этого почти и не было возможности, потому как «взрослые», старше двенадцати лет, работники уже впрягались помогать родителям.
Конечно же, у «человека» не было в распоряжении калитки в заборе, которая вела бы на пешеходную тропу к Качу, поэтому приходилось либо перелезать через забор, либо протискиваться в щели между досками, а там – айда!
Собирались ли мы бросаться в наступление или бежать наутек, обязательно у кого-нибудь вырывался этот воинственный клич: «айда-а!» А там начиналась дикая гонка.
Итак: айда, к Качу!
Босые пятки мои гулко барабанили по тропе. Сперва вверх, на небольшой взгорок, а затем вниз, в речную долину, среди пьянящих молодые легкие ароматов: я и с закрытыми глазами без труда мог бы определить, иду я сейчас вдоль поля люцерны, или делянки кукурузы, или пахучего разнотравья на холме.
Айда! – разложенные на берегу белые рубашки и красные юбчонки указывают направление, куда бежать дальше, и в то же время яснее ясного дают понять, что утехи уже начались и детвора обоего пола в райской наготе бороздит воды прудов…
Пруды эти были размером с жилую комнату и служили отчасти для замочки конопли, а отчасти для развития ребячьих спортивных возможностей, хотя сомневаюсь, чтобы кто-нибудь в Гёлле, включая и интеллигенцию, то бишь почтмейстера, священника, учителей, нотариуса и управляющего, подозревал, что это значит.
И все же это был самый настоящий спорт, в котором находили свое место плавание, бег, борьба, прыжки в высоту и в длину и всевозможные игры в мяч. О состязаниях на дальность плевка я и не упоминаю, поскольку этот изумительный вид мужского спорта почему-то не увлекал девчонок, которые, конечно же, во всех спортивных затеях участвовали наравне с нами, одетые или обнаженные догола, не волнуя ничье воображение своим первозданным целомудрием. Естественно, разница полов была для нас очевидной – деревенский ребенок над этим даже не задумывается, – но конкретно она проявлялась разве в том, что девчонка никогда не могла быть «конем», а только «всадником», если, усадив себе верхом на шею девчонку, ребята устраивали ожесточенные схватки, носясь по грудь в воде.
Устав барахтаться в воде, мы одевались – хотя это просто так говорилось, ведь мы и без того летом ходили полуголые – и валялись на бережку, подставляя свои тела благодатным пронизывающим лучам. А как только нам опять становилось жарко, снова шли купаться.
К концу лета мы покрывались дивным шоколадным загаром, и в таком виде уже не стыдно было в сентябре «пойти» в следующий класс.
Конечно, если тетушка Дереш выносила отбеливать холсты, девчонки помогали таскать воду, но в остальном забавам шести-восьмилетней ребятни никто не мешал и никто не надзирал за нею. Впрочем, в этом не было необходимости, ведь здесь нельзя было утонуть или угодить под движущуюся повозку, а если кто-то ухитрялся свалиться с ивы – не велика беда, упал, так вставай. Разве что лицо или спину при падении ветками оцарапаешь да еще и дома схлопочешь за это от матери подзатыльник, но вообще синяки считались боевыми знаками отличия.
Как жаль, что мы тогда не знали, насколько мы счастливы!..
А стоило раздаться колокольному звону, как и в животах у нас начинало урчать, и мы чувствовали вдруг, что с голода готовы чуть ли не друг дружку проглотить.
По счастью, я не забыл сообщить Петеру, что ему отдавил ногу жеребенок, а заодно и объяснить, как ставить компресс…
– Да ведь у нас и лошади-то нет…
– Не важно, зато у соседей есть! – терпеливо поучал я приятеля. – Ты вроде бы уже поправился, только чуточку прихрамывай, тогда, может, и сахару получишь. Бабушка тебя любит.
Последнее заверение несколько успокоило Петера. Он рос тихим, благонравным мальчиком и собирался стать священником, однако чахотка помешала его намерениям.
– Нога у Петера уже почти прошла, – порадовал я бабушку. – Он благодарит за совет… Что-то он опять покашливает..
– Бедный мальчик, если бы он знал…
– Что – знал, бабушка?
Бабушка достала с полки красивую жестяную коробочку и сунула мне в руки.
– До обеда еще есть время, отнеси-ка Петеру. Как закашляется, пусть сосет по конфетке.
Я вертел в руках соблазнительную коробочку. Бабушка перехватила мой жадный взгляд.
– Тебе тоже перепадет, а эти леденцы я посылаю Петеру. Вместе с коробкой. Ясно?
– Да, бабушка! – испуганно отозвался я, потому что старческие глаза смотрели на меня с несвойственной им неколебимой строгостью.
– И не вздумай обмануть: я потом спрошу у него.
– Бабушка, Петер – больной?
– Никакой он не больной, просто кашляет, и все. Со временем это пройдет. Но ты никогда не пей с ним из одной посуды, обещай мне!.. И еще обещай не проговориться о том, что я тебе это сказала…
– Я не проговорюсь, бабушка.
– Если любишь меня и любишь Петера…
– Вот ей-богу не проговорюсь, – прочувствованно божился я, поняв, что бабушка говорит это неспроста. А кроме того, моя любовь к ней и к Петеру была вполне искренней.
– Не божись, я и без того знаю, что ты любишь свою старенькую бабушку.
Мы успели пообедать, а этот разговор все не выходил у меня из головы. Я чувствовал, что таинственные недомолвки насчет Петера выстраиваются в один ряд с другими загадочными вещами, о которых говорить запрещено.
Петера я любил все душой, и у меня не было от него секретов, но теперь, когда его болезнь встала молчаливой тайной между нами, это как бы еще прочнее оградило и чердачные тайны; ведь единственный человек, которому я когда-нибудь их поведаю – как я в то время намеревался – будет Петер. Но я не сказал ему тогда, а впоследствии у меня уже не было такой возможности: через несколько лет чахотка унесла его. Правда, к тому времени мы уже переселились в город, и о Петере я знал всего лишь, что несмотря на бедность, он был зачислен в гимназию и блистал отличными успехами, когда я столь же блистательно провалился в другой гимназии. Конечно, я оплакал Петера, но пришлось оплакивать и другие потери. Сперва – нашего священника, который неожиданно скончался дома от мучительной болезни, затем – дядюшку Гашпара, который умер от голода во французском плену. Мне тогда не верилось, что такое возможно, ведь у нас в селе тоже находились военнопленные, но они только толстели на деревенских харчах, потому что крестьяне сочли бы позором морить пленного голодом… И лишь гораздо позднее, когда я прочел роман Аладара Кунца «Черный монастырь» о злоключениях военнопленных во французских лагерях, мне пришлось поверить…
Я не люблю вспоминать о тех временах, тем более, что мой замысел – рассказать о светлых мечтах, о тишине и одиночестве, словом, о той мирной поре, когда вряд ли кто-либо мог себе представить, во что способна превратить война человека, народ, целую страну.
А тогда для нас царил мир, Великий Мир. Представления о войне у людей были весьма своеобразные. Правда, в свое время мы потеряли отца нации – Кошута, но зато всем были ясны славные цели его борьбы. При упоминании о ней каждому приходили на ум имена национальных героев, боевые медали, короткие гусарские атаки, и в ослепительном свете этой былой славы никому не дано было прозреть невероятные бедствия, моральное падение и прочие страшные последствия войны подлинной.
А я и подавно был далек от таких мыслей в тот дивный летний день, когда мир обнимал наш край подобно любящей плодовитой матери, и все мои помыслы были сосредоточены на одном: проникнуть на чердак и открыть шкатулку.
К сожалению, это мое намерение столкнулось с некоторыми препятствиями. Но разве можно было подумать, что средь ясного и мирного дня, после сытного обеда вдруг ударит молния и поразит безмятежные ребяческие планы!..
А удар последовал, причем без каких бы то ни было предшествующих событий.
Мы покончили с голубцами и готовились перейти к послеобеденному отдыху, когда отец вдруг хлопнул себя по лбу:
– Фу ты, совсем запамятовал!.. – С этими словами он встал из-за стола и прошел в комнату, потому что обедали мы на террасе.
Никто из нас не придал значения его словам: ну, подумаешь, вспомнил человек о каком-то незавершенном деле… Однако отец и не собирался заниматься собственными делами; он тотчас же вернулся на террасу и положил передо мной какую-то красивую тетрадку.
– Пора заняться исправлением твоего почерка. Ну-ка, открой.
Я открыл тетрадь: это были прописи для чистописания. На самой первой строке сверху поистине каллиграфическим почерком было выведено:
«Обилен рыбой Балатон, вином богата Бадачонь…».
«Пропади оно пропадом, все это изобилие», – подумал я.
– Каждый день будешь писать по странице!
– Хорошо, – пролепетал я, в душе еще раз присовокупив вышеупомянутое пожелание. И все же я вынужден был признать справедливость отцовского требования, ведь в применении к моему почерку даже эпитет «скверный» показался бы хвалебным.
Итак, в критическом отношении к самому себе у меня недостатка не было, беда заключалась в другом. Естественно было предположить, что выполнение урока я непременно постараюсь оттянуть до вечера, и гнет этой ежевечерней обязанности способен будет отравить мне весь день. Вели отец мне сей момент, не откладывая, исписать всю тетрадку, я бы сел немедля, лишь бы окончательно разделаться с этой обузой. Но перспектива каждый вечер ложиться и поутру вставать с мыслью о ждущей тебя странице попросту портила мне все каникулы. Впрочем, что тут поделаешь?
– Сядешь, сынок, с самого утра и напишешь, – сказала бабушка, – а там гуляй без забот, без печалей.
– Хорошо, – поддался я бабушкиному утешению.
– Всех дел-то на несколько минут, – добавила мама.
– Ну уж нет! – вмешался отец. – Смысл не в том, чтобы наспех настрочить каракули! Надо писать как положено: медленно и красиво!
– Да, папа, – сказал я и, прослезившись над своей мученической участью, ушел из-за стола. Мне заранее было известно, что мама сейчас выступит против «притеснения ребенка», отец будет неколебимо стоять на своем, бабушке в конце концов удастся примирить их, но мне это уже не поможет.
Я улегся на старый диван, как святой – на возженный костер, и от горя сладко заснул.
Меня разбудила бабушка, которая ходила взад-вперед по комнате и разговаривала сама с собой. Первой моей мыслью были прописи, и мир померк передо мною.
– Никак не могу уснуть, – пожаловался я. – И голова болит.
Бабушка уставилась на меня, как на пустое место.
– Ты что-то сказал, сынок?
– Не спится мне…
– Да ведь ты проспал целый час! В твоем возрасте этого вполне достаточно.
– И голова болит…
– Поболит и пройдет. Должно быть, переел за обедом.
На этом разговор оборвался, и бабушка смотрела перед собой, словно надеясь отыскать утерянную нить беседы с самой собою.
– Бабушка, а эту страницу… ее уже сегодня надо написать?
– Не знаю, сынок. Спроси отца. Он ведь сказал: каждый день.
– Но сегодня-то только полдня осталось…
– Нечего со мной торговаться! – вспылила она. – Я не пойду вместо тебя спрашивать. – И с этими словами бабушка отправилась выяснить, нельзя ли начать упражнения по чистописанию с завтрашнего дня, учитывая, что сегодняшний день на исходе, а у ее драгоценного внука болит голова.
Я закрыл глаза, будто вся моя жизнь зависела от этой несчастной страницы.
– Не спи! – вошла в комнату бабушка. – Весь ум проспишь… А может, ты и впрямь захворал? – она приложила прохладную, сухую ладонь к моему лбу.
– Горячеватая… – сказала она. – Желудок у тебя не расстроился? Чистописанием займешься с завтрашнего дня.
Я схватил трогавшую мой лоб бабушкину руку и прижал ее к губам.
– Экий ты баламут! Не попадалось тебе письмо от тети Луйзи? Куда-то задевала и никак найти не могу.
– Вы же всегда в календарь кладете, бабушка.
– Как это я сама не вспомнила! Ты ведь не читаешь чужие письма? – она подозрительно смотрела на меня. – Это грех, сынок, пришлось бы тебе исповедоваться.
– С чего бы я стал их читать, бабушка?
– Да вот же оно! – бабушка вынула из календаря письмо. – Конверт даже не распечатан.
Бабушка так обрадовалась своей находке, что на меня перестала обращать внимание. А я, высвободившись из-под ярма чистописания хотя бы на сегодня, почувствовал себя вольной птицей: ведь завтрашний день – это такая дальняя даль…
Со двора донесся грохот повозки.
– Родители твои в Паталом укатили, – махнула тетушка Кати в сторону окна. – Отец наказал тебе абрикосов и в рот не брать, не то холеру подцепишь и будешь животом маяться.
– Так абрикосы еще не поспели, тетушка Кати.
– А я про что толкую!
И она опять принялась громыхать кастрюлями и горшками, давая понять, что в кухне мне делать нечего, а я с ощущением полной раскованности и радостного возбуждения устремился на чердак. Конечно, там некому было бы застать меня врасплох, и все же сам факт пребывания отца в доме сковал бы свободу моих действий.
Отца нет дома, – чувствовал я каждым нервом, – и чистописание до завтра терпит!
Не спеша взбирался я по старым чердачным ступенькам.
Чердак встретил меня тишиной плотнее обычного. Я ощутил, что время и события отделяют вчерашний день от сегодняшнего. Во мне сохранилось что-то и от поездки в лес, и от запаха прелой листвы, и от встречи с сойкой, и от забав у Кача, и от холстов тетушки Дереш, и даже от этого чертова чистописания! Я осторожно, не без некоторой учтивости задержался перед старым креслом, прежде чем опуститься в него.
«Добрый день!» – мысленно произнес я, подумав, что с язвы-кочерги станется сделать мне выговор, как обычно выговаривают на селе человеку, ввалившемуся в дом без приветствия:
– Экого оболтуса принесла нелегкая!
Преисполненный почтительности, я, пожалуй, даже приподнял бы шапку, будь у меня таковая. Впрочем, если уж быть откровенным и не навлекать хулу на своих досточтимых родителей, признаюсь, что шапка у меня была. Где она находилась – никогда нельзя было знать наверняка, но одно было ясно: она могла отыскаться в каком угодно месте, но только не у меня на голове. И столь же ясно, что моя побитая дождями и прокаленная солнцем голова в последующие годы без малейшего сотрясения вынесла такие удары, от которых любая нормальная черепная коробка разлетелась бы вдребезги… Об этом говорил мой отец, хотя и безо всякой гордости. Откуда я только ни падал: с лошади, со стога сена, с сенного чердака, с приставной лестницы, с воза, – и всякий раз легко отделывался, если не считать, конечно, последующих родительских назиданий, вес коим придавался доморощенной ореховой тросточкой.
Но все это дела сугубо личные, ничуть не умалявшие моих почтительных чувств к обитателям чердака, которых я и приветствовал как положено:
– Добрый день!..
В ответ донесся неясный, тихий шепот:
– Добро пожаловать!.. Здравствуй, малыш!.. Молодец, какой уважительный мальчик!.. – Но лучше всех я расслышал слова старого кресла рядом с собой: – Садись, сынок!
Ну, я и сел.
– Мы все знаем, – выскочила вперед всех кочерга. – Одни одобряют ту строгость, с какой отец взялся за твое учение, другие – нет…
Я вскинул голову в полном изумлении.
– Это вы – про чистописание?
– Ну конечно!
– Как же вы смогли узнать об этом?
– А наш старый приятель дымоход на что?
– Мне кажется, – недовольно загудел дымоход, – учитывая мой возраст, а также общественное положение остальных присутствующих и их место в прежней жизни, слова этой выскочки-кочерги можно считать пустой болтовней. Или, может быть, кто из нас просил этот старый крючок высказаться?
– Я думала… – кочерга пошла на попятный.
– Неслыханно! – подбоченясь, воскликнул кувшин. – До сих пор считалось, что кочерге думать не обязательно. Хорошо, если за нее думает тот, кто ворошит ею пепел и всякий мусор.
– Пепел – это не мусор, – запротестовала кочерга. – А кроме того, старый Цомпо выковал меня из стали.
– В пору своего ученичества! И это до сих пор по тебе видно, – сказали сабельные ножны. – Большая разница – выходит изделие из рук мастера или неумехи. Вот рукоятку моей сабли сработал в свое время опытный чеканщик. Ну, и из золота, конечно.
– Из меди, – качнулась шляпа дяди Шини.
– Из меди, – тихонько пристукнул его же дорожный посох. – Как-то раз мой добрый хозяин оказался не при деньгах…
– Он постоянно оказывался не при деньгах, – ласково поправило ее старое кресло.
– Что греха таить, была в нас этакая широта души. Так вот однажды пришлось сдать саблю под залог.
– Но она вернулась обратно, – звякнули ножны.
– Еще бы! – согласно кивнула шляпа. – Ростовщик нас чуть взашей не вытолкал за то, что мы хотели всучить ему медную поделку.
– С кем не случается, – великодушно махнула концом монашья веревка. – Однажды, когда наш орден сидел на мели, мы тоже обратились было за помощью к этому старьевщику. Понесли ему старинную чашу, а этот негодяй…
– Выгнал вас? – ужаснулся посох дяди Шини.
– Нет, приветил он нас разлюбезно! Такой крепкой сливовицей угостил, что мы насилу домой добрались. А чашу велел в музей снести, такие красивые старинные медные чаши, мол, по музейной части.
– Вот негодяй! – сверкнули ножны.
– Причем тут негодяй? – тяжело шевельнулся топор. – Что кость – то кость, а мясо оно и есть мясо. Когда-то медные деньги ценнее были, чем нынче золото.
– Вот уж никогда не поверю, – прошуршала шелком нижняя юбка. – Меня барыня купила своей дочке на золото, а уж на что прижимиста была, каждый грош считала.
– Ей и было что считать! – скрипнуло кресло. – Но для дочки своей она ничего не жалела. И чем же дело кончилось?
– Умерла моя голубка, – едва слышно шелохнулась юбка. – Чуть во мне ее не похоронили…
– Вот горе, вот беда! – запищала мышка, которая откуда ни возьмись вдруг очутилась возле балки. – Нет большей беды, чем смерть.
– Чушь какая! – возмущенно скрипнула дорожная шкатулка. – Что за манера совать свой нос в дела, в которых ничего не смыслишь! Смерти нет! Во мне хранятся письма, и они – живы. Живы их мысли, и жива любовь. И даже если бы они сгорели, то все равно и в пепле остались бы жить, ведь то, что было – оно есть, а то, что есть – будет, останется жить в любой форме…
– Разве ты не к нам пожаловал, мальчик? – замок мягко качнулся в петлях.
– Да, – пробормотал я про себя, – если можно…
– Можно, – скрипнуло старое кресло. – Шкатулка разрешает.
– Ах, такие вещи не для ребенка, – колыхнулся краешек нижней юбки.
– Излишняя деликатность недалека от ханжества, – решительно звякнули шпоры. – Что есть, того не скроешь. Да и ребенку не лишне узнать, откуда он есть-пошел…
– Дерзкая мысль! – неодобрительно щелкнула мышеловка. – Что же это получится, если каждая мышь будет знать, для чего существуют ловушки?
– Жизнь – не ловушка, – вздохнула дамская шляпа неимоверных размеров, изукрашенная цветами, птицами и даже фруктами. – Жизнь – это…
– Жизнь – это жизнь! – сурово оборвали ее гусарские штаны. – Живем – веселимся, а помирать придется – тоже не затоскуем. Шкатулка выложила все, как на духу, за это достойна уважения. Ведь она прямо сказала мальчику, что радости не жди, и если это не отбило ему охоту, пусть узнает правду. От этого еще никто не умер.
– Ну, за дело, сынок! – гусарские штаны обратились теперь уже прямо ко мне. – Отца твоего дома нет, дымоход нам все сообщил. Открывай смелее! Сабли наголо и – в атаку!
Рука моя почти непроизвольно двинулась к шкатулке; я поднял крышку и завороженно уставился на уходящие в глубь шкатулки пласты времени, четко прослеживающиеся по перевязанным пачкам писем, платочкам, венку, старинным медалям, и сердце мое сжалось от грустного, чуть похоронного запаха лаванды, пахнувшего из недр старой шкатулки.
Я не сводил глаз с ее содержимого, угадывая в нем не только прошлое, но и настоящее, и грядущее в его туманной недосягаемости.
Окружающий мир слился в моей душе в нечто извечное, вневременное, где всему нашлось место: от долины Кача до церковной колокольни, от кладбища до путевой сторожки в Чоме, от умных, серых глаз Петера до голубых стеклянных пуговиц на жилеточке Илоны К.
Акация перед нашим домом, мельница у плотины, скопища мух в хлеву, лысухи у камышиных зарослей, старинная дубрава, поленница дров во дворе, потерянный мною складной ножик, запах рождественской елки и базарное чтиво, бабушка, тетушка Кати, мои родители… – все вмещал в себя этот мир, все вмещала в себя моя душа, неотделимая от этого мира.
Тот миг, когда я развязал первую пачку бабушкиных писем, как-то выпал у меня из памяти; помню только, что письма эти были от другой моей бабушки, которая в основном изъяснялась по-немецки, должно быть, потому, что от рождения была полькой… Отец ее – уланский офицер из Ченстохова – вместе со своим полком стоял на постое в Надьмайтене, где и появилась на свет моя бабушка.
Словом, она предпочитала говорить по-немецки, хотя венгерский знала превосходно, но даже к венгерской речи примешивала немецкие слова.
Я не любил эту свою бабушку, и не без оснований, так как она тоже явно недолюбливала меня. А после того как однажды меня на лето отвезли к ней «пообтесаться», это чувство лишь усилилось во мне. Охлаждение было взаимным несмотря на то, что ее забота обо мне и моем воспитании была поистине образцовой, хотя и методически неверной. Лаской из меня можно было веревки вить, но резким окрикам – да тем более по-немецки! – я не подчинялся. А уж когда она как-то раз сказала: «Что с тебя взять, дитя мое, ты – мадьяр, к тому же из крестьян…» – чаша моего терпения переполнилась, и с той поры между нами установились чисто официальные отношения.
Бабушка, будучи в некотором роде солдатской сиротой, в молодости состояла приживалкой при какой-то графине и графскому семейству пела дифирамбы, сделавшие бы честь даже святым. Я только одного никак не мог понять: зачем ей понадобилось выходить замуж за дедушку, который был до мозга костей исконным мадьяром? Все дедушкины родичи и кумовья стригли бороду под Кошута, и лишь у него самого была бородка а-ля Франц-Иосиф – не иначе как под бабушкиным влиянием.
Их дом напоминал аптеку, стерильно-бездушной атмосфере которой малую толику человечности придавали лишь дедушкины курительные трубки. Всему в нем было свое место и время, от которых невозможно было отклониться ни на секунду и ни на миллиметр.
Если я забывал положить на место календарь, то дело доходило до «скандала», а стоило мне хоть чуть опоздать к обеду, и это расценивалось как schweinerei – свинство с моей стороны. Существовал строжайший регламент, как надлежит держать руки, ноги, голову, нож, вилку, как сидеть, вставать, кланяться…
Да пропади они пропадом, эти правила хорошего тона! – заходился я про себя и весь извелся, пока наконец две недели спустя не увидел Торопку – нашу кобылу с белой отметиной на лбу; я не бросился ей на шею лишь потому, что мне было до нее не дотянуться.
Эти две недели ползли как улитка, хотя каждой минуте находилось свое применение, свое дело, свой порядок! Все наше бытие было подчинено этому порядку, в сравнении с которым строгая дисциплина кадетского корпуса могла бы показаться полнейшей расхлябанностью. Каждый знал жизнь другого, как собственный карман.
Большая часть двора была отведена под палисадник с цветами и дорожками, усыпанными мелкой галькой; каждый обитатель дома получал там свой определенный участок и с наступлением сумерек поливал его, а затем все усаживались вдоль усыпанной камнем дороги на вечернюю сиесту: бабушка – в кресло, дедушка на складном стуле, а я на доильной скамеечке, которую бабушка называла табуретом. Взрослые разговаривали, а я не смел вмешаться в их разговор уже хотя бы потому, что он велся по-немецки. Впрочем и дедушка лишь изредка вынимал трубку изо рта, чтобы сказать:
– Ja!
Кроме этого короткого «да» я от него других слов не слышал.
– Ja! – изрекал он, и его спокойные серые глаза были устремлены куда-то вдаль, где, наверное, люди разговаривают как люди – по-венгерски. Он смотрел куда-то вдаль, может быть, в далекое прошлое, где была другая жизнь, не похожая на бабушкин «порядок».
– Ja! – говорил он и смотрел вслед зыбким колечкам дыма, витающим над цветочной клумбой.
А я в таких случаях подбирал камешки – по цвету и форме, и мысли мои бродили дома: по саду, в конюшне, у Кача, в лесу…
Камешками же высчитывал я и через сколько дней за мной приедут: каждый день черными камешками помечал оставшиеся дни и белыми те, что уже прошли.
– Считаешь? – спрашивала бабушка. – Хорошо, это умная игра.
Ну, так вот письмо этой бабушки первым попало мне в руки. Я узнал ее заостренный почерк и заглянул в письмо без особого интереса. Я бегло просмотрел текст, заранее страшась того, что можно там увидеть, и, как оказалось, опасался я не без оснований.
Дорогая Бетти! – писала бабушка. – Ты знаешь, как неохотно расстаемся мы с привычным комфортом, но я вполне понимаю, что ты стосковалась по дочери. (Зато я совершенно не мог понять, как можно стосковаться по тетке Луйзи.) Да и нашей дочери тоже не помешает вырваться на несколько дней из деревенского захолустья и скуки… (Тут опять нашлось над чем призадуматься, потому что матери скучать было некогда, и до сих пор я как-то не замечал, чтобы ей хотелось вырваться из дома. Нет, я решительно ничего не понимал, поэтому пришлось читать письмо дальше.) Мы прикинули, что тебе бы лучше выехать в пятницу, 20-го, а мы приедем к вам в субботу, 21-го, и тогда Аннуш с Лайошем смогут отбыть в тот же день. Вернешься ты в пятницу же, через две недели, дети – на следующий день, и в субботу же отбудем домой и мы. За ребенка можешь быть спокойна, я за ним присмотрю, как я убедилась, он у вас довольно разболтанный… (Ах ты, вредина старая, – непочтительно подумал я, и настроение у меня сразу скисло: ведь «разболтанным ребенком», за которым та бабушка собирается присматривать, мог быть только я.)
Сердечно приветствую тебя.Юзефа.
Я сложил письмо, убрал его на место и с горечью почувствовал себя обманутым. Мне показалось даже, будто на чердаке стало гораздо прохладнее.
– Не вини шкатулку, она тебя предупреждала… – скрипнуло подо мною старое кресло.
«Я и не виню, – подумал я. – Только мне от этого не легче!» – Теперь мне стало ясно, почему перебирала матушка весь свой гардероб, без конца советуясь с бабушкой, и понятен стал смысл услышанной фразы о том, что «придется и шляпу купить».
– «Сердечно приветствую тебя…» – шепотом повторил я.
– Да, – прошелестела нижняя юбка, – а не какое-нибудь «прощай покудова». Сразу чувствуется, что твоя бабушка – истинная дама…
– Написать «сердечно приветствую» – еще не значит быть дамой, – возразила шляпа дяди Шини. – Знавали мы графиню, которая куда заковыристее кончала письма, а муженьку своему в вино столько яду подсыпала, что когда с остатков пробу снимали, шесть собак передохло…
– Спокойно, не увлекайтесь, – прогудел дымоход. – Мальчику это знать не интересно. Не горюй, дружок, две недели быстро пройдут…
– Не так быстро, как тяжело, – хихикнула кочерга. – Знаю я эту старуху: в доме будет чистота, порядок и гробовая тишина… хи-хи-хи!
– Да уж, порядок будет военный, – повернулись нашивками гусарские штаны. – Папаша ее, как я слышал, был из улан. Конечно, с гусарами не сравнишь, но военный и есть военный.
– Снаружи дунь, изнутри плюнь, – презрительно отозвался посох дяди Шини. – Нигде так не били простых солдат и не измывались над ними, как в уланских частях. Там, видишь ли, каждый офицеришка – хотя бы из самых нижних чинов – и тот баронского звания был. Как-то раз в Дебрецене уланский вахмистр вздумал было к нам цепляться – ну, так его потом на простынях из кабачка выносить пришлось…
– Если это правда, – неосторожно ляпнула мышеловка.
– Даже самой глупой и безжалостной мышеловке следовало бы знать, что в моем возрасте, а тем более в нашей среде…
– Не лгут! – в один голос откликнулись все остальные.
– Прошу прощения, – пролепетал коварный язычок мышеловки, который способен был угомониться лишь в том случае, когда захлопывался за несчастной мышкой и стерег ее до тех пор, пока она не подыхала с голоду. – Иной раз сболтнешь не подумавши…
– Бывает! – чуть колыхнула оборкой нижняя юбка. – Но вообще-то одно могу сказать, что судомойки никогда не напишут в письме «сердечно приветствую». Помнится, мы с барышней всегда потешались над письмами Юли.
– Выходит, твоя барышня читала чужие письма?
– А отчего бы ей было не читать? Барышня моя была из благородных, а Юли – простая служанка. Йошка, дружок ее, служил в солдатах, а она ему расписывала: