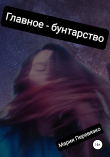Текст книги "21 день"
Автор книги: Иштван Фекете
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
«Храни тибя гасподь, астаюсь преданная тибе Сабо Юлианна».
– Того, кто способен читать чужие письма, барышней еще назвать можно, но уж благородной никак не назовешь! – осуждающе просвистел топор. – Я так считаю: кость костью, а мясо мясом…
– Топор прав, – согласился с ним зонтик.
– Ничуть он не прав, – скрипнуло подо мною кресло. – Все вы забываете, что тогда это было в порядке вещей.
– Я понимаю, почему кресло так говорит, – качнулась переброшенная через балку веревка. – Барышня была ему симпатична, но кресло неправо. Люди всегда были равны.
– Ха-ха-ха! – насмешливо хохотнула тыква-цедилка, воспользовавшись тем, что в нее задул сквознячок. – С вами со смеху лопнешь! Выходит, вашей братии безразлично было, по крестьянину заупокойную служить или по губернатору?
– Безразлично! Служба была одинаковая.
– Только служили вы по-разному, – сказала свое слово шляпа дяди Шини.
– Да нет же! Внутри, в душе, все мы…
– Жаль, что только внутри! – досадливо оборвал веревку дымоход. – Кто поверит, что печь пропускает воздух, если я не начну чадить?
«Верно, – подумал я, – никто не поверит. – И я бережно опустил крышку шкатулки. – Как знать, что хранится в шкатулке, если не заглянуть туда?» – Я тоскливо приладил на место замок, потому что теперь знал: две недели в доме будут царить жестокая дисциплина, холодный неуют, порядок и тишина, как на кладбище…
– Ну, я пошел, – уныло прошептал я, и никто мне не ответил; лишь старый, закоптелый дымоход прогудел в утешение:
– Пройдет, сынок…
Конечно, прошло, как и любая напасть, но пережил я эти две недели с большим трудом.
Прежде мне не бросилось в глаза, но теперь-то я заметил, что в доме подготовка к отъезду идет полным ходом. Я, правда, делал вид, будто ничего не замечаю. Бабушка порой кидала на меня жалостливые взгляды, а когда ей казалось, что я сплю, она в своих монологах не раз повторяла:
– Бедный мой мальчик! Ну уж как-нибудь потерпите тут с тетушкой Кати…
Из этих ее слов я заключил, что в доме остается – если, конечно, тоже не сбежит – одна лишь тетушка Кати.
Несколько дней спустя бабушка осторожно обронила:
– Тебе придется ночку-другую переночевать с тетушкой Кати…
– А вы, бабушка?..
– Мне нужно к тете Луйзи наведаться. Понимаешь, сынок, они опять съезжаются с дядей Лаци… Но я постараюсь поскорее вернуться.
Мне не хотелось говорить ей, что в этом я и сам уверен, а потому я промолчал.
Маме тоже недурно бы сообщить мне о своем отъезде, – думал я, но понимал, что она молчит меня жалеючи. С отца нечего было и спрашивать: по его мнению, ребенок должен подчиняться старшим беспрекословно, и точка. Не родителям же у детей спрашивать разрешения!
Хорошенько обдумав все это, я выдвинул непочтительное предположение, что мой мудрый отец, который тоже недолюбливал другую бабушку, решил пригласить стариков из Капоша неспроста. Они с матерью тем самым сумеют немного отдохнуть, поразвлечься в Пече, и за ребенком будет кому присмотреть. Ну, и старики приглашены погостить у нас честь честью. Правда, капошская бабушка неохотно бывала у нас, оставляя дома свои вытянувшиеся во фрунт бокалы и пепельницы, привычный комфорт и «Пештский вестник», получаемый из столицы на следующий же день, но если ее не приглашали, она обижалась.
Зато в отъезде бабушки к тетке Луйзи не было никакого заднего умысла, поэтому и другая бабушка в порядке исключения на этот раз не обиделась.
Один я был кругом обижен, но до этого никому не было дела.
– Сынок, ты говори бабушке не «целую руку», а «кисти-ханд», ей это будет приятно, – сказала мама.
– А по-венгерски ей не сгодится?
Этот дерзкий и даже наглый вопрос вырвался у меня за обедом, и отец от возмущения даже ложку положил.
– Выдрать бы тебя как следует, но мать этого не любит… Поэтому в наказание после обеда гулять не пойдешь и напишешь три страницы прописей. Отправляйся и немедленно приступай к делу.
Я увидел, как мамины глаза заволоклись слезами, но в тот же момент я узрел на столе гору блинчиков с ореховой начинкой, и от этого зрелища и на мои глаза навернулись слезы.
– Как, сейчас? – трепетно переспросил я.
– Немедленно!
В напряженной тишине я встал из-за стола и, с ревом проклиная свою судьбу, побрел писать прописи.
Но на этом выволочка не кончилась: бабушка, что было совершенно не свойственно ей, нещадно выбранила меня.
– Прямо удивляюсь, как это отец не выпорол тебя!.. Ты совсем, что ли, ума лишился? Ведь знаешь, что этим только маму, бедняжку, вконец расстроил!
– Чего бы ей самой не остаться дома и не побыть со своей матерью? Все меня бросают, и вы, бабушка, тоже уезжаете… – потоки моих слез захлестывали «обильный рыбой Балатон и богатую винами Бадачонь».
– У них дела…
Что было на это ответить? Меня ведь не проведешь: если у них дела, то незачем ездить в Печ и шляпу покупать тоже не обязательно.
До самых сумерек я расписывал изобилие балатонского края, а тем временем у Кача кипела бурная летняя жизнь и стыли на столе блинчики с орехами, так что за ужином я едва смог осилить шесть штук.
Под смягчающим воздействием блинчиков я попросил прощения у мамы, единственным желанием которой было простить меня; я пообещал ей говорить бабушке «kisztihand» и даже «Guten Morgen» по утрам, но напяливать башмаки согласился лишь по воскресеньям. И заново переписал три страницы, потому что «если отец увидит это schweinerei, он просто убьет».
Вся семья пребывала в волнении, даже моя добрая, славная бабушка и та заговорила по-немецки, хотя немецкого и не знала.
На этом волнения вроде бы и улеглись – вплоть до следующего дня, когда во дворе у дядюшки Пушки умер каменщик. Я как раз забежал туда с поручением отца, когда каменщик дядюшка Янчи, мужик со здоровущими усами, присел на кучу песка, откинулся назад – и испустил дух. Никто и не догадался об этом, пока не подоспел доктор. Он распахнул рубаху каменщика и прижался ухом к его потной волосатой груди. Послушав немного, он выпрямился и стал вытирать ухо.
Рядом стоял и дядюшка Пушка – плотник по ремеслу.
Старичок-доктор, все еще вытирая ухо, обратился к нему.
– Ну что ж, господин мастер, можете мерку с него снимать.
– Неужто помер?
– Вот именно… В этакую жарищу надо пиво пить, а не палинку хлебать! От него палинкой разит – не продохнуть.
Между тем прибежала и новоиспеченная вдова. Она не плакала, не причитала, только молча ломала руки, а потом повалилась на труп мужа.
Двор опустел.
Я тоже побрел к дому.
Значит, вот она какая – смерть?
Все произошло очень просто – немножко странно, однако же ничуть не страшно. Завалится человек, и вся недолга.
– Ох, сынок, и зачем только тебя понесло туда, – разохалась бабушка за обедом, где и я сидел уже полноправным членом семьи – блудным сыном, вновь принятым в ее лоно.
– Меня папа послал…
– Верно, – подтвердил отец.
– Я как раз шел мимо мастерской, когда дядюшка Янчи взял да улегся на песок. И ведь не крякнул, не пикнул…
В глазах отца на миг мелькнула веселая искорка, но лицо его оставалось серьезным.
– Все мы под богом ходим, со смертью шутки плохи. Ты подумай о вдове; это еще хорошо, что сирот не осталось. Они – бедняки из бедняков, ведь Янчи все до последнего гроша пропивал. Грех говорить, что вдове, в сущности, повезло, но так оно и есть. Глядишь, еще и замуж выйдет…
После его слов за столом воцарилось молчание.
– Можно мне проводить бабушку на станцию?
Вопрос мой прозвучал настолько неожиданно, что отец вопреки своему обыкновению тотчас же согласился. И в результате на следующий день я заявился на конюшню одновременно с дядюшкой Пиштой, то есть на рассвете. Мне было дозволено принять участие в чистке лошадей, и Торопка – должно быть, в благодарность – чихнула мне прямо в физиономию, так что по всем правилам следовало бы заново умыться, но для любого путешественника лошадь стоит на первом месте, а до себя уж только потом руки доходят. Кроме того, мы с Торопкой были давние приятели, именно на ней я брал первые уроки верховой езды, но учение мое завершилось столь головокружительным падением, что занятия конным спортом пришлось на некоторое время отложить.
Но вот, наконец, умытый и разряженный в парадный костюм – и даже при башмаках – я уселся рядом с бабушкой и радостно ожидал, когда дядюшка Пишта цокнет языком и лошади помчатся.
– Значит, мама, ровно через две недели, дневным поездом. Ну, с богом! – сказал отец и махнул рукой, а дядюшка Пишта натянул поводья и прищелкнул языком.
Сонный, едва пробуждающийся лик села мы почти не затронули. Пара великолепных длинноногих стройных лошадей играючи несла коляску, и мы летели чуть медленнее ласточек, выпархивающих из-под навеса крыши. Я всем своим существом ощущал невесомую легкость этого сдержанного полета и, повинуясь невольному порыву, обнял бабушку, лицо которой разрумянилось от рассветного ветерка.
И вот уже мы мчались по проселку, ведущему к станции, вдоль строя высоченных тополей. Над тополями с криками кружили пустельги, а сороки, рассевшиеся по веткам, растерянно моргали вслед облаку пыли позади коляски.
Над пастбищем вставало солнце, по лугу в низине, укрытый сизой дымкой тумана, катил свои воды Кач, и мне чудилось, будто я слышу шум лопастей старой мельницы, хотя сквозь грохот повозки расслышать его было абсолютно невозможно.
Затем мы миновали старинную дубраву и прибыли на станцию Чома.
Я самолично купил бабушке билет до Пешта, и вот уже телеграфные провода загудели, давая понять, что рядом с ними грохочут по шпалам стальные колеса.
Вид стремительно приближающегося поезда всегда заставлял мое сердце слегка сжиматься, но на сей раз времени для переживаний не оставалось.
– Чома! Стоянка – одна минута! – возгласил кондуктор.
Едва бабушка успела подняться в вагон, как состав дернулся и с громким шипеньем-пыхтеньем покатил к Пешту.
Дядюшка Пишта высвободил мне место рядом с собою на облучке; когда мы оставались одни, лошади переходили на шаг, словно знали, что сейчас у нас начнется доверительный разговор, охватывающий широкий круг тем от незаконнорожденного ребенка Юли Лакатош до преимуществ контрабандного табака.
Дядюшку Пишту в первую очередь интересовала возможность приобретения табака из-под полы.
– Дедушка твой все еще этим табачком пробавляется?
– Да, дядя Пишта. Когда мы были в Капоше, ему как раз должны были принести.
– Хорошо бы он догадался взять его листом, я навострился резать лучше, чем в любой табачной лавке. Ну, и мне, глядишь, малость перепало бы.
– Я скажу дедушке, дядя Пишта. А у меня сигара есть!..
– Вишь ты! – одобрительно заметил дядюшка Пишта, мой надежный сообщник по части мелких шалостей и недозволенного катания на лошадях.
Утро было в самом разгаре, пронизанное всеми ароматами лета и ослепительным солнечным сиянием. Лошади плелись шагом, но за повозкой все равно тянулся пыльный шлейф, и жар солнечных лучей пробирался ко мне под одежду.
Впереди нас по дороге брел кто-то с большим узлом на спине.
– Вроде как Юли Немая, – высказал предположение дядюшка Пишта, а я гадал про себя, подвезем мы ее или нет, потому что с этой Юли семья наша находилась как бы в ссоре. Несмотря на свое прозвище, Юли, в сущности, не была немая, хотя с речью у нее, конечно, было не в порядке. Ее судорожные горловые звуки с трудом можно было разобрать, но за неимением другого занятия она разносила слухи по селу и снабжала тетку Луйзи, а отчасти и бабушку свежими сплетнями. Однажды она впутала нашу семью в какие-то гнусные пересуды, и матушка при всей своей кротости буквально выставила Немую из дому, нанеся тем самым смертельную обиду тетке Луйзи. Это случилось в давнем прошлом, но на том дело не кончилось, поскольку бабушка втихомолку продолжала пользоваться услугами Юли: по вечерам, с наступлением темноты, убогая болтунья через сад дядюшки Цомпо пробиралась к нам под окошко.
По этой причине и произошла очередная беда, виновником которой отчасти оказался я, а точнее, Эржебет Батори, кровожадная хозяйка замка Чейте.
Как я уже упоминал, в прошлом году я за десять крейцеров приобрел на ярмарке эту потрясающую книгу, где чуть ли не на каждой странице происходили кровавые убийства и прочие кошмары. Вне себя от страха и волнения я упивался вечером у окна этим чтивом, когда буквально у меня под ухом в темноте раздался дребезжащий голос Юли.
Откуда было знать ей, бедняге, что я в этот момент находился в ванной комнате Батори, где свершалось убийство шестнадцатой по счету молоденькой девушки… С перепугу я заорал так, будто это меня резали, и, опрокинув столик с лампой, полуживой от страха ввалился в кухню.
Разумеется, все наши секреты выплыли наружу. Мама с бабушкой целую неделю не разговаривали, но затем помирились, так как бабушка пообещала в дальнейшем не прибегать к этому источнику информации.
Об этой неурядице, конечно, знал и дядюшка Пишта и сейчас испытующе косился на меня. Тем временем мы догнали злополучную тетку, которая, обливаясь потом, тащилась с узлом по жаре. Я машинально схватился за поводья, что держал дядюшка Пишта.
– Садитесь, тетя Юли!
До самого дома мы и словом не обмолвились, но сейчас, оглядываясь назад из полувековой дали, я словно вижу перед собой увлажненные, благодарные глаза несчастной старухи.
Отец с матерью отбыли после обеда, и с тем же самым поездом приехали мамины родители. Какое-то время мы с тетушкой Кати главенствовали в доме, но не воспользовались своей свободой, а дружно вздыхали и наперебой утешали друг дружку, ничего мол, пройдет. Понять не могу, чего мы так боялись, ведь капошская бабушка была незлым человеком, могла в случае необходимости даже проявить сердечность, но отогреться возле нее душой – хотя бы на минуту – было невозможно. Для нас, взращенных в атмосфере открытых, добросердечных отношений, она до самой своей смерти так и оставалась дочерью улана-австрияка. Конечно, мы не формулировали для себя эти мысли так четко, но чувствовать – чувствовали. Она оставалась далека от нас, даже когда старалась быть приветливой, и почти нельзя было услышать от нее добрых слов, после которых тотчас не наступило бы холодное протрезвление. Она не умела – да и не хотела – расслабиться. Возможно, мы нашли бы общий язык, говори мы все по-немецки? Кто знает!..
Я поднялся на чердак проведать своих друзей, но к шкатулке и прикасаться не стал. Трудно было собраться с мыслями, и ответы на них – тихие вздохи и шорохи – раздавались изредка и скупо.
– То бывает полно, а то пусто, – зевнул кувшин с отбитой ручкой. – Хорошо, когда в тебе молоко, хуже, если уксус. А в конечном счете выплеснут и то, и другое.
Я не многое уразумел из этих высказываний.
– Не хочешь почитать письма, мальчик? – качнулся замок и тотчас встал на место, будто это и не он вводил меня в соблазн.
– Ну уж нет! – скривил я губы.
– Эта немка неплохая женщина! – скрипнуло кресло. – Чистюля, аккуратистка, и куличи печет замечательные. Вот только душа у нее немецкая, что поделаешь. И первого мужа своего она забыть не может.
– Правда?
– Правда, но об этом не принято говорить. Первого мужа она больше любила и дочку свою от первого брака тоже любит больше: та в мать уродилась. Но вас она не подведет… Дедушке твоему надежная жена и никогда не лжет.
– Ах, ни в одном приличном обществе без тонкой лжи не обойдется, – взволнованно заерзала нижняя юбка. – Только этого не хватало – выкладывать все, как на духу!.. Легкие увертки да экивоки так же необходимы в общении светским людям, как близким друзьям – полнейшая искренность.
– Не слушай ее, сынок. Ведь вот и среди юбок-то лишь одна нижняя на язык не воздержанна. А иной раз помолчать не грех, – скрипнуло кресло. – Моя хозяйка сколько раз промолчит, бывало, хотя могла бы и высказаться. Если нечего путного сказать, то лучше промолчи, сынок. А там, глядишь, и прошел момент, когда поневоле соврать пришлось бы…
«Никогда не вру без надобности, – подумал я. – Но зато уж если надо…»
Тут наступило всеобщее молчание, и я поднялся.
– Ты все же по возможности заглядывай к нам, сынок, – приветливо махнула мне шляпа дяди Шини. – А если раскричится старая ведьма…
– Что за вульгарный тон! – возмущенно дернулись гусарские штаны. – И по отношению к даме… Только от бродяги какого-нибудь и услышишь…
– Да она вовсе никогда и не кричит, – расстроенно сказал я. – Лучше бы уж разок как следует раскричалась… – я начал спускаться вниз, но еще услышал, как дорожный посох дяди Шини пробурчал:
– Бродяга!.. Господи, хоть бы довелось еще побродить по свету! Я согласен идти об руку даже с этим мальчиком – все равно куда, лишь бы стучать и стучать по дорогам под пальмами Сицилии, в дубравах Польши, сосновых борах Германии или под родными акациями…
– Из мальчика бродяги не получится, – гулко ухнул дымоход.
– Очень жаль! – колыхнулось сорочье перо. – Очень жаль! Ведь мог бы стать счастливым человеком…
Солнце стояло еще высоко, когда подкатила коляска и мы с тетушкой Кати вытянулись в дверях, как школьники перед отцом…
Бабушке мы поцеловали руку.
– Mein Kind,как ты вырос! Осторожно, Кати, не разбей…
– Здоровый вид у тебя, Пишта, сынок, – сказал дедушка и не больно щелкнул меня по макушке. – Цел у тебя нож из старой косы? – затем обратился он к дядюшке Пиште.
– А то как же, господин старший лесничий! Вчера наточил, думаю, вдруг пригодится…
– И хорошо сделал. Я тебе скажу, когда надо будет.
Дедушка с бабушкой вошли в дом.
В моем присутствии явно не было никакой необходимости, и все-таки я околачивался на виду, причем, по случаю приезда родственников, разодетый в парадный костюм и в ботинках.
– Тебе что-нибудь нужно, детка?
– Бабушка, можно мне раздеться?
Бабушка перестала выкладывать вещи из чемодана.
– Уж не собираешься ли ты сейчас ложиться?
– Одежда-то на нем парадная, – пояснила тетушка Кати. – И ботинки жмут.
– Ну конечно, переоденься, – пресек дальнейшие пояснения дедушка. – Веди себя так, как обычно. Теперь мы уже не гости.
Бабушка вроде бы хотела что-то сказать, но затем опять склонилась над своим чемоданом, а я у себя в комнатке облачился в будничную одежду и убрал на место парадный костюм, что по праву могло считаться исключительным событием. Я и сам расчувствовался от такой высокой степени сознательности и решил наведаться в конюшню и обсудить все новости с дядюшкой Пиштой.
Двери, послушные моей руке, открывались легко и бесшумно, и я скользил, как ящерица в траве, но бабушку угораздило именно в этот момент выйти на террасу. У нее была дурная черта входить или выходить или смотреть на тебя в самый неподходящий момент. Скорее всего это получалось у нее не нарочно, однако щекотливые и даже неприятные ситуации так и липли к ней.
– Куда ты идешь, дитя мое?
– На конюшню.
– А прописи написал?
Терраса качнулась и поплыла передо мною. К счастью, я стоял в тени, и было не очень заметно, как я вспыхнул.
– Да…
– Покажи, детка.
Руки у меня чуть дрожали, когда я подсунул ей вчерашнюю страницу с прописями.
Бабушка внимательно изучала написанное, а у меня словно муравьи шныряли под голыми пятками.
– Ну что ж, совсем неплохо. Отец неправ, потому что почерк у тебя, конечно же, исправился. – С этими словами она вытащила из кармана огрызок карандаша и твердой рукой проставила в уголке страницы дату.
– Такой порядок и установим. Перед отъездом я распишусь еще раз напоследок, и покажем твоему отцу. Ну, а ты, если вздумаешь куда отлучиться, всегда говори, чтобы я знала, где ты находишься.
– Хорошо! – я пошатываясь спустился с террасы и никуда не пошел, позабыв, что собирался идти на конюшню.
Пропади все пропадом! – заходился я с досады. Ведь чаще всего я брел прочь со двора – в ворота или через сад – без какого бы то ни было определенного плана, и цель вырисовывалась передо мною лишь позднее. И сейчас я почувствовал, что моему вольному, бесцельному существованию пришел конец.
– Кати, – услышал я бабушкин голос из дома, – собери-ка ключи!
– Ключи?!
– Ну да! Я ведь, кажется, по-венгерски сказала.
Тетушка Кати прошла мимо, даже не взглянув на меня. Лицо ее горело чуть ли не обжигающим гневом. Она заперла чердак, подвал, кладовую и отнесла ключи бабушке, а я убрался на конюшню.
Дядюшка Пишта точил самодельный нож для резки табака.
– Не велел мне идти старый господин?
– Нет!
– Вон как! – он с любопытством взглянул на меня. – Или стряслось чего?
– Если вздумаю отлучиться со двора, то должен ей докладываться. А тетушке Кати велела все ключи собрать, – выпалил я непочтительно, даже не назвав «упомянутое лицо» по имени. Но дядюшка Пишта и без того понял, о ком идет речь, и улыбнулся, а точнее сказать, ухмыльнулся.
– Чисто генеральша! – нож звонко цвикал о точильный камень. – Ей бы среди военных порядок наводить…
– Уланша, – пренебрежительно отмахнулся я от своей блаженной памяти прадеда-поляка.
И тут в конюшню ворвалась тетушка Кати.
– Оглох ты, что ли? Ступай табак резать! – и она в сердцах хлопнула дверью.
Дядюшка Пишта нацепил фартук и в этом облачении напомнил мне священника, которому я иногда прислуживал.
На крыльце уже были разложены табачные листья, а рядом сидел дедушка с длинной трубкой в зубах.
– Этот табак из Сулока, а этот – из Копара, – указал он на две кучки. – Бери поровну каждого, а там проверим на вкус. Сулокский будет покрепче, а копарский – какой-то турецкий сорт. Как тубероза.
Ночью я спал с тетушкой Кати; во-первых, я привык к своему месту, а потом мне больше и негде было бы устроиться. Я думал, что мы обсудим с тетушкой Кати сложившееся положение, но заснул, прежде чем она успела отправиться на покой, а пробудился на рассвете оттого, что старуха вертелась с боку на бок и тяжело вздыхала, а кровать скрипела под ней. Я какое-то время ждал, что она, как бабушка, заговорит сама с собой, но поскольку она лишь молча вздыхала, пришлось мне подать голос первым.
– Ай-яй-яй! – прокряхтел и я, давая понять, что башмак жмет, хотя ни один из нас башмаков не носил, кроме как по воскресеньям. Тетушка Кати пользовалась шлепанцами из сукна, к которым сама же подшивала подошву из грубого домотканого холста. Зимой и в грязь такая обувка, конечно, не годилась, но зато, прямо не снимая шлепанцев, можно было сунуть ноги в деревянные башмаки и ходить в них по двору. А затем в сенях деревянные башмаки сбрасывали и с чистыми ногами входили в кухню, потому что в Гёлле каждый дом начинается с кухни, куда справа и слева выходило по комнате.
– Чего не спишь? – спросила тетушка Кати. – А потом меня же еще и обвинят, будто дите разбудила…
– С бабушкой мы обычно разговаривали в это время, – поспешил я оправдать свое раннее пробуждение, на что тетушка Кати снова вздохнула.
– А всему причиной барышня Луйзи, неймется ей. Она и в девках такая была…
– Тетя Луйзи?
– Она самая. Хочешь мать повидать, так садись и приезжай сама, нечего заставлять старуху раскатывать. Опять они, вишь, с господином Ласло сошлись.
– Дядя Лаци хороший…
– Вот оно и беда! Ей бы надо такого муженька, как господин Миклош, он бы ей живо все шарики на место вправил… А у нас тут совсем другая жизнь пошла. Чего только человек не натерпится!..
– Скоро пройдет, – повторил я то, что слышал от других.
– Знамо дело, пройдет! Тебе хорошо: сбежишь из дому, и ладно, а мне податься некуда…
– Мне теперь тоже не разбегаться, тетя Кати. Эта бабушка желает всегда знать, где я нахожусь.
Тетушка Кати не ответила и наверное подумала о том же: сам дьявол не угадает, где через час очутится! Мне-то эта мысль давно покоя не давала. Отправлюсь я, допустим, в восемь часов к Янчи Берта, который вдруг припомнит, что видел на старом пастбище сорочье гнездо. Дорога туда займет час, а когда мы туда дотопаем, окажется, что гнездо уже пусто. Тут выясняется, что у кого-то из ребят есть на примете гнездо лысухи. Пока проверим гнездо, времени уже десятый час. Кто-нибудь из нас предложит искупаться на мелком месте; но там грязная вода, поэтому после придется бежать на Кач смывать с себя ил, – вот вам и десять часов. К тому времени мне вспомнится, что в саду у дядюшки Цомпо созрели яблоки-скороспелки; к яблокам дядюшка Цомпо даст еще и краюху хлеба… Едва успеешь перекусить, уже одиннадцать часов, а там появится дядюшка Декань с соблазнительным предложением:
– Ну, огольцы, кто сегодня полдень пробьет? А то мне люцерну косить надобно…
Отказаться от такого соблазнительного предложения нельзя по целому ряду причин. Во-первых, дядюшка Декань обидится и в другой раз не даст позвонить, а во-вторых, бить в церковный колокол – первейшее удовольствие для нашего брата – ребятни. Вот и приходится дожидаться полдня, а там пока доберешься до дому с ногами, от грязи черными, как у чирка-трескунка, и с клочьями паутины в волосах, – семья уже приступила ко второму.
Не знаю, выстраивалась ли в мозгу тетушки Кати эта картина так стройно, одно знаю: в действительности именно так все и вышло.
Мое появление за столом было встречено ледяным молчанием.
Я поздоровался и занял свое место, где почему-то отсутствовал прибор.
Молчание в комнате становилось все более гнетущим. Я с тревогой взглянул на дедушку, но он не ответил мне взглядом.
– Пойди умойся, – мимоходом обронила бабушка, – и захвати себе тарелку.
– Дядюшка Декань попросил отзвонить вместо него в полдень…
Мне никто не ответил.
– Ведь я сказала вчера, – позднее заговорила бабушка, – что я желаю знать, куда ты идешь.
– С утра я и сам этого не знаю, бабушка.
– Тогда обожди, пока не соберешься с мыслями. Таков был мой приказ, и впредь, если ты опоздаешь к обеду, можешь отправляться обедать к звонарю. Прямо поражаюсь, как это отец тебя к порядку не приучил…
Я промолчал. С одним куском мяса я уже успел управиться, и другая моя бабушка в таких случаях или сама подкладывала мне следующий или же спрашивала, не хочу ли я еще. Но сейчас мне никто не делал никаких предложений.
Отец, видите ли, не приучил меня к порядку! Да он только этим и занимался, и в доме у нас действительно царил порядок – правда, не такой, как в казарме. И к обеду я обычно не опаздывал, ну а если и опоздаешь на несколько минут, то разве что поругают… Иногда отец тоже опаздывал, и в таких случаях мы ждали его.
– Сколько раз вам говорить, чтобы не ждали! Дела у меня…
Но мы всегда дожидались его.
А сейчас все молча сидели; мне никто не предлагал еды, а я не решался попросить.
– Если больше не хочешь, скажи этой женщине, чтобы убрала со стола.
– Тетушке Кати?
– По-моему, другой женщины в доме нет…
По-моему – тоже, но эта манера говорить с подковырками была непривычной и очень раздражала меня.
Тетушка Кати убирала со стола грязные тарелки.
Мы по-прежнему сидели, и я не смел нарушить эту атмосферу злобной скованности. Я не знал, что мне делать или сказать, утратив всяческую уверенность даже в таких действиях, которые знал наверняка. От неподвижного сидения меня постепенно стало клонить в сон.
– Чем ты собираешься заняться после обеда?
– Не знаю, – испуганно встрепенулся я, потому что и в самом деле не знал этого.
– Урок свой выполнил?
– Нет еще.
– Вот и берись, не откладывая в долгий ящик. Я бы на твоем месте уж давно написала бы.
– Обычно мы с бабушкой спим в это время.
– Ваше дело. По-моему, дурная привычка ложиться спать на полный желудок, но если ты к этому привык, я не возражаю. А потом покажешь мне тетрадь по чистописанию.
– Хорошо, – я встал из-за стола и пошел к двери.
– Благодарю за обед! – резко воскликнула мне вслед бабушка.
– Да-да, я забыл, – отозвался я.
Бабушка безнадежно махнула рукой.
– Schrecklich![1]1
Ужасно! (нем.).
[Закрыть] – сказала она, а я поплелся на кухню, взволнованно переживая случившееся. Ведь я прикидывал про себя, стоит ли поблагодарить за обед, тем более, что у нас в семье был заведен такой обычай, а когда я бывал в Капоше, то там тоже всегда так делал. Но после всех бабушкиных нападок решил, что благодарности от меня она не дождется. Да и с какой стати благодарить ее? Обедом этим меня обеспечили мои родители, а приготовила его тетушка Кати – приезжая бабушка тут ни при чем.
Мне было не до сна. Я разглядывал свою тетрадку и думал: исправился мой почерк или не исправился, а эта проклятая дата красуется на месте, и о том, чтобы подсунуть на проверку прежнюю страницу, речи быть не может. Что тут сделаешь? Да ничего! Я не видел другого выхода, кроме как написать новую злополучную страницу прописей. Беда была в том, что в голову мне лезли всякие посторонние мысли, и лишь на чистописании сосредоточиться никак не удавалось.
«А потом покажешь мне тетрадку!»
И все это потому, что тетке Луйзи «неймется», и они опять «сошлись» с дядей Ласло…
«Хорошо этим взрослым, – думал я. – Хотят – сойдутся, а накатит на них – опять разойдутся». Проблема эта явно превосходила мои жизненные познания, и я ломал голову, пытаясь представить себе тетку Луйзи и дядю Ласло, которые сходятся друг с дружкой вплотную, чуть ли не стукаясь лбами…
Мысли были интересные, но они лишь растягивали время и ничуть не ускоряли минуту, когда передо мной по крайней мере раз тридцать чередовались бы прописные истины насчет обильного рыбой Балатона и богатой винами Бадачони.
До чего они мне опротивели! Мало ли на свете хороших стихов – одни Арань и Вёрёшмарти чего стоят! А «Витязь Янош» Петёфи! Я запоем три раза прочел его от корки до корки, сидя на чердаке свинарника, хотя блохи меня чуть заживо не сгрызли. Да, ничего не скажешь, Петёфи умел писать, даром что был из простых.
«Точь-в-точь как мне», – думал я, хотя в тот момент свобода была важнее любви. С любовью у меня пока что все складывалось как надо. В жены я возьму Илону – мы с ней уже условились – или же Терезу. Другие кандидатуры даже в расчет не принимаются. У Илоны дивные косы, зато Тереза куда как хороша в своей новой жилеточке. Но с этим делом пока что не к спеху, а вот свобода необходима позарез, и я, прихватив с собою чернильницу с ручкой и тетрадку, направился в сад, где под ореховыми деревьями круглый мельничный жернов служил столом; я тешил себя надеждой, что там мне будет легче управиться с обильным рыбой Балатоном.
Однако чистописание никак не шло. Я сидел, тупо уставясь на чистый тетрадный лист, и не в силах был себя заставить.
Я мечтал отправиться на чердак, в конюшню, к Качу – куда угодно.
Правая рука у меня сделалась тяжелая, будто каменная.
Над моей головою перешептывались ореховые деревья, вдоль края стола пробиралась вперед волосатая гусеница; из кузницы было слышно, как Лайош Цомпо бьет молотом по железу, и где-то заливалась трелями иволга.
Всем телом и душою наслаждался бы я блаженным теплом и ароматами лета, если бы не чистописание. Чтоб их черт побрал, всех этих балатонских рыб с бадачоньскими винами вместе! А дёргичские вина хуже, что ли? Дядя Миклош говорил, что за бочку бадачоньского не отдаст стакан дёргичского рислинга, а уж дядя мой знал толк в этом деле… Правда, Дёргич ведь тоже находится где-то возле Балатона.