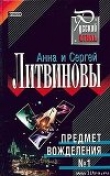Текст книги "Жизнь Владислава Ходасевича"
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Глава 4
Муни


Самуил Киссин
Фотография Л. Я. Брюсовой. 1911 год
Самым близким другом юности, обретенным вдруг в пестроте московской литературной жизни осенью 1906 года, стал для Ходасевича Самуил Киссин. Он составлял для Владислава в те годы все, заполнял весь мир. Был он родом из Рыбинска, из небогатой еврейской семьи. Когда они познакомились с Ходасевичем, учился на юридическом отделении Московского университета и жил, с трудом сводя концы с концами, на те двадцать пять рублей в месяц, что посылали ему родители.
Сначала Ходасевич и Муни крепко не понравились друг другу, может быть как раз в силу взаимной похожести, обмениваясь ядовитыми стрелами свойственной им обоим иронии. А примерно через год вдруг «открыли», поняли друг друга. И уже обходиться друг без друга не смогли. Это была та первая сладкая дружба, подобная первой любви, когда все отдается и все возвращается назад, и одиночества словно нет и в помине: вдвоем они образуют внутреннее духовное пространство, куда другим нет входа. «После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною».
«Муни» – псевдоним, под которым Киссин печатал свои стихи «в крошечном журнальчике „Зори“». Но так звала его вся Москва: уменьшительное от Самуила и в то же время второе имя Будды – Сакья Муни, Муни, что на санскрите означает «мудрец», «аскет, давший обет молчания». Это запоминалось и импонировало…
Они встречались, когда оба были в Москве, ежедневно, чаще всего в кафе, в ресторанах, на улицах. Так уж было заведено: что бы ни происходило с каждым из них в течение дня, конец его или даже конец ночи они проводили вместе, словно возвращались в свою семью после дневных трудов. Часто сиживали вечером в кафе на Тверском бульваре, а заканчивали вечер в дешевом «Международном» ресторане, на углу Малой Бронной, поблизости. Иногда свидания назначались в три, в четыре, в пять часов ночи. Весной и летом, в ясную погоду, встречались «у звезды», которая всходила из-за Страстного монастыря на рассвете. И они стояли на Тверском бульваре, глядя на эту утреннюю звезду, а потом переставали замечать ее, углубляясь в свои споры.
Они были тогда удивительно близки, близки во всем – в символистском ощущении другого мира, лишь отражающего реальный (он был для них гораздо более реален), в темных и смутных предчувствиях, исходящих из него, из этого второго мира, во всеразъедающем скепсисе. Их не любили, как пишет Ходасевич, за «скептицизм» и «карканье» – за разговоры о наступающих мрачных событиях, каких именно, неизвестно. Но они старались и не говорить с посторонними; у них был свой, особый язык – язык намеков, понятный лишь им одним. Общаться другим людям с ними двумя было трудно, почти невозможно.
Иногда происходили невообразимые вещи:
«Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий.
– Да что там! Видишь, вон та коляска. У нее сейчас сломается задняя ось.
Нас обогнала старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такой же дамой.
– Ну, что же? – сказал я. – Что-то не ломается.
Коляска проехала еще сажен десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посредине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я насилу отговорил его».
Можно верить в это, можно не верить, но это была свойственная символизму и вообще рубежу веков, «канунам», страсть к пророчествам, предвидению, ко всему таинственному и необъяснимому, сулящему «неслыханные перемены, невиданные мятежи». Эту страсть и веру в таинственные предзнаменования, в знаки иного мира, в приметы Ходасевич разделял и с Пушкиным, который был, как известно, суеверен.
Потом, после гибели Муни, дар предвидения каким-то таинственным образом передался Ходасевичу. Юрий Терапиано вспоминал, что уже в эмиграции Ходасевич мог вдруг сказать: «Сейчас к нам идет гость» – и назвать его, и названный действительно появлялся как по волшебству… Такой дар предвидения зачастую сочетается с неврастенией…
Муни был нескладным человеком во многих смыслах. Большого роста, с бородой библейского пророка и огненными тоскливыми глазами, он не знал, куда девать непомерно длинные руки. При своей шумности и язвительности он был добр и заботлив – например, пытался оттянуть от наркотиков Нину Петровскую, просто отбирая у нее ампулы и не слушая ее проклятий.
В житейских делах он был бестолков и беспомощен. С трудом мог найти себе службу для заработка – искал и не находил. «Все, за что брался Муни, в конце концов не удавалось и причиняло боль – потому, вероятно, что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Все „просто реальное“ было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким-то „другим концом“ ударяло по нему. В конце концов все явления жизни превращались для него в то, что он звал „неприятностями“. Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. <…> Он говорил, что ему противно и страшно „лить воду на мельницу действительности“».
Одним словом, фигурой он был совершенно трагической, невозможной в жизни, страдающей от нее гораздо больше других…
Женился он тоже, по-видимому, не очень-то удачно – на Лидии Брюсовой, сестре поэта, который был в душе, по утверждению Ходасевича, антисемитом (хоть это и опровергалось родными) и даже не пригласил шурина на юбилей своей литературной деятельности, праздновавшийся во время войны почему-то в Варшаве, где Брюсов находился в качестве военного корреспондента и где в это время как раз и служил Муни. Лида была тихой, заботливой, преданной мужу, но он, увы, втайне был давно и безнадежно влюблен в другую – обольстительную и переменчивую скромницу Женю Муратову, о которой речь пойдет в следующей главе. Сама Муратова, по-видимому, об этом и не догадывалась. Она была – под именем Грэс – героиней его пьес и повестей.
Пьесы были, как ни странно, где-то между футуризмом, который так не выносил Ходасевич, да и сам Муни, и символизмом. Одна из них, например, называлась «Месть негра». Негр в крахмальной рубашке и подтяжках появлялся в разных местах Петербурга и произносил примерно такие слова: «Так больше продолжаться не может (и ударял в барабан). Я обуреваем». А вокруг него, в изображаемых на сцене эпизодах, разливалась невыносимая пошлость. «По ходу действия» он попадал под трамвай, о чем объявлял на сцене театральный механик, и дальнейшее действие отменялось. Наверно, это и было «местью негра».
Среди стихов были настоящие. Он почти не печатал их. При жизни его так и не вышло ни одного сборника, но он не был этим озабочен. Вот одно из его поздних, 1916 года стихотворений, певучее, как песня, и в своей простоте безысходное:
Судьба моя простая:
Искать и не найти,
За счастьем бегать, зная,
Что нет к нему пути.
Стучать клюкой дорожной
В чужие ворота,
Входить, где только можно,
Где дверь не заперта; <…>
О жизнь, без слез, без песни,
Лихая жизнь моя,
Круг суетный и тесный
Земного бытия!
Ходасевич собрал его стихи после его смерти, хотел издать. Но ничего не вышло, помешала революция, рукопись потерялась в небольшом издательстве «Эрато», в которое отдал ее Ходасевич…
Муни говаривал Ходасевичу, что его по сути дела нет, «но нельзя, чтобы это знали другие», и утверждал, что «его мечта – это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую, семипудовую купчиху» (подобно черту Ивана Карамазова). Он пытался осуществить эту мечту, изображая одно время совсем другого человека – спокойного и уверенного в себе Александра Беклемишева: менял голос, походку и якобы даже самые мысли, иначе одевался и посылал в журналы свои стихи под этим именем. Но никто, кроме «Русской мысли», печатать незнакомого автора не стал. Ходасевич, по его собственному признанию, предательски «разоблачил» Муни, напечатав в газете «Руль» стихотворение за подписью Елизавета Макшеева (такая девица действительно существовала в XVIII веке, жила в Тамбове и участвовала в представлении пьесы Державина – поэтому и узнал о ней Ходасевич, занимаясь Державиным), посвященное Александру Беклемишеву. В стихотворении легко говорилось о пережитой недавно поэтом несчастной любви, что соответствовало действительным событиям в жизни Муни. Оно вошло в сборник «Счастливый домик» под названием «Поэту» и кончалось такой строфой:
Люби стрелу блистательного лука.
Жестокой шалости, поэт, не прекословь!
Нам всем дается первая разлука,
Как первый лавр, как первая любовь.
Муни не сразу угадал автора, был подавлен и растерян. Пришлось от игры в Беклемишева теперь уже отказаться, но для Муни это была все-таки не совсем игра, так как он действительно не любил свою земную оболочку и стремился из нее вырваться… Герои его прозы тоже раздваивались, переходили из одного облика в другой, мечтали отказаться от своего «я».
Отношения Муни с Ходасевичем внешне строились на взаимной язвительности, особенно когда дело касалось стихов, но любили они друг друга нежно; недаром Муни одно время называл Владислава «своей женой» (подозрений в гомосексуализме они как-то не боялись).
Муни был необычайно строг к своим и чужим стихам, к стихам вообще. Ходасевич писал в «Некрополе»:
«В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал то, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастие быть до конца правдивым, – во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходилось, – он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно».
«Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне – в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил:
– Дай-ка, я погляжу глазами. Голосом – смазываешь, прикрашиваешь.
В лучшем случае, прочитав, говорил, что „это не так уж плохо“. Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:
– Боже, какая дрянь!
Или:
– Что я тебе сделал дурного? За что ты мне этакое читаешь? <…>
Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. „Едкие суждения“ мы по совести предпочитали „упоительным похвалам“. Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться от его тирании. Я знал, что, как ни полезна мне Мунина строгость, все же в конце концов она меня задушит. Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к чему-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком-то вечере в Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону:
– Нет, прости, не приду.
– Почему?
– Так, не сочувствую. Не нужно все это, будь здоров.
И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало».
Муни, возможно, ощущал разницу в степени их одаренности, и ощущал мучительно, сам себе в этом не признаваясь. Но разница была в те годы еще и не так ощутима, и совсем неизвестно, во что дальше развилась бы поэзия Муни. Стихи спасли Ходасевича. Но Муни они спасти не смогли. Он уже считал последние дни; «не нужно все это», также как и не нужна сама жизнь… Разлад с действительностью уже дошел до предела.
Муни покончил с собой в Минске, выстрелом в правый висок, найдя в столе у ушедшего куда-то сослуживца, жившего в соседней комнате, револьвер. В предсмертной записке он написал: «Видит Бог, я больше не могу. Да простит меня Бог». Он не просил прощения ни у жены, ни у маленькой больной дочери. Он не вспомнил о них, а может быть, старался не вспомнить, чтобы не передумать. А жить дальше было невыносимо – так давила его окружающая пошлость и бессмыслица интендантской службы.
Настроение это нарастало постепенно, о чем свидетельствуют его письма. Приехав в мае 1915 года в командировку в Москву, он еще интересовался литературными делами Ходасевича, вместе с ним возмущался наглостью футуристов, которые вылезли читать стихи на вечере в Обществе свободной эстетики после Ходасевича и других, хотя было условлено, что они не будут участвовать в вечере…
Вернувшись к службе, он писал другу уже без обычной иронии, открыто выражая свои чувства: «Слушай, Владя! ежели мне не будут писать писем, то я одурею совершенно. <…> Боюсь не выдержать и эвакуироваться в сумасшедшем вагоне».
Ходасевич в ответ сообщал ему, что писать особенно не о чем, поэтому он и пишет редко. И, как глухой, между прочим, писал: «В общем, уверяю тебя, что тебе сейчас много лучше, чем мне, во всяком случае – интереснее».
Муни снова писал ему: «…Пойми, я окружен конкретными хамами и неприятностями (мы знаем, что означало это слово для него. – И. М.). Полезность моей работы спорна, абстрактность ее явственна. Понимаешь, я без воздуху, ибо что такое абстракция, как не безвоздушие?»
Он переписывался и с другом со студенческих лет филологом и философом Евгением Боричевским, который любил его, заботился о его семье, посылал ему посылки с книгами. Но даже и тонкий и умный Боричевский в одном из писем советует ему не отказываться от орденов, если будут давать, – пригодится после войны!
Удивительна глухота тех, кто собирается жить дальше, к тем – кто больше не может… Как будто ничего не грозит случиться, и предсмертные жалобы не в счет – им не верят.
18–21 марта, наверно еще в дороге, Муни пишет стихи под жутковатым названием «Самострельная»:
Господа я не молю,
Дьявола не призываю.
Я только горько люблю,
Я только тихо сгораю.
Край мой, забыл тебя Бог.
Кочка, болото да кочка.
Дом мой, ты нищ и убог.
Жена да безногая дочка.
Господи Боже, прости
Слово беспутного сына.
Наши лихие пути,
Наша лихая судьбина.
Все-таки незадолго до смерти он думал о них – о жене и дочери…
Многие, в том числе и в семействе Брюсовых, считали, что там, в тыловом дивизионе, ничего – не на фронте же он, не под пулями. В этом было, действительно, нечто парадоксальное: на фронте, рядом с ним, тысячи гибли по принуждению, он – добровольно. «Не в проклятых Мазурских болотах, / Не на синих Карпатских высотах…» – как писала Ахматова о покончившем с собой еще до войны, в 1913 году, поэте Всеволоде Князеве… Не он один так поступил. Жить стало невмоготу…
Ходасевич вспомнил тогда, конечно, как сам чуть не покончил с собой, как осенью 1911 года, «в дурную полосу жизни», когда погибла мать и умер отец, когда развалился его роман с Женей Муратовой (о чем речь дальше), он зашел к брату и тоже случайно, ища коробочку с перьями, обнаружил в его столе револьвер.
«Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил Муни по телефону:
– Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.
Муни приехал.
В одном из писем с войны он писал мне: „Я слишком часто чувствую себя так, как – помнишь? – ты в пустой квартире у Михаила“.
Тот случай он, конечно, вспомнил и умирая: „наше“ не забывалось».
Ходасевич на всю жизнь сохранил чувство вины перед Муни. Известие о его смерти было ударом, оставившим след навсегда… Недаром он вспомнил в «Некрополе», в очерке, посвященном Муни, его иронические слова, сказанные незадолго до смерти: «Заметь, что я все-таки был».
Ходасевич написал 22 апреля Садовскому: «У меня большое горе: 22 марта в Минске, видимо – в состоянии психоза, застрелился Муни. Там и погребен».
Муни тоже можно, наверное, назвать одной из «жертв символизма» – так Ходасевич назвал Нину Петровскую. Он чувствовал себя своим в том туманном, потустороннем мире символов и предчувствий – в этом, реальном мире ему было не просто неуютно, а невыносимо, он не мог хоть в какой степени приспособиться к пошлости жизни…
Впрочем, на начало XX века пришлась в России, как принято считать, «эпидемия» самоубийств.
Глава 5
Италия


Евгения Муратова
Рисунок Н. П. Ульянова. 1906 год
Любовь эта ворвалась в жизнь Ходасевича в вихре карнавального веселья, взамен все еще ощутимой утраты – разрыва с Мариной. Литературно-художественная Москва зимы 1910 года тешила себя карнавалами. Феерия празднеств, характерных для эпохи: маски, переодевания, легкие, случайные влюбленности… Почувствовать себя другим, сменившим вместе с лицом и душу, перевоплотиться, сыграть роль в жизни – как на сцене, как в собственной книге…
Маскарады были одним из проявлений «сплава жизни и творчества», о котором писал Ходасевич в очерке «Конец Ренаты».
Маскарад, о котором пойдет речь, состоялся в феврале 1910 года, во время Великого поста, и в архиве сохранился даже пригласительный билет на него с таким стилизованным под старину, игровым, как и само действо, текстом:
«Маскерад с аранжированными танцами, театром теней и прочими затеями в доме Баженовых, что под Новинским, за нумером 135, от 10 ½ часа пополудни дня св. Симеона Мνроточивого недели о Мытаре и Фарисее, 13 сего февраля, до утренних часов Марона Пустынника недели о Блудном Сыне.
Званым персонам быть в масках и нарядах.
Жаловать просят:
Н. Ульянов, П. Муратов, Н. Баженов, С. Баженов»
В числе устроителей – художники и писатель, знаток искусств. Дом Баженовых был продан потом Шаляпину, сейчас там музей…
По-видимому, об этом маскараде (или о подобном) писал впоследствии с тоской Борис Зайцев в повести «Дальний край»:
«Казалось, что все было устроено со вкусом и изяществом, но дух распущенности и тусклых маленьких чувств, господствовавший в людях их общества, здесь выступал еще сильней.
Весело плясали маски, на эстраде показывали теневые картины, девицы дунканского вида дюжиной исполняли английский танец в платьях bébé. В буфете пили вино, в темных углах целовались, опять пили, ссорились и мирились – но истинного веселья не было».
На этом самом маскараде Женя Муратова, жена Павла Муратова, одного из устроителей, и явилась Ходасевичу во всем блеске своей веселой, легкой, какой-то детской красоты. И тогда же, в эту зиму, как она сама вспоминает, она «потеряла» в маскарадных увлечениях «Патю», своего мужа. Она пишет о себе и Ходасевиче немного странно:
«1910 год. Однажды дома у себя я увидела молодого человека. (Это было, очевидно, уже после того карнавала. Но, может быть, раньше? Почему его появление в ее доме описано как неожиданность? Или это кокетство? – И. М.) Он был довольно высокого роста, очень тонкий, даже худой. Смугло-зеленоватая кожа лица, блестящие черные волосы гладко зачесаны. Элегантный, изящный, как-то все хорошо на нем сидит. В пенсне. Когда он их снимает, то глаза у него детские и какие-то туманные (я говорила: как у новорожденного котенка – он смеялся). Улыбка была неожиданная и так же быстро исчезала, как появлялась. Красивые длинные смуглые пальцы рук.
Мы с ним сразу подружились. У нас обоих наша прежняя „любовь“ разладилась. Он только недавно разошелся со своей женой – высокой красивой „шикарной“ блондинкой – Мариной. У меня же по молодости лет и из-за увлечений маскарадами получился полный сумбур в жизни, чувствах и мыслях».
Преданный ей Патя оказался вдруг не нужен, что-то развело их…
Женя Муратова, урожденная Пагануцци, отнюдь не была инфернальной героиней символизма, не вставала в позу, подобно Петровской, не придумывала себе роковой любви, во всяком случае, не объявляла ее грандиозной, вечной, не молилась на нее. Ничего ходульного, притворного в ней не было. Конечно, она любила, когда вокруг нее много поклонников, конечно, она играла во что-то, как многие тогда. Она была легкой, жизнерадостной, женственной и капризной, обожала в духе эпохи все карнавальное: маски, шали, банты, бумажные цветки, любила наряжаться. Недаром на портрете работы Николая Ульянова ее воздушное платье занимает почти все пространство листа, а выражение лица – такое детское…
Она была отчасти художницей – брала уроки у того же Ульянова, мастерская которого находилась в Крестовоздвиженском переулке, неподалеку от ее отчего дома в Долгом переулке, какое-то время занималась в известной петербургской студии Званцевой. В то же время увлеклась танцем и выступала в труппе Елены Рабенек, последовательницы Айседоры Дункан, – труппе «босоножек». Отчасти актриса, отчасти художница, но так и не реализовавшая, по-видимому, своих скрытых возможностей…
В ней, в ее воздушности, в готовности радоваться всему на свете ощутима была итальянская кровь. Ее прадеда, итальянца Луиджи Пагануцци, пригласили в свое время на строительство Исаакиевского собора в Петербург, но он так туда и не доехал, будучи ограблен и убит на российской дороге, что, увы, частенько случалось в те годы. Несчастную молодую вдову не бросили на произвол судьбы: ей пожаловали землю, а младенца ее, Сальватора Карла, в дальнейшем зачислили во Второй кадетский корпус. Он сделал военную карьеру, дослужился до чина генерал-майора, в отставке жил в имении жены, в Тульской губернии, имел десять детей.
Один из них, Владимир, и стал отцом Жени. Владимир Пагануцци жил в Москве, был юристом, а также членом товарищества по изданию газеты «Русские ведомости». Все это известно от соученицы Евгении по студии Ульянова Киры Киселевой; сама Евгения написала главу о детстве в своих воспоминаниях, но потом ее уничтожила, не желая афишировать, как и большинство ее современников, живших в Советском Союзе, дворянское происхождение. А было у нее, конечно, все как полагалось: няня, гувернантки, Алферовская гимназия…
Их с Ходасевичем после того маскарада и его появления в доме Жени постоянно тянуло друг к другу.
«Все вечера мы стали проводить вместе. „Шлялись“ по Москве, заходили в кабачки, чайные для извозчиков, иногда в Литературный кружок на Тверском бульваре. Владислав был игрок. Любил бросить на зеленое сукно золотой или два – выиграть или проиграть. Я терпеливо сидела около него. Владислав любил острые ощущения. <…>
Помню одну ночь с ним под Пасху – заутреня. Мы где-то в церковке под стенами Кремля – „Нечаянная радость“. Таинственно, пение, всюду зелень, ветки елок, хвоя. Народу мало. Домой идем пешком; толпа, весенний воздух. Все гудит от звона колоколов. Дома стол накрыт, пахнет гиацинтами и хорошими парижскими духами. Я и гости в шелковых платьях. Потом сидим с Владей на Смоленском бульваре и ждем рассвета. Тихо кругом, небо светлеет, деревья еще без зелени, голые. Нам почему-то грустно. Домой идти не хочется».
Но осенью 1910 года, если верить стихам и их датировкам, произошел разрыв. Еще летом Женя писала Владиславу довольно нежные письма из Терриок под Петербургом, где жила на даче, жалуясь на скуку, потом из Петербурга, куда поехала поступать в художественную школу Званцевой; ожидался и его приезд туда же. Но потом она сама вернулась в Москву. Видимо, здесь что-то и произошло, потому что надрывные, полные страдания стихи «Матери» написаны осенью 1910 года. Человек обращается к матери, пусть лишь метафизически, в стихах, чаще всего в минуты крайней боли и тоски.
Мама! хоть ты мне откликнись и выслушай: больно
Жить в этом мире! Зачем ты меня родила?
Мама! Быть может, все сам погубил я навеки, —
Да, но за что же вся жизнь – как вино, как огонь, как стрела?
Стыдно, мне стыдно с тобой говорить о любви,
Стыдно сказать, что я плачу о женщине, мама! <…>
Мама! все я забыл! Все куда-то исчезло,
Все растерялось, пока, палимый вином,
Бродил я по улицам, пел, кричал и шатался.
Хочешь одна узнать обо мне всю правду?
Хочешь – признаюсь? Мне нужно совсем не много:
Только бы снова изведать ее поцелуи (Тонкие губы с полосками рыжих румян!),
Только бы снова воскликнуть: Царевна! Царевна! —
И услышать в ответ: Навсегда. <…>
В том же 1910 году, но очевидно раньше «Матери», написаны стихи «Прогулка», в которых есть такие строчки:
<…> Хорошо, что в этом мире
Есть еще причуды сердца,
Что царевна, хоть не любит,
Позволяет прямо в губы
Целовать.
Хорошо, что словно крылья
На серебряной дорожке,
Распластался тонкой тенью,
И колышется и никнет
Черный бант.
Хорошо с улыбкой думать,
Что царевна (хоть не любит!)
Не забудет ночи лунной,
Ни меня, ни поцелуев —
Никогда!
Бант – характерная деталь маскарадной эпохи. Кокетство? игра в инфантильность?
Но игра идет не на равных: «царевна» утверждает, что не любит. Но Ходасевич (во всяком случае, в стихах) не хочет верить в это «не любит», с усмешкой закрывая на это глаза. Все равно – «не забудет никогда»; мгновенья отвоеваны у вечности. И последующий разрыв, столь мучительный и болезненный, оказывается не окончательным. Роман – в духе времени – возобновляется, тянется, длится не спеша, со своими приливами и отливами…
«Царевна» – это прозванье пришло, скорей всего, от Павла Муратова, который в письмах, еще до брака, называл Женю «принцесса Малэн» – именем героини Метерлинка. «Принцесса» превратилась в «царевну», что для русского уха звучит гораздо милей. Почему Муратов называл Женю именно так, не совсем понятно: принцесса Малэн была кроткой блондинкой с белыми ресницами (что подчеркивается в пьесе неоднократно), а наша героиня – живой, подвижной брюнеткой. Принцесса Малэн умерла, отравленная медленным ядом; по-видимому, Женя напоминала ее своей хрупкостью, воздушностью, незащищенностью…
И снова прогулка вместе, в Вербное Воскресенье. Все это – уже 1911 год. Отношения возобновлены. Они возвращаются домой с вербного базара. «Владислав садится за стол и очень быстро, сразу пишет стихи – „Какое тонкое терзанье, прозрачный воздух и весна…“»
Стихи совсем не радостные, не весенние, не любовные. Они и называются «Ущерб».
Какое тонкое терзанье —
Прозрачный воздух и весна,
Ее цветочная волна,
Ее тлетворное дыханье!
Кажется, что это сродни пушкинскому:
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны…
Но нет, оттенок мировосприятия у «декадента» Ходасевича совсем иной. Пушкинский оксюморон: умиленье, пусть даже тяжелое, – совсем не то, что терзанье, пусть утонченное, тонкое, как лунный серп. Пушкинское умиление, при всей грусти последующих строк («Или мне чуждо наслажденье, / И все, что радует, живит…»), гораздо благодушнее и укорененнее в жизни.
Как замирает голос дальний,
Как узок этот лунный серп,
Как внятно говорит ущерб,
Что нет поры многострадальней!
И даже не блеснет гроза
Над этим напряженным раем, —
И, обессилев, мы смежаем
Вдруг потускневшие глаза.
Пора весны оказывается «многострадальной», в ней – ущерб. «Напряженный рай» (весны? ущербной любви?) приносит лишь усталость: потускневшие глаза, бледнеющие губы, даже грозовой вспышки нет.
И все бледнее губы наши,
И смерть переполняет мир,
Как расплеснувшийся эфир
Из голубой небесной чаши.
Чистой радости тоже нет: смерть караулит свою сестру – любовь, смерть надо всем, и эфир, небесный, голубой, читается как эфир гибельный, эфир – средство забвенья, популярное среди декадентов (вспомним Нину Петровскую).
Любовь ли это? Но им хорошо друг с другом…
«Иногда ездим на извозчике за город – в Петровский парк или Сокольники. Там сырые вечера, мягкая душистая трава, таинственные деревья и далекая холодная луна».
Весной Женя уезжает с труппой Рабенек на гастроли в Лондон. Они с Ходасевичем переписываются, как и прошлым летом, во время разлуки. 22 мая Муратова пишет ему из Лондона:
«Милый, милый Владислав. <…>
Ты написал мне какие-то настоящие слова. Но где наше лицо? быть может, оно бывает лишь минутами. Милый Владислав, почему мы сейчас не вместе? Я так хочу тебя видеть, и мне грустно, и зачем я здесь? Милый Владислав, целую тебя. Когда-то мы увидимся.
Женя».
К сожалению, письмо Ходасевича с «настоящими словами», так затронувшими Муратову, не сохранилось, мы можем лишь отчасти догадываться, что могло в нем быть. Женя в ответ грустно признает постоянное лицедейство: настоящее лицо бывает «лишь минутами». Она – маска на декадентском карнавале. Владислав чаще всего надевает маску иронии.
Но, возможно, настала пора «настоящего». И они собираются наконец дотянуться до этого настоящего, встретиться не откладывая, пожить вместе. Может быть, решится что-то окончательно. Местом встречи выбрана Италия, Венеция. Все это не случайно. Поколение русской интеллигенции той эпохи бредило Италией, считало ее своим раем. Жившие там по многу месяцев молодые писатели Борис Зайцев, Михаил Осоргин проводили в городах Италии экскурсии для русских учителей. Павел Муратов, человек выдающийся, мыслитель, искусствовед, писатель, создавал в это время свой классический труд о духе итальянского искусства – «Образы Италии». Как ни парадоксально, он составлял для Ходасевича, отправлявшегося в Италию пока в одиночестве, но в конце концов для встречи с Женей, маршрут путешествий, советовал поселиться в колонии русских политических эмигрантов в Кави под Генуей. Но Ходасевич встречаться с большевиками и меньшевиками вовсе не хотел и поехал в другой городок, недалеко от Генуи, Нерви.
Муратов необычайно тонко чувствовал Италию. Он оставил ни с чем не сравнимое проникновение в суть Венеции, ее духа, ее живописи.
«…А вода! Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же, как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце. На каком-нибудь мостике через узкий канал, на Понте дель Парадизо, например, можно забыться, заслушаться, уйти взором надолго в зеленое лоно слабо колеблемых отражений. В такие минуты открывается другая Венеция, которой не знают многие гости Флориана и о которой нельзя угадать по легкой и детски праздной жизни на площади Марка. Эта Венеция узнается лучше всего во время скитаний по городу, в поисках еще нового Тинторетто, еще невиданного Карпаччио. <…> Нынешняя Венеция – только призрак былой жизни, и вечный праздник на Пьяцце – только пир чужих людей на покинутом хозяевами месте. Прежняя Венеция жива лишь в дошедших до нас произведениях ее художников».
Ходасевич воспринимает Италию иначе, не через ее искусство, а непосредственно. Он пишет Самуилу Киссину из Нерви 22/9 июня:
«Итальянцы нынешние не хуже своих предков – или не лучше. Господь Бог дал им страну, в которой что ни делай – все выйдет ужасно красиво. Были деньги – строили дворцы, нет денег – громоздят над морем лачугу за лачугой, закрутят свои переулочки, из окна на ветер вывесят рыжие штаны либо занавеску, а вечером зажгут фонарь – Боже ты мой, как прекрасно! <…>