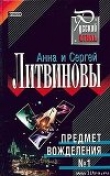Текст книги "Жизнь Владислава Ходасевича"
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Выступая против формальной школы, Ходасевич очень часто сгущал краски, хотя сам в каких-то пунктах с ней сходился и иногда противоречил самому себе. Он писал, например, в уже упомянутой статье 1937 года «О Сирине»:
«С анализа формы должно начинаться всякое суждение об авторе, всякий рассказ о нем», правда, при этом замечая, что «искусство не исчерпывается формой, но вне формы оно не имеет бытия и, следственно, – смысла».
Таким же постоянным, как к формалистам – на всю жизнь – было и его отношение к Маяковскому.
Глава 14
Маяковский


Владимир Маяковский
Фотография Абрама Штеренберга. 1920 год
Всю жизнь, начиная с молодости, Маяковский был для Ходасевича своего рода «бельмом в глазу». И дело здесь не только в «большевизме» Маяковского, в его приверженности существующей власти и признанности ею. Все это началось гораздо раньше и носило до конца непонятный личный оттенок, о причинах которого можно только догадываться.
Когда-то в молодости Ходасевич начал писать статью о хулиганстве, но она сохранилась в архиве лишь в наброске, так и не увидев свет. Предназначалась она, по-видимому, для газеты.
«Мы любим душевный комфорт, от больших и больных вопросов любим отделываться словечками. Окрестили – и ладно. Теперь все может оставаться по-прежнему.
Таких словечек за последнее время было придумано великое множество. Придумали „хулиганство“, придумали „санинство“, дали полное право гражданства так называемой „дегенерации“.
Но назвать беду – не значит ее устранить. Хулиганы бесчинствуют по всему „лицу земли родной“, от деревенского кабака до законодательной палаты включительно. Санинцы развращают наших детей, наших младших братьев и сестер. Дегенераты рождаются в наших семьях.
А мы спокойны. Негодяй на наших глазах колет сапожным шилом девочку.
– А, подкалыватель! Как же, знаем!
И идем мимо. Как будто даже странно было бы требовать от нас еще чего-нибудь, ведь мы же так точно определили название совершившегося факта!
Вот и теперь мы дня через три успокоимся: Балашов, изрезавший репинскую картину, признан дегенератом. Что же еще нужно? Дегенерация! Ничего не поделаешь, стенку лбом не прошибешь!»
Толчком для раздумий на эту тему послужила, судя по тексту, история с картиной Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (которая произошла в 1913 году), но статья так и не была закончена, может быть, показалась самому Ходасевичу слишком пафосной, и он не знал, куда дальше пойдет его мысль.
Сродни «словечку» «хулиганство» Ходасевич считал, скорей всего, и «словечко» «футуризм» и оба явления полагал, очевидно, родственными. Сам скандальный характер выступлений футуристов, их граничащий с наглостью эпатаж, хамская манера поведения Маяковского на людях были для него, человека сдержанного и склонного к благопристойности, правда, в символистской молодости тоже отчасти не чуждавшегося легкого эпатажа (вспомним историю с желтыми цветами в петлицах его друзей и его на одном из вечеров в Обществе свободной эстетики), совершенно невыносимы, неприемлемы.
Правда, в письме Нюре из Берлина от 19 октября 1922 года он, обсуждая возможность своего возврата в Россию (командировка его кончалась 8 декабря), написал: «Футуристы компетентно разъясняют, что я – душитель молодых побегов, всего бодрого и нового. И хотя я продолжаю утверждать, что футуризм – это самое сволочное буржуйство, все же официальная критика опять, как в 1918 г., стала с ними нежна, а с нами сурова». «Буржуйство» было для Ходасевича одним из самых ругательных слов, но все же несколько странно звучит оно в применении к футуристам. Видимо, считая футуризм силой разрушительной, хулиганствующей, не способной к созиданию, Ходасевич относил его, подобно «буржуйству», к числу препятствий для создания чего-то действительно нового: новой жизни, нового строя. Это несколько парадоксально, так как противоречит самим воззрениям и манифестам футуристов, считавших себя революционерами, но Ходасевич видел тогда в глубине явления, скорей всего, что-то продажное, работающее на потребу публике по законам буржуазного рынка. Но в дальнейшем он, напротив, убедился в большевистских симпатиях футуристов.
Но это только внешняя сторона дела. Неприятие же футуризма на уровне теоретическом было связано у Ходасевича с тем, что он уже в молодости ощущал себя хранителем поэтических традиций XIX века, а футуристов – их крикливыми разрушителями. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности» звучало для него, человека, влюбленного в Пушкина и в русский классический стих, предельным кощунством.
Отвращение к футуризму теоретически смыкалось у Ходасевича и с неприятием формализма. Но с формализмом дело обстояло сложнее. А футуризм был для него крайним, хулиганствующим выражением формализма на практике.
Ненависть к футуризму в целом проявилась у Ходасевича почти с первых литературных шагов. Он был крайне возмущен, когда после выступления его и еще нескольких поэтов (Липскерова, Садовского, Рубановича и других) на вечере в Обществе свободной эстетики устроители выпустили на эстраду футуристов – Маяковского и Зданевича, хотя заранее было обещано, что этого не произойдет. Вместе с Липскеровым и Рубановичем он заявил официальный протест, известив об этом Садовского и написав ему: «Будут большие бои». Об этом он писал и Муни. Но «боев» не состоялось, инцидент был замят. А неприятие осталось.
Еще в 1914 году на страницах газеты «Русские ведомости» (29 апреля и 1 мая) Ходасевич выступил со статьей «Игорь Северянин и футуризм», которая представляла собой расширенный вариант реферата, прочитанного на двух «поэзоконцертах» Игоря Северянина в Политехническом музее. Добрая половина статьи посвящена футуризму. «Насколько успели нам пояснить футуристы, в основу новой их поэтической школы полагаются следующие главнейшие принципы: 1) непримиримая ненависть к существующему языку, ведущая к разрушению общепризнанного синтаксиса и такой же этимологии; 2) расширение и обогащение словаря и 3) разрушение стихотворного канона и создание нового поэтического размера». Ходасевич по пунктам доказывает, что все это не ново, лишено логики и бессмысленно.
«Что называют футуристы разрушением этимологии? Если создание новых слов от несуществующих корней, вроде пресловутого „дыр бул щыл“, то такие попытки нелепы, ибо такие слова не вызовут в нас никаких представлений: они не содержат в себе души слова – смысла. Тут футуризм возражает, что поэзия не должна содержать в себе смысла, ибо она есть искусство слов… <…>
Здесь есть и внутреннее противоречие: слово, лишенное содержания, есть звук, – и больше ничего. В таком случае поэзия, понимаемая как искусство слов, есть искусство звуков. Следовательно, никакой поэзии нет, и есть музыка. Тогда, конечно, не о чем и разговаривать, и футуристам следует молчать о поэзии, так как ее не существует. Но они не молчат, т. е. чувствуют, что здесь что-то не так. Но настаивают на своем и мечутся между поэзией и музыкой. И будут метаться, пока не вспомнят о содержании слова. Но тогда им придется отказаться от основного параграфа своей платформы».
Пока Ходасевич пытается разобраться с футуризмом только с помощью обычной логики. В дальнейшем его выступления против футуризма становятся все резче и язвительнее.
Гораздо позже, в 1927 году, в эмиграции, он напечатал уничижительную статью о Маяковском, направленную и против его поэзии, и против его облика и позиции в целом – «Декольтированная лошадь». Здесь не обошлось, конечно, опять без резких и враждебных оценок футуризма:
«Вопросы формы <…> представлялись не только центральными, но и единственно существенными в искусстве. (Отсюда и неизбывная связь нынешних теоретиков-формалистов с этой группой.) Это представление естественно толкало футуристов к поискам самостоятельной, автономной, или, как они выражались, „самовитой“, формы. „Самовитая“ форма, именно ради утверждения и проявления своей „самовитости“, должна была всемерно стремиться к освобождению от всякого содержания. <…> После того как было написано классическое „Дыр бул щыл“ – писать уже было, в сущности, не к чему и нечего: все дальнейшее было бы перепевом, повторением, вариантом».
Ходасевич объявляет Маяковского изменником футуризму:
«Маяковский быстро сообразил, что заумная поэзия – белка в колесе. Для практического человека, каким он был, в отличие от полоумного визионера Хлебникова, тупого теоретика Крученых и несчастного шута Бурлюка – в „зауми“ делать было нечего. И вот, не теоретизируя вслух, не высказываясь прямо, Маяковский без лишних рассуждений, на практике своих стихов подменил борьбу с содержанием (со всяким содержанием) – огрублением содержания. <…> Маяковский молча произвел самую решительную контрреволюцию внутри хлебниковской революции».
Ходасевич называет Маяковского «глашатаем пошлости», «сперва – нечаянным, потом – сознательным»…
«„Маяковский – поэт рабочего класса“. Вздор. Был и остался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и „босяков духовных“.
Пафос погрома и мордобоя – вот истинный пафос Маяковского. А на что обрушивается погром, ему было и есть все равно… <…>
Теперь, став советским буржуем, Маяковский прячет коммунистические лозунги в карман. Точнее – вырабатывает их только для экспорта… <…> Предводитель хулиганов, он благонамеренно и почтенно осуждает хулиганство. А к чему призывает? „Каждый, думающий о счастье своем, покупай немедленно выигрышный заем!“»
Конечно, Ходасевича, ярого противника большевизма, до глубины души возмущало сотрудничество Маяковского с властью, которое он объяснял не глупостью, не заблуждением поэта, а подлостью души. Вспомним о его гневном отклике на повесть Эренбурга «Рвач».
Но в постоянном его противостоянии Маяковскому была не только позиция литературная и идеологическая – было и что-то личное, хотя сам он это отрицал и подчеркивал, что Маяковский – его сугубо литературный враг («Восемнадцать лет, со дня его появления, длилась моя лит<ературная> (отнюдь не личная) вражда с Маяк<овским>», – написано в черновом автографе его статьи «О Маяковском», хранящемся в архиве Колумбийского университета (цитирую по статье Н. А. Богомолова «Об одном литературном урочище»). Как мог он все-таки не оценить масштаб этого поэта, пусть даже совершенно чуждого ему по просодии, поэта, к которому приветственно обратилась Цветаева: «Архангел-тяжелоступ, / Здорово в веках, Владимир»? Саму Цветаеву он тоже оценил не сразу, но оценил же в конце концов, хотя ее стихи временами очень близки к поэтике Маяковского. У Ходасевича была, конечно, тенденция не всматриваться более в раз навсегда отвергнутое. Он отрицал формализм как школу, но потом несколько смягчился и некоторые произведения Тынянова начал все же признавать…
Дело, видимо, было еще и в какой-то давней, еще московской обиде, может быть связанной с карточной игрой. Маяковский тоже был страстным игроком, возможно, они встречались в ту пору и за зеленым столом. Глухо написал об их уличной игре в орлянку в мае 1914 года Борис Пастернак: «Я увидал Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса (навес греческой кофейни на Тверской. – И. М.) по направлению к Страстному». Фигура Ходасевича, проигравшего и этим униженного, уходящего прочь, вдаль, четко рисуется на фоне Страстного монастыря и заката… Личных обид и оскорблений Ходасевич, как мы знаем, не прощал. Но мы ничего не знаем о какой-либо обиде или оскорблении со стороны Маяковского.
Тем не менее в эти годы, во время нечастых публичных встреч с Маяковским, что заметил уже не один исследователь, Ходасевич зачастую оказывался в роли проигравшего – как тогда, в греческой кофейне, под навесом… Тот вечер 1918 года у Цетлиных, когда Вячеславом Ивановым с таким восторгом было встречено близкое ему по духу стихотворение, которое прочел Ходасевич, – «Эпизод» («читал на вечере у Цетлиных под „бурные“ восторги Вяч. Иванова (с воздеванием рук)», как пишет сам Ходасевич), запомнился остальным собравшимся отнюдь не чтением «Эпизода». Пастернак и Эренбург вспоминали, что на этом вечере Маяковский прочел свою поэму «Человек», встретившую особый восторг Андрея Белого, а о Ходасевиче и его «Эпизоде» даже не упоминали: он оказался незаметен в тени громкого триумфа Маяковского. Между тем, поэма «Человек» с ее совершенно чуждой Ходасевичу поэтикой и гиперболизированным «самовозвеличиванием» автора могла только раздражить его и встретить внутренний отпор. Недаром другой мемуарист, поэт Павел Антокольский, на вечере тоже присутствовавший, единственный вспомнил о Ходасевиче и написал через 35 лет: «Все слушали Маяковского затаив дыхание, а многие – затаив свое отношение к нему. Но слушали одинаково все – и старики и молодые. Алексей Толстой бросился обнимать Маяковского, как только тот кончил. Ходасевич был зол. Маленькое кошачье лицо его щерилось в гримасу и подергивалось. Но особенно заметным было восторженное внимание Андрея Белого. Он буквально впился в чтеца. Синие, сапфировые глаза Белого сияли. <…> После первой же стопки поднялся Бальмонт. Он очень легко пьянел. В руке у него была маленькая книжка. Он прочитал только что, тут же за столом написанный посвященный Маяковскому сонет. <…> Это было торжество жизни, молодости, удачи и силы». Естественно, на лице Ходасевича отразилось одолевавшая его злоба – побеждали силы совершенно ему чуждые. Он проиграл этот поэтический поединок.
Другое такого рода поэтическое состязание между Маяковским и Ходасевичем происходило уже после революции, в Петрограде, но оба выступали с чтением стихов в разные дни и даже годы. Маяковский читал в петроградском Доме искусств 4 декабря 1920 года свою громкоголосую поэму «150 000 000», помесь библейских сюжетов с коммунистическими идеями. Стечение публики опять было огромное – Корней Чуковский называет в дневнике все это «Ходынкой», а про само чтение пишет: «Третья часть утомила, но аплодисменты были сумасшедшие». Ходасевич, скорее всего, не был на этом чтении: он только в ноябре переехал в Петроград и, как пишет Гершензону, «весь декабрь искал квартиру». Но он, зная об этом успехе Маяковского, поневоле сравнивал в душе его чтение со своим собственным в том же «Диске» через некоторое время. «Вечер Ходасевича. Народу 42 человека – каких-то замухрышных. Ходасевич убежал на кухню: – Я не буду читать. Не желаю я читать в пустом зале. – Насилу я его уломал», – записал Чуковский в своем дневнике. Это было уже позже, в 1921 году. Молодая поэтесса и переводчица А. Оношкович-Яцына в то время тоже написала в дневнике: «Ходасевич напрасно ждет похвал своей старухе с санками, дровами и горестной кончиной», – запись довольно необдуманная. Через некоторое время Ходасевич со своей «Музыкой» и «Элегией» стал уже кумиром во всяком случае части поэтического Петербурга. Но, как человек тщеславный (он обижался даже на малолетнего сына Гершензона, когда проигрывал ему в шахматы), забыть триумфа Маяковского и собственного неуспеха он не мог.
Но дело, конечно, не только в этом. Ходасевичу был отвратителен весь облик Маяковского, сама личность; точно также назвал он Георгия Иванова «социально дефективной личностью». Но Маяковский был вдобавок и «беспартийным большевиком», хотя на самом деле, особенно в конце его жизни, дело обстояло гораздо сложнее и трагичнее. Вся повадка Маяковского, его громогласное хамство, его торжествующая самоуверенность, прикрывавшая нередко, напротив, неуверенность в себе, – все это запомнилось еще с московских времен (об их встречах в Париже во время приездов туда Маяковского сведений нет) и было отвратительно Ходасевичу.
Его полное неприятие Маяковского вылилось в 1930 году в некролог, который можно назвать поступком, его не украсившим. Ходасевич, видимо, неделю колебался (на другой день после смерти Маяковского в «Возрождении» появилась статья о его самоубийстве, написанная не Ходасевичем), но потом все-таки решился, оправдывая себя тем, что в его отношении к Маяковскому нет ничего личного. «Завещание» Маяковского содержало в себе обращение к большевистскому правительству: «Товарищ правительство!» – и уже одно это делало его в глазах Ходасевича весьма причастным к советской власти. (Кстати, иногда и советские соратники Маяковского оказывали «медвежьи услуги» его посмертному образу: в одной из подборок Гулливера в «Возрождении» уже за 1933 год приведены смехотворные строки из поэмы Безыменского: «Но в тебе самом же, Маяковский, / Оказался сукин сын Дантес».)
Маяковский так и остался для Ходасевича не крупным поэтом, но воспевателем и поэтому соучастником преступлений этой власти. Во вступлении к «некрологу» Ходасевич написал:
«История движется борьбой. Однако счастливы те возвышенные эпохи, когда над могилами недавних врагов с уважением склоняются головы и знамена. На нашу долю такое счастье не выпало. Перед могилами Ленина, Азефа, Дзержинского не преклонишься. Тяжкая участь наша – бороться с врагами опасными, сильными, но недостойными: даже именно своей недостойностью особенно сильными. И это в областях, столь, казалось бы, чистых, какова область поэзии. До наших времен в поэзии боролись различные правды – одна правда побеждала другую, добро сменялось иным добром. Врагам было легко уважать друг друга. Но в наше время правда и здесь столкнулась с самою ложью, за спиной наших врагов стоит не иное добро, но сама сила зла. Восемнадцать лет, с первого дня его появления, длилась моя литературная (отнюдь не личная) вражда с Маяковским. И вот – нет Маяковского. Но откуда мне взять уважение к его памяти?» И далее, сравнивая смерть Маяковского и смерть Есенина: «Не будем, однако же, думать, будто конец Маяковского в чем-то, кроме внешности, схож с концом Сергея Есенина. Там было большое, подлинное мучение души заблудшей, исковерканной, но в глубине – благородной, чистой и поэтической. Ни благородства, ни души, ни поэзии нет во всем облике Маяковского. Есенин умер с ненавистью к обманщикам и мучителям России – Маяковский, расшаркавшись, пожелал им „счастливо оставаться“». Как не понял Ходасевич, что это фраза была предсмертным ерничаньем несчастного человека? Роман Якобсон назвал очерк Ходасевича «пасквилями висельника, измывательством над критическим балансом своего же поколения».
В ответ Ходасевич писал: «Маяковский есть футурист, разрушитель и осквернитель русской поэзии, которая для меня есть не только предмет безразличного и безучастного исторического изучения. Долг мой – бороться с делом Маяковского и теперь, как боролся я прежде, с первого дня, – ибо Маяковский умер, но дело его живет. Требовать от меня, чтобы я „корректно“ склонил голову перед могилой Маяковского, совершенно так же „странно и напрасно“, как требовать от политической редакции „Руля“, чтобы она преклонилась перед мавзолеем Ленина».
Глава 15
Друзья


Владислав Ходасевич. Вторая половина 1930-х годов
Много литературных врагов было нажито в эмиграции и отдельными рецензиями, всегда нелицеприятными. В числе «обиженных навсегда» была, конечно, Екатерина Бакунина со своим «Телом», Т. Таманин (Манухина), автор слабого романа «Путь правый», Сергей Шаршун, один из представителей «парижской ноты», ответивший на критику Ходасевича гневным письмом… С годами целый ряд литераторов относился к Ходасевичу все хуже и хуже, ценя, но не любя его, не умея прощать резкой и подчас ядовитой критики.
И все же у этого желчного человека были в эмиграции не только враги, но и близкие друзья, неизменные приверженцы, любившие его яркий талант, остроумие и даже саму язвительность. К ним относился, в первую очередь, бесконечно преданный ему и восхищавшийся его поэзией Владимир Вейдле, часто бывавший в его доме. Он познакомился с Ходасевичем в 1922 году в Петербурге, в «Диске». Его привел поэт Юрий Верховский. Ходасевич прочитал им тогда недавно написанные «Балладу» и «Улику». «В самом авторе этих стихов пленило меня что-то легкое, летучее, сухое…» – писал Вейдле.
Сблизились по-настоящему они в эмиграции.
Вейдле вспоминал, как, сидя на террасе парижского кафе, мог увидеть вдруг идущего мимо Ходасевича: «…любуюсь его легкой, молодой – точно и не по земле идет – походкой. Сейчас его окликну и он сядет за столик рядом со мной».
«Лучшего друга никогда у меня не было. <…> Утверждали, что у него был „„тяжелый“ характер“. Больше того: называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую: был он добр, хоть и не добродушен, и жалостлив, едва ли не свыше меры. Тяжелого тоже ничего в нем не было; характер его был не тяжел, а труден, труден для него самого, еще больше, чем для других. Трудность эта проистекала с одной стороны из того, что он был редкостно правдив и честен, да еще наделен, сверх своего дара, проницательным, трезвым, не склонным ни к каким иллюзиям умом, а с другой стороны из того, что литературу принимал он нисколько не менее всерьез, чем жизнь, по крайней мере свою собственную. От многих других литераторов он отличался тем, что литература входила для него в сферу совести так же, если не больше, чем любые жизненные отношения и поступки. Шулерства он конечно и в картах (любимых им) не жаловал, в литературе он от него буквально заболевал, даже если его лично оно вовсе не касалось. Не выносил он кумовства, прислужничества, устройства своих частных дел под покровом якобы литературных согласий… <…>
Когда же он был уязвлен, тогда и в самом деле хотелось ему „мстить“, хотелось, чтобы покаран был обидчик литературной совести, а значит и его обидчик. Чувствителен он был и к нападкам на себя, но преимущественно к таким, в которых распознавал мотивы низменные, литераторские, но внелитературные. Почуя их, он терял чувство меры и становился сам несправедлив. Терпимым в этих делах он действительно не был, боясь больше всего, как бы его родной дом, единственный, который у него остался, не превратился в дом терпимости. <…>
Была болезнь. Были раздражение, нервность, страшная неврастения. <…> Да, он бывал несправедлив! Но как он был несчастен, особенно в последние десять лет жизни, когда не писал больше стихов. Писать их была боль и радость, не писать – боль, боль и еще раз боль. Мрак находил на него».
Вейдле вспоминал, как он однажды всю почти ночь просидел с Ходасевичем у церкви святой Мадлен, отговаривая его от самоубийства.
«Неугасимость его сияния больше, чем болезнь и чем невзгоды, больше, чем литературная грязца и канитель. Мучила его та несовместимость души и мира, та неугасимость сияния, тонущая и неутопающая во мраке, но бессильная его рассеять, которая животворила его поэзию, а жизнь калечила и мертвила. Тяжело ему было, но он не тяжелел. Это сияние, оно в нем сияло».
Так мог писать только настоящий друг, действительно искренне любивший Ходасевича.
Помочь Ходасевичу, поддержать его всегда готов был и Марк Вишняк, соредактор и секретарь журнала «Отечественные записки», хоть и не состоявший с ним в близкой дружбе, но высоко его ценивший.
Владимир Набоков, Сирин, писатель, не признававший никаких авторитетов, человек часто язвительный и высокомерный, относился к нему с нежностью и почтением. В этих двух людях было нечто общее, родственное: скепсис, острый ум, и это сближало их… Набоков преклонялся перед поэзией Ходасевича, понимая, что ему, мечтавшему в юности стать поэтом, никогда этого порога, который переступил на пути к совершенству Ходасевич, не достичь. Ходасевич словно реализовал его собственные нераскрывшиеся потенции в поэзии.
Все это так явственно проступает в «Даре»: постоянная мечта героя романа – поговорить с Кончеевым, под именем которого изображен отчасти Ходасевич, поговорить о самом главном; но Кончеев (какая «колючая» фамилия с этим «ч» от Ходасевича!) ускользает, с ним не встретиться, не успеть, в нужную минуту герой робеет… Все диалоги, так интересно поданные в романе, остаются лишь в сознании героя. Впрочем, Берберова пишет, что они отражают реальные разговоры Ходасевича и Набокова: «Оба раза в квартире Ходасевича <…> в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы „Дара“, в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева. Я присутствовала на них и теперь – одна жива сейчас, свидетельница этого единственного явления: реального события, совершившегося в октябре 1932 года (улица Четырех Труб, Биянкур, Франция), ставшего впоследствии воображаемым фактом (то есть наоборот тому, что бывает обычно), никогда до конца не воплощенным, только проектированным фантазией, как бы повисшим мечтой над действительностью, мечтой, освещающей и осмысляющей одинокую бессонницу автора-героя».
Конечно, в романе эти диалоги достаточно олитературены, в жизни они наверняка были проще по форме, отрывочнее, безыскусственнее. Но все равно хочется вспомнить здесь хоть один из них, вернее часть его…
Годунов-Чердынцев, выйдя одновременно с Кончеевым с одного неудачного до глупости литературного вечера и как всегда робея перед ним, вдруг неожиданно для самого себя вызывается его проводить…
«„Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов“.
„Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы „мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни““.
„Благодарю за учтивую цитату. Вы как – по-настоящему любите литературу?“
„Полагаю, что да. Видите ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и подстольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком“.
„Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает – после самого снисходительного отбора – не более трех – трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. <…>“
„Дайте мне, пожалуйста, примеры, чтобы я мог опровергнуть их“.
„Извольте: если раскрыть Гончарова или…“
„Стойте! Неужели вы желаете помянуть добрым словом Обломова? „Россию погубили два Ильича“ – так, что ли? <…> Или может быть – стиль? Помните, как у Райского в минуты задумчивости переливается в губах розовая влага? – точно так же, как герои Писемского… <…>“
„Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд… Что вы скажите, например, о Лескове?“
„Да что ж… У него в слоге попадаются забавные англицизмы, вроде „это была дурная вещь“ вместо „плохо дело“. Но всякие там нарочитые „аболоны“ – нет, увольте, мне не смешно. <…>“
„Ну, а все-таки. Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напомаженным зевом? <…>“
„Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: Lividus. Толстой, тот был больше насчет лилового, – и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком! Я, конечно, не должен был их покупать (речь идет о новых ботинках. – И. М.)“
„Вы правы, жмут нестерпимо. Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? „Русалка“…“
„Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы. А вон там, в чеховской корзине, провиант на много лет вперед, да щенок, который делает „уюм, уюм, уюм“, да бутылка крымского“.
„Погодите, вернемся к делам. Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. Тургенев. Достоевский?“
„Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, – вот вам Достоевский. „Оговорюсь“, как выражается Мортус. В „Карамазовых“ есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит, – если принять ваш подход“».
Далее они переходят к поэзии, к Тютчеву и Фету… А потом выясняется, что ничего этого не было, что это разговор воображаемый: Годунов-Чердынцев не решился заговорить с Кончеевым, и это придает разговору еще больше очарования.
«„Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести“.
„Ничего, не пропадет, я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу, и что я веду сам с собою вымышленный разговор по самоучителю вдохновения“».
Но на самом деле разговор был, и не один, как свидетельствует Берберова…
А Набоков вспоминает в одном из поздних интервью, как навещал их Ходасевич в маленькой, но светлой квартирке на улице Сайгон, 8, состоящей из одной огромной комнаты, так что приходилось использовать ванную как кабинет, а вечерних гостей принимать в кухоньке, чтобы не мешать спящему маленькому сыну («чтобы не потревожить моего будущего переводчика»). Немало замечательных разговоров велось и в ней. Не без свойственного ему ехидства Набоков вспоминает также, как Ходасевич извлекал, «чтобы поесть с удобством, вставные челюсти изо рта – совсем как вельможа прошлого» (наверно, имеется в виду, что «вельможа прошлого» снимал с головы парик и обмахивался им – где-то это описано). Вот уж явно: для красного словца не пожалею и отца, да и как мог Ходасевич есть без вставных челюстей, когда своих собственных зубов у него почти не оставалось!
Отношения Ходасевича и Набокова, конечно, не были всегда безоблачными и безусловно, безоговорочно близкими. В марте 1936 года Ходасевич писал Берберовой: «Сирин мне вдруг надоел (секрет от Адамовича) и рядом с тобой он какой-то поддельный». Известно, что люди – все в целом и каждый в отдельности – начинали вдруг раздражать Ходасевича (об этом он писал еще Нюре из Крыма), но тут имеется в виду, скорее всего, проза, а не человек. Летом 1937 года он, правда, писал ей же, что сохраняет «остатки нежности к Смоленскому <…> и к Сирину». А Набоков в феврале 1936 года (почти одновременно с первым письмом Ходасевича) писал жене после посещения Ходасевича: «…у него пальцы перевязаны – фурункулы, и лицо желтое, как сегодня Сена, и ядовито загибается тонкая красная губа <…>. Владислав ядом обливал всех, как обдают деревца против филоксеры. Зайцевы голубеют от ужаса, когда он приближается».
Но какие точные, проникновенные слова написал о нем Набоков вскоре после его смерти:
«Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней. Его дар тем более разителен, что полностью развит в годы отупения нашей словесности. <…>
В России и талант не спасает, в эмиграции спасает только талант. Как бы ни были тяжелы последние годы Ходасевича, как бы его ни томила наша бездарная эмигрантская судьба, как бы старинное, добротное человеческое равнодушие ни содействовало его человеческому угасанию, Ходасевич для России спасен – да и сам он готов признать, сквозь желчь и шипящую шутку, сквозь холод и мрак наставших дней, что положение он занимает особое: счастливое одиночество недоступной другим высоты. <…>