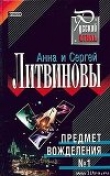Текст книги "Жизнь Владислава Ходасевича"
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Глава 7
«Путем зерна»


Владислав Ходасевич. 1918–1921 годы
Время словно навязывает Ходасевичу новый для него размер – он начинает писать белым стихом; эпический, повествовательный стих, внешне спокойный, размеренный, но тревожный изнутри, подобно «Вольным мыслям» Блока, как нельзя более подходит для того, о чем он сейчас пишет. (В дальнейшем он к белому стиху почти никогда не возвращается, за редким исключением.)
Стихотворение «2-го ноября» внешне как будто отвлеченно повествует о страшных днях Москвы, о подавлении последнего сопротивления большевикам. В нем нет никакой политики. Оно написано с позиции «обывателей», жителей, спрятавшихся в подвалы от стрельбы. Но вот они выходят на свет – как после стихийного бедствия.
Семь дней и семь ночей Москва металась
В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
Пускал ей кровь – и, обессилев, к утру
Восьмого дня она очнулась. Люди
Повыползли из каменных подвалов
На улицы. Так, переждав ненастье,
На задний двор, к широкой луже, крысы
Опасливой выходят вереницей
И прочь бегут, когда вблизи на камень
Последняя спадает с крыши капля…
К полудню стали собираться кучки.
Глазели на пробоины в домах,
На сбитые верхушки башен; молча
Толпились у дымящихся развалин
И на стенах следы скользнувших пуль
Считали. Длинные хвосты тянулись
У лавок. Проволок обрывки висли
Над улицами. Битое стекло
Хрустело под ногами. Желтым оком
Ноябрьское негреющее солнце
Смотрело вниз, на постаревших женщин
И на мужчин небритых. И не кровью,
Но горькой желчью пахло это утро. <…>
К моим друзьям в тот день пошел и я.
Узнал, что живы, целы, дети дома, —
Чего ж еще хотеть?.. <…>
Сравнение с крысами, конечно, нелестно, но точно и образно. Героизма во всем этом нет, есть лишь страдание и усталость. «2-го ноября» – об истории, о том, что делает с людьми, с простыми, обыкновенными людьми непонятная им и равнодушная к их судьбам стихия истории.
Но жизнь возобновляется. Только столяр, давний знакомый стихотворца, делает для кого-то гроб. Выбегают дети, выпускают в небо над Плющихой голубей. Внимание автора сосредотачивается на четырехлетнем малыше:
…Лишь один,
Лет четырех бутуз, в ушастой шапке,
Присел на камень, растопырил руки,
И вверх смотрел, и тихо улыбался.
Но, заглянув ему в глаза, я понял,
Что улыбается он самому себе,
Той непостижной мысли, что родится
Под выпуклым, еще безбровым лбом,
И слушает в себе биенье сердца,
Движенье соков, рост… Среди Москвы,
Страдающей, растерзанной и падшей, —
Как идол маленький, сидел он, равнодушный,
С бессмысленной, священною улыбкой. <…>
Существование этого малыша сразу переносит стихотворение в иные сферы, утверждает силу и мудрость продолжающейся, вопреки всему, наперекор историческим катаклизмам, жизни. Но что-то уже неизбежно изменилось…
Дома
Я выпил чаю, разобрал бумаги,
Что на столе скопились за неделю,
И сел работать. Но, впервые в жизни,
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды.
Работать как прежде уже невозможно, и только ребенок – вне происшедшего, он – надежда на что-то высшее, чего не коснулись эти зловещие события, погибель и разрушение… Он – как маленький Будда над всем этим хаосом.
Ходасевич описывает во «2-м ноября» свое действительное посещение Гершензона, жившего неподалеку, – с целью узнать, не случилось ли чего с друзьями при этом кровавом переходе в новую эпоху.
Белый стих он использует в то время и для стихотворений, наполненных рефлексией, стихотворений-раздумий; в некоторых из них буквально уходит от внешнего мира в мир потусторонний. Таков «Эпизод», написанный уже в январе 1918 года, – душа в нем и вовсе покидает на время тело.
<…> Я в комнате своей сидел один. Во мне
От плеч и головы, к рукам, к ногам,
Какое-то неясное струенье
Бежало трепетно и непрерывно —
И, выбежав из пальцев, длилось дольше,
Уж вне меня. Я сознавал, что нужно
Остановить его, сдержать в себе, – но воля
Меня покинула… <…>
И потом в пустой комнате, где полка книг, желтые обои, «маска Пушкина, закрывшая глаза», самого себя он
Увидел вдруг со стороны, как если б
Смотреть немного сверху, слева. Я сидел,
Закинув ногу на ногу, глубоко
Уйдя в диван, с потухшей папиросой
Меж пальцами, совсем худой и бледный.
Глаза открыты были, но какое
В них было выраженье, – я не видел.
Того меня, который предо мною
Сидел, – не ощущал я вовсе. Но другому,
Смотревшему как бы бесплотным взором,
Так было хорошо, легко, спокойно.
И человек, сидящий на диване,
Казался мне простым, давнишним другом,
Измученным годами путешествий. <…>
«Эпизод» всячески расхваливали Вячеслав Иванов и антропософы. «Впервые читал на вечере у Цетлиных под „бурные“ восторги Вяч. Иванова (с воздеванием рук). Потом с этими стихами ко мне приставали антропософы. Это по ихнему называется отделением эфирного тела. Со мной это случилось в конце 1917, днем или утром, в кабинете». (Ходасевич обладал, очевидно, этой странной и редкой способностью – отпускать на миг душу «на волю» из тела, о чем в какой-то мере и «Элегия» («Деревья Кронверкского сада…»).) Это состояние возвращалось и летом 1919 года, о чем стихотворение «Вариация».
<…> И вдруг, изнеможенья полный,
Плыву: куда – не знаю сам,
Но мир мой ширится, как волны,
По разбежавшимся кругам.
Продлись, ласкательное чудо!
Я во второй вступаю круг
И слушаю, уже оттуда,
Моей качалки мерный стук.
Но Ходасевич относился с иронией к выводам и построениям антропософов и не хотел никаких теорий по этому поводу, рассматривая произошедшее с ним действительно лишь как «эпизод».
Белым ямбическим стихом написаны в те годы и «Встреча», и «Полдень» – о мигах жизни, которые навсегда запечатлеваются в душе. «Обезьяна» и «Дом» – снова о ходе истории, о трагедии времени, о столкновении сиюминутного и вечного. Как всегда, Ходасевич идет от конкретных фактов к чему-то высшему. Все эти стихи – и по старым, и по новым впечатлениям – написаны как бы «в один присест» – в мае-июне 1918 года. Найдя для себя этот размер, он погружается в него, он словно спешит использовать новую находку.
Летом 1914 года Ходасевич жил в Томилине, в поселке к юго-востоку от Москвы, на даче Семиладнова, которую снимала старшая сестра Нюры Любовь Рыбакова, в маленьком домике с садом. Он, по детской, наверное, привычке, не мыслил лето без дачи и всегда, даже в трудные времена, ее снимал или жил у друзей. На дачах, как правило, хорошо работалось. Но лето 1914 года было всюду, и под Москвой, и под Петербургом, жарким, душным. В округе горели леса. Впрочем, все это описано в самом стихотворении…
Не работалось. Ходасевич побродил по садику, вышел за калитку и увидел бродячего серба, который дремал на скамье у забора.
<…> Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. <…>
Серб попросил воды для обезьяны. Ходасевич принес блюдце с водой и получил в награду то, что бывает редко: благодарное рукопожатие зверька – таков «сюжет» стихотворения.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И – этот миг забуду ли когда? —
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула…
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа – ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко.
Воистину – до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось – хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные незапамятные дни. <…>
Но совершенно особый смысл стихотворению придает последняя строчка:
В тот день была объявлена война.
Ощущение братства со зверем, и через него – со всем миром, частью которого себя вновь, как когда-то, «в иные незапамятные дни», почувствовал автор, – и ошеломляющее известие о начале нелепой, кровавой войны между людьми…
Стихи не понравились Гершензону. «Гершензон очень бранил эти стихи», – пишет в авторском комментарии Ходасевич. Видимо, Михаил Осипович счел их слишком назидательными и в этой назидательности прямолинейными и особенно сердился за сравнение обезьяны с персидским царем Дарием, припавшим к дорожной луже во время бегства от войск Александра Македонского. Сравнение, возможно, показалось ему неуместным и слишком литературным. «За девять лет нашего знакомства я привык читать или посылать ему почти все свои стихи. Его критика всегда была доброжелательна – и беспощадна. Резко, „начистоту“ высказывал он свои мнения. С ними я не всегда соглашался, но многими самыми меткими словами о своих писаниях я обязан ему. Никто не бранил меня так сурово, как он, но и ничьей похвалой я не дорожил так, как похвалой Гершензона. Ибо знал, что и брань, и похвалы идут от самого, может быть, чистого сердца, какое мне доводилось встречать».
Но в данном случае Ходасевич, скорее всего, с ним не согласился. Стихи точно передавали – он это знал – ощущение тревоги и разлада в мире человеческом в противоположность гармонии мира природного, к которой он вдруг оказался причастен…
Стихотворение «Дом» – не столько о доме, который разобрали на дрова, сколько о времени как субстанции, о времени историческом и субъективном, – и в этом с ним отчасти перекликается написанная много лет спустя другим поэтом, Иосифом Бродским, «Остановка в пустыне» – тоже о разрушении, о развалинах, о сносе Греческой церкви в Ленинграде.
<…> Да, хорошо ты, время. Хорошо
Вдохнуть от твоего ужасного простора.
К чему таиться? Сердце человечье
Играет, как проснувшийся младенец,
Когда война, иль мор, или мятеж
Вдруг налетят и землю сотрясают;
Тут разверзаются, как небо, времена —
И человек душой неутолимой
Бросается в желанную пучину. <…>
Но сын отца сменяет. Грады, царства,
Законы, истины – преходят. Человеку
Ломать и строить – равная услада:
Он изобрел историю – он счастлив!
И с ужасом и с тайным сладострастьем
Следит безумец, как между минувшим
И будущим, подобно ясной влаге,
Сквозь пальцы уходящей, – непрерывно
Жизнь утекает. И трепещет сердце,
Как легкий флаг на мачте корабельной,
Между воспоминаньем и надеждой —
Сей памятью о будущем… <…>
«Между воспоминаньем и надеждой – / Сей памятью о будущем» – это удачно найденная метафора звучала как классическая стихотворная формула. Виктор Шкловский даже взял ее эпиграфом к своей книге «Встречи», приписав ее Батюшкову, – может быть, его сбило с толку слово «сей»… А строки об «ужасном просторе» времени и извечном стремлении человека «броситься в желанную пучину» перекликались с одной из любимых мыслей Пушкина: «Есть упоение в бою / И бездны мрачной на краю».
Все эти стихи вошли в третий сборник Ходасевича «Путем зерна». Выпустить книгу в это время было уже довольно трудно. Сборник был продан Ходасевичем летом 1918 года «Салону поэтов», но издательство вскоре закрылось. Книга вышла в конце 1919-го или в начале 1920 года в издательстве «Творчество». Договор, подписанный В. В. Воровским, был заключен между Ходасевичем и Госиздатом, но выпустил ее издатель С. А. Абрамов (по договору с Госиздатом) огромным тиражом в 18 000 экземпляров, который большей частью и остался на складах. Через год другой издатель, Вольфсон, уже в Петербурге, выпустил второе издание сборника, тиражом в 800 экземпляров, которое вскоре разошлось; тогда он купил 1000 экземпляров предыдущего издания, одел их в новые обложки и тоже пустил на рынок. Таким образом, было распродано 1800 книг – довольно много для того тяжелого времени.
Название сборнику дало программное стихотворение 1917 года, написанное на евангельский текст (Евангелие от Иоанна):
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
Оно полностью отрицает его же строки из написанного десять лет назад стихотворения «В моей стране», открывающего первый сборник, «Молодость»:
Там сеятель бессмысленно, упорно,
Скуля как пес, влачась как вьючный скот,
В родную землю втаптывает зерна —
Отцовских нив безжизненный приплод.
Оно исполнено веры в разумный и неизбежный ход бытия, в будущее – тогда Ходасевич еще надеялся, как и некоторые интеллигенты, что все пойдет своим чередом и в стране после всех потрясений начнется новая жизнь. Впоследствии он, конечно, разуверится в этом, но не сразу. Но вечная, евангельская мудрость об очищении смертью все равно останется непреложной: «Истинно, истинно говорю вам: если зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, оно останется одно; если же умрет, принесет много плода». (Иоанна 12:24)
Одно из лучших стихотворений сборника «Стансы» кончается тоже строками о благодати обновления, возрождения:
Но душу полнит сладкой полнотой
Зерна немое прорастанье.
На сборник «Путем зерна» появилось много рецензий, гораздо больше, чем на предыдущие: о книге писали Георгий Адамович («Цех поэтов»), Георгий Иванов («Дом Искусств»), Борис Вышеславцев («Жизнь искусства»), Иннокентий Оксенов («Книга и революция»), Мариэтта Шагинян («Петербург»), Михаил Цетлин («Новости литературы») и другие…
В своей переписке с Садовским, который с самого начала не признавал большевиков, Ходасевич защищает новый режим; это происходит, как ни странно, даже еще в 1919–1920 годах. Он пишет весной 1919 года: «Что жизнь надобно перестроить, Вы согласны. <…>. Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. Я понимаю рабочего, я по-какому-то, может быть, пойму дворянина, бездельника милостию Божиею, но рябушинскую сволочь, бездельника милостию хамства, понять не смогу никогда. <…> Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно. Вот Вам и все».
У Ходасевича были личные счеты с Рябушинским: будучи владельцем журнала «Золотое руно», Рябушинский не принял его на работу в качестве секретаря редакции, сославшись на то, что Ходасевич не знает французского языка и не сможет вести переписку с иностранными авторами, а также к нему будет часто приходить Марина (Ходасевич недавно женился) и «отвлекать его от работы». Работа была Ходасевичу тогда очень нужна. И вообще, человек постоянно нищий и далекий от буржуазности, он ненавидел толстосумов, их подход к жизни, их хамство, их убежденность, что можно все купить. Но он не знал тогда еще и кровавого почерка большевиков. Его заявление о том, что он может стать большевиком, звучит, конечно, в свете всего дальнейшего опрометчиво и смешно.
И даже в феврале 1920 года он еще пишет Садовскому, обидевшемуся на него за долгое молчание и воспринявшему это как разрыв: «…Усталость, занятость, чрезвычайная трудность московской жизни – вот действительные причины моего молчания. <…> Немного обидно мне было прочесть Вашу фразу: „Я не знал, что Вы большевик“. Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу <…>».
А жизнь в Москве становится, между тем, все более трудной, голодной, неприкаянной. Начинаются мытарства советского быта. Надо искать постоянную работу, идти на службу, чтобы получать продовольственные карточки, иметь право на телефон и на квартиру, «на неучастие в очистке железнодорожных путей от снега». Наверно, это и было главной причиной «советской службы» Ходасевича, также как и многих других: Вячеслава Иванова, Бальмонта, Андрея Белого; и так же, как и они, он ничем себя на этой службе, в отличие от Брюсова, не запятнал и ничего во славу большевиков не написал.
«Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне убежден, что при большевиках литературная деятельность невозможна». Эта фраза в воспоминаниях, написанная позднее, в эмиграции, очевидно не точна: инстинкт, может быть, в глубине души что-то и говорил, но иллюзии, о которых свидетельствуют вышеприведенные отрывки из писем, сохранялись довольно долго.
В первом варианте очерка, названном «Новый Ликург» и напечатанном 21 февраля 1926 года в газете «Дни», эта фраза отсутствует; вместо нее; «По целому ряду причин, о которых когда-нибудь расскажу отдельно, в январе 1918 года я решил поступить на советскую службу». Да и печататься Ходасевич продолжал при советской власти до самого отъезда и даже некоторое время после него…
В 1918 году с помощью брата Ходасевич устраивается секретарем в третейский суд при Комиссариате труда Московской области (брат работал там супер-арбитром, утверждавшим решение суда).
«Комитет помещался <…> в огромном опустошенном здании, разумеется, нетопленом. Нижние этажи стояли почти пустые. То был ряд колоссальных зал с разбитыми окнами. Снег, врывавшийся в окна и заносимый на сапогах, оттаивал на полу, мешаясь с грязью».
Таковы были условия работы, но еще хуже была ее суть. Выяснилось, что это почти «каторжная», во многом бесполезная работа: представители рабочих, чувствуя себя уже «хозяевами жизни», не слушают никаких резонов и в спорах с предпринимателями настаивают на своем. Секретарю, составляющему предварительные записи и ведущему протоколы заседаний, убедить их зачастую не удается. Выполнять решения суда они отказываются, если оно не в их пользу. Местные Советы тоже выступают против высших инстанций.
«…Я позвонил по телефону в Совет (по поводу отказа выполнять решение суда. – И. М.), и мне оттуда ответили:
– Вы, товарищи, лучше отступитесь, а то мы против вас двинем воинскую часть.
Не располагая в этот момент ни артиллерией, ни танками, я был вынужден не настаивать», – горько шутит Ходасевич.
Потом Ходасевича вызвал к себе комиссар по труду В. П. Ногин и предложил заняться кодификацией декретов и постановлений, то есть «составить кодекс законов о труде первой в мире республики трудящихся». Ходасевич наотрез отказался, ссылаясь на отсутствие юридического образования. Сошлись на том, что он составит сводку изданных постановлений. Обнаружив в них массу противоречий, Ходасевич пытался уйти в отставку, но его не отпустили. Тогда он просто перестал ходить на службу. «Решение созрело однажды утром. Я встал, выпил чаю и понял вдруг, что идти в комитет не могу, что нет сил зайти туда хотя бы за портфелем, который остался в ящике моего стола». Так бесславно кончилась эта служба, ставшая невмоготу.
Осенью 1918 года Ходасевича вместе с другими писателями пригласили читать лекции в литературной студии Пролеткульта. Он вызвался читать лекции о Пушкине. Но руководителей студии крайне раздражало то, что на лекции Ходасевича ходит человек 30–40, на лекции Андрея Белого – человек 60, а на их занятия – человек 15. «…Мои чтения представлялись им замаскированной контрреволюцией». Ему стали мешать: то вместо лекций предлагали вести семинарий, что было гораздо труднее с такой неподготовленной аудиторией, то снова приказывали читать лекции на тему: «Жизнь и творчество Пушкина» и в конце концов, когда он пришел на четвертую лекцию, объявили, что все студийцы отправлены на фронт…
С конца 1918 года Ходасевич – сотрудник ТЕО (театрального отдела Наркомпроса), вместе с Бальмонтом, Брюсовым, Балтрушайтисом, Вячеславом Ивановым, Пастернаком. Неплохая компания, но совершенно безрадостные и бессмысленные занятия. С сильным раздражением описывает Ходасевич эту свою «советскую» службу, всю ее абсурдность: «Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в ТЕО, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленые квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в ТЕО и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись». Все они пытались кое-что сделать, то есть «протащить» в репертуар театров Шекспира, Гоголя, Мольера (Ходасевич служил в репертуарной секции), начальство же жаждало «новых пьес»; они поступали, но были совершенно бездарны. С отвращением пишет Ходасевич о пустой говорильне – аудиенции, данной писателям в Кремле наркомом Луначарским, о вечере в квартире Каменевых – там же в Кремле, в «белом коридоре», – где им пришлось выслушать декадентские пьесы «козлобородого» поэта и прозаика Ивана Рукавишникова в исполнении вечно пьяного автора, которому Луначарский покровительствовал из-за его хорошенькой жены – цирковой артистки…
С конца 1918 года Ходасевич заведует также московским отделением «Всемирной литературы», созданной Горьким. В 1919 году вместе с женой служит в Книжной палате Московского Совета. Это тоже была типичная советская служба: с полной неразберихой, с противоречивыми и невыполнимыми подчас указаниями, с постоянной нехваткой нужных материалов. Книжная палата обязана была доставлять по экземпляру выходящих из печати книг и газет в библиотеки. Но получить эти книги и газеты из типографий было большой проблемой. В какой-то момент одна типография просто отказалась возить газеты так далеко – в Хамовники. В помещении было три градуса тепла – работали в перчатках. Не хватало элементарных вещей: письменных принадлежностей, лент для машинки, оберточной бумаги, веревок для упаковки…
Попутно Ходасевич вместе с другими московскими писателями: Муратовым, Зайцевым, Осоргиным – создает кооперативную книжную лавку – попытка продавать что-то свое. Собственные книги приходилось «издавать» в рукописном виде: напечатать их типографским способом негде и не на что. Ходасевич продавал свою рукописную книжку «Стихи для детей» и ряд других. Он вспоминал об этом уже в эмиграции, рецензируя статью М. Осоргина, и назвал это предприятие «траги-комической (впрочем, конечно, более трагической) страницей из недавнего прошлого, когда русские писатели, не имея возможности издавать свои книги типографским способом, размножали их от руки». Книги «подчас изготовлялись на самом фантастическом материале, вроде оберточной бумаги, обоев, неразрезанных листов советских денег, на мешочном холсте и даже на осиновом поленце, а продавались на „валюту“ – т. е. обменивались на муку, масло, сахар».
Условия жизни – нечеловеческие, жизнь – фантастическая по трудности. Кто не испытал этого, может представить себе такую жизнь лишь с трудом.
Помещались они всей семьей все в том же доме на Плющихе, в Седьмом Ростовском переулке; их квартира была полуподвальной и поэтому особенно сырой и холодной.
«Зиму 1919–20 г. провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленного дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого – в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем и сахарином. Мы с женой в это время служили в Книжной палате Московского Совета: я заведующим, жена секретарем».
Эта комната с пробитым в кухню окном изображена на юмористическом рисунке художницы Юлии Оболенской, приятельницы Ходасевича со времен Коктебеля, бывавшей у него в гостях в то трудное время, и художника Константина Кандаурова. Оболенская описала их рисунок в письме подруге Магде Нахман: «Сам Владислав в старой шубе сидит за столом в обществе Пушкина и задает ему знаменитый хлестаковский вопрос (подпись под рисунком): „Ну что, брат Пушкин?“».
Ходасевич был тогда еще сравнительно молод – 34 года – и вопреки всему, вопреки постоянным болезням, умел еще сопротивляться невероятным условиям жизни. Летом 1920 года, после тяжелой зимы, написано светлое и легкое по тональности стихотворение «Музыка» – о колке дров во дворе с соседом и о музыке, неслышной соседу таинственной музыке – рождении ее в неведомых небесных сферах; оно открывает следующий, пожалуй лучший, сборник Ходасевича «Тяжелая лира». Ходасевич снова ненадолго вернулся к белому ямбу. Написаны стихи «в чудесный летний день, сразу. Всю зиму пробовал – не выходило. Серг. Ив. – Воронков, жил надо мной в 7-м Ростовском».
Ходасевич с соседом колет во дворе дрова. И вот:
<…> …Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь
И говорю: «Постойте-ка минутку,
Как будто музыка?» Сергей Иваныч
Перестает работать, голову слегка
Приподымает, ничего не слышит,
Но слушает старательно… «Должно быть,
Вам показалось», говорит он… <…>
«Помилуйте, теперь совсем уж ясно.
И музыка идет как будто сверху.
Виолончель… и арфы, может быть…
Вот хорошо играют! Не стучите». —
И бедный мой Сергей Иваныч снова
Перестает колоть. Он ничего не слышит,
Но мне мешать не хочет и досады
Старается не выказать. Забавно:
Стоит он посреди двора, боясь нарушить
Неслышную симфонию. И жалко
Мне, наконец, становится его.
Я объявляю: «Кончилось». Мы снова
За топоры беремся. Тук! Тук! Тук!.. А небо
Такое же высокое, и так же
В нем ангелы пернатые сияют.
Ангелы появляются время от времени в стихах Ходасевича… Эта музыка, которой словно и нет, – музыка высших сфер – слышна не каждому, ничего тут не поделаешь…
В результате всей этой жизни Ходасевич тяжело заболел фурункулезом: «2 марта слег». Летом он лечился в санатории: в «здравнице для переутомленных работников умственного труда», открытом прямо в Москве. Здесь же жили Вячеслав Иванов и Гершензон и создавалась их знаменитая «Переписка из двух углов», так что интересного, наполненного общения, философских и литературных разговоров было достаточно, что все-таки скрашивало жизнь…
После санатория – новая трудность, чуть было не приведшая к нелепой развязке: врачебная комиссия признала совершенно больного и вдобавок близорукого Ходасевича годным для военной службы, так как ее члены боялись обвинения во взяточничестве. Через два дня ему предстояло отправиться на фронт.
«Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:
– Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать».
Так началась новая, довольно короткая, но в то же время очень значимая для Ходасевича полоса жизни.