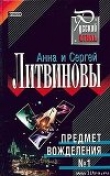Текст книги "Жизнь Владислава Ходасевича"
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава 12
Смертельный враг


Литературное общество «Зеленая лампа»
Слева направо: Дмитрий Мережковский, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Зинаида Гиппиус, Георгий Адамович Париж. 1928 год. Фото из книги «Русская эмиграция в фотографиях: Франция, 1917–1947»: В 2 т. Париж, 1999–2001. Из архива А. А. Корлякова
Эту вражду между двумя крупными поэтами, действительно, можно назвать смертельной; хоть и длилась она в самой острой своей стадии всего шесть с лишним лет, но оказала большое влияние на Ходасевича. А может быть, она существовала и всю жизнь. Неприязнь между ними, во всяком случае, была всегда. Ходасевич с самого начала, еще в России, не принимал Георгия Иванова как поэта всерьез. Он довольно пренебрежительно писал о нем в газете «Утро России», в рецензии на его третий стихотворный сборник «Вереск» (в общем обзоре вышедших поэтических книг, 1916 год): «…где надо – показался изысканно томным, жеманным, потом задумчивым, потом капризным, а вот он уже классик и академик. И все это с большим вкусом приправлено где аллитерацией, где неслыханной рифмой, где кокетливо-небрежным диссонансом… <…>. Он меняет костюмы и маски с такой быстротой и ловкостью, что сам Фреголи (известный актер варьете и кинорежиссер Леопольдо Фреголи (1867–1936) был мастером перевоплощения; его называли „человеком с тысячью лиц“. – И. М.) ему позавидовал бы. Но в конце концов до всего этого ему нет никакого дела. Его поэзия загромождена неодушевленными предметами и по существу бездушна даже там, где сентиментальна. <…> Эта одна из отраслей русского прикладного искусства XX века». Георгия Иванова, который был с этой рецензией, безусловно, знаком, она не могла не раздражить, хотя и не слишком выделялась из общего хора неодобрительных отзывов. Особенно его могли задеть слова: «Г-н Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только если случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастия. Собственно, только этого и надо ему пожелать». В какой-то мере Ходасевич оказался пророком…
В 1921 году, в голодном послереволюционном Петербурге они познакомились лично. В одном из писем того времени (в Москву В. Г. Лидину, от 27 августа 1921 года, после смерти Блока) Ходасевич писал: «Знаете ли, что живых, т. е. таких, чтоб можно еще написать новое, осталось в России три стихотворца: Белый, Ахматова да – простите – я. Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Вячеслав Иванов – ни звука к себе не прибавят. Липскеровы, Георгии Ивановы, Мандельштамы, Лозинские и т. д. – все это „маленькие собачки“, которые, по пословице, „до старости щенки“. Футур-спекулянты просто не в счет. <…> Особенно же грустно, что, конечно, ни Белому (как стихотворцу), ни уж, подавно, Ахматовой, ни Вашему покорному слуге до Блока не допрыгнуть».
И вот этого поэта, которого Ходасевич ставил ни во что (правда, в одном ряду с Мандельштамом), в эмиграции начали время от времени сравнивать с ним, объявляя то одного из них, то другого первым поэтом России. Возникала своего рода борьба за поэтический трон. Но до поры до времени оба поэта вели себя вполне корректно. До Парижа они встретились еще в Берлине. Ирина Одоевцева печаталась иногда в «Беседе». В Париже Георгий Иванов регулярно публиковался в «Днях» (в основном, «Петербургские зимы»), где Ходасевич вместе с Алдановым вел литературную страницу. Встречались они и в кафе, и в литературных собраниях. Во всяком случае, имя Георгия Иванова часто появляется в «Камер-фурьерском журнале» Ходасевича, что говорит, конечно, не о близком общении, а о постоянных встречах на людях.
Но в 1928 году произошел неприятный, скорее всего непредвиденный, казус. К этому времени Ходасевич уже постоянно работал в газете «Возрождение», издательство при которой в конце 1927 года выпустило его «Собрание стихотворений». Иванов попросил Ходасевича «секретно» прозондировать почву, нельзя ли издать там же его «Петербургские зимы» отдельной книгой. Видимо, вышло какое-то недоразумение (вряд ли Ходасевич сделал это умышленно, он не был склонен к таким заведомо оскорбительным действиям; возможно, это была его небрежность или недосмотр), и Иванову вместо устного ответа через Ходасевича послали по почте открытку с отказом на адрес газеты «Последние новости», где он сотрудничал. Это поставило его в неловкое положение перед редакцией.
Иванов был в ярости. Мысль об изощренной мести Ходасевичу, которого он считал виноватым в этом оскорбительном ответе «Возрождения», созрела довольно быстро. Он знал, как можно отомстить поэту. Недаром его называли в эмигрантских кругах «Жорж опасный». Вскоре в «Последних новостях» (8 марта 1928 года) появилась его статья с иезуитским названием «В защиту Ходасевича».
Итоговый сборник стихов Ходасевича 1927 года получил довольно шумное признание. В газетах и журналах были напечатаны рецензии лучших критиков эмиграции: Зинаиды Гиппиус, Владимира Вейдле, восторженного поклонника и друга Ходасевича («Поэзия Ходасевича»; позже изданная отдельной книгой), Сирина (Владимира Набокова).
Сирин писал в «Руле» 14 декабря 1927 года: «Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (то есть в некотором смысле несвободный) ритм и составляет очарование стихов Ходасевича. <…> Пусть он местами строг до сухости; неожиданно он захлебывается упоительным пэоном, острая певучесть перебивает холодноватый ход стиха. Трепетность его хорея удивительна. <…> Свобода Ходасевича в выборе тем не знает границ. Временами кажется, что он шалит, играет, холодно наслаждается своим даром, воспевая невоспеваемое. <…> Очень интересен в творчестве Ходасевича некий оптическо-аптекарско-химическо-анатомический налет на многих его стихах. <…> Ходасевич – огромный поэт, но думаю, что поэт – не для всех. Человека, ищущего в стихах отдохновения и лунных пейзажей, он оттолкнет».
Зинаида Гиппиус поместила 15 декабря в газете «Возрождение» рецензию под названием «Знак», в которой называла дар Ходасевича «страшным и благодетельным». Она писала о его поэзии: «Душа и сердце, бьющееся „на пороге“ не „двойного“ бытия, а тройного, четверного, пятерного. <…> Эта внутренняя все-раздельность, постоянная разъединяемость, – как бы распад внутренний, нестерпимы для „Я“. Уж тогда хоть разделить бы, разделиться бы до конца, совсем…» Гиппиус поневоле коснулась и темы «Блок – Ходасевич»:
«Отчасти благодаря своей четкости, резкости прямых линий, поэзия Ходасевича не „обворожительна“. Магия его „сурово-стиснутых стихов“ – иного порядка. Обвораживают туманности и „несказанности“ Блока. Не говорю о том, плюс или минус для поэзии „обворожительность“. Да и Ходасевича с Блоком не сравниваю, не занимаюсь вопросом, кто из них „больше“ поэт, кто меньше (какой праздный вопрос!). Я просто отмечаю, что Блок „обворожителен“, Ходасевич – нет. <…>
Ходасевич весь принадлежит сегодняшнему дню, Блок – вчерашнему. Трагедия Блока не то что менее глубока; но при всех „несказанностях“ ее механика как-то проще. Сложнейшая трагедия внутреннего распада и постоянной мучительной борьбы с этим распадом – воистину трагедия нашего часа».
Гиппиус пишет, что Ходасевич «устал», но гораздо опаснее усталости, от которой можно отдохнуть, другое: «Все чаще кажется Ходасевичу, что он уже все узнал, все знает. <…> Для человека той трагедии, о которой мы знаем, нет ничего опаснее уверенности во всезнании». Трагедия тогда «падает, медленно сходит на нет». (Это звучит как предостережение, неблагоприятное предсказание.) И Гиппиус упоминает в конце рецензии стихотворение «Про себя», в котором «ползет паук с отметкой крестовидной», «не ведая того, / Что значит знак его спины мохнатой». «…Узнать хотя бы, „что значит знак“», – пишет она. Намек на то, что душе и поэзии Ходасевича не хватает настоящего духа христианства?.. Но Ходасевич знал, в отличие от паука, о смысле знака и был христианином…
Восторженнее всех писал о Ходасевиче его друг Вейдле, объявляя его не последователем Баратынского, а прямым наследником Пушкина. Он писал, что Ходасевичу свойственна «земная духовность»: «Прозаизм для Ходасевича – один из важнейших стимулов лирического подъема». Были в его рецензии и такие слова: «Да, в России, после Блока, Ходасевич наш поэт. <…> Но если с нами этот бескрылый гений, то разве не нам он послан и не мы его лишили крыл? <…> У этого времени, кроме него, не было и нет поэта. <…> Дело в том, что все в поэзии Ходасевича: подавленность ее тона, ее голос, низкий и глухой, страшная вещественность мира, всегда присутствующего в ней и сквозь который она устремлена прорваться, все это вызвано Россией, Европой последнего века и последних лет, невыносимым временем, которое она выносила и выносит, – и за это одно надо бы ей воздать хвалу».
Георгию Иванову, безотносительно к истории с «Возрождением», было неприятно читать такую хвалу в адрес Ходасевича. Конечно, бесило его и упоминание имени Ходасевича рядом с именем Блока. И он решился на написание этой пресловутой статьи, метко ударяя в больные места:
«…Можно быть первоклассным мастером и остаться второстепенным поэтом. Недостаточно ума, вкуса, умения, чтобы стихи стали той поэзией, которая хоть и расплывчато, но хорошо все-таки зовется поэзий „Божьей милостью“. Ну, конечно, прежде всего должны быть „хорошие ямбы“, как Рафаэль прежде всего должен уметь рисовать, чтобы „музыка“, которая есть у него в душе, могла воплотиться. Но одних ямбов мало. „Ямбами“ Ходасевич почти равен Баратынскому. Но ясно все-таки „стотысячеверстое“ расстояние между ними. <…>
Перелистайте недавно вышедшее „Собрание стихов“, где собран „весь Ходасевич“ за 14 лет. Как холоден и ограничен, как скуден его внутренний мир! Какая нещедрая и непевучая „душа“ у совершеннейших этих ямбов!»
Иванов объявлял Ходасевича чуть ли не ремесленником, совершенно не стремясь проникнуть в «душу» его поэзии… Тем больнее было Ходасевичу читать такие слова, что в какой-то степени он, возможно, с ними даже, вопреки своему высокомерию, соглашался. Переживая триумф, вызванный выходом «Собрания стихотворений» и рецензиями на него, считаясь в этот момент признанным «первым поэтом» эмиграции, он тем не менее чувствовал, что наступил его творческий кризис, что стихи не пишутся и надо искать что-то новое… Хотя массу времени и сил отнимала ежедневная работа для газеты. Хотя в 1928 году среди немногочисленных созданных им тогда стихов были такие шедевры, как «Памятник» и «Веселье» («Полузабытая отрада…»). Но что-то было уже не так. И поэтому он с еще большей яростью отомстил обидчику. Он поступил тут по завету своего любимого Пушкина, почитавшего «мщение одной из первых христианских добродетелей»…
В то же время в литературной среде эмигрантского Парижа был распущен слух, что Горький выставил в 1925 году Ходасевича из своей виллы в Сорренто, застав того роющимся в его письменном столе. По воспоминаниям Василия Яновского, сплетня исходила из круга Иванова. Эта заведомая ложь тоже больно задела Ходасевича.
Месть Ходасевича находилась за гранью дозволенного общепринятой моралью: он письменно обвинил Георгия Иванова вкупе с Георгием Адамовичем и Николаем Оцупом в убийстве, но сделал это не в печати, что было бы уж слишком (во всяком случае, даже опасно для него самого – привлечение к ответственности за клевету, ибо его заявление было невозможно доказать), а разослал парижским писателям и знакомым письма с таким обвинением. Юрий Терапиано засвидетельствовал это много лет спустя, в 1955 году, в письме критику В. Ф. Маркову: «…во время ссоры Иванова с Ходасевичем Ходасевич разослал многим писателям и другим лицам такое письмо: якобы Адамович, Иванов и Оцуп завлекли на квартиру Адамовича для карточной игры, убили и ограбили какого-то богача, на деньги которого затем все выехали за границу. Труп, разрезав на куски, вынесли и бросили в прорубь на Неве. Адамович нес, якобы, голову, завернутую в газету. Можете себе представить, какой был скандал; до сих пор то здесь, то там, то в Париже, то в Ницце, кто-нибудь рассказывает: „знаете…“ Ходасевич клялся, что это правда и что будто бы ленинградская милиция требовала у парижской полиции выдачи „преступников“, „большевикам было отказано, т. к. французы подумали, что выдачи требуют по политическим мотивам“». Не верить, в свою очередь, Терапиано у нас нет оснований. Кроме того, об этом убийстве долго ходили слухи и в советской России: рассказывал о ней и Константин Федин Роману Гулю, встретившись с ним в 1925 или 1926 году за границей (Гуль пишет сам об этом в письме Иванову 28 октября 1955 года), и Ахматова в разговорах с Лукницким.
Мог ли Ходасевич решиться на подобную скандальную акцию, сам не веря до конца в эту историю? Ведь сведения о ней он, скорей всего, получил от приезжавших к Горькому в Сорренто людей, связанных с ГПУ. Не будучи человеком наивным, он должен был знать цену слухам, распускаемым ГПУ. И все же он обычно гораздо точнее, чем Иванов, определял для себя в жизни границы дозволенного, границы «чести», если можно так выразиться. Сила его ненависти и смертельной обиды была такова, что он решился пойти на это.
А. Ю. Арьев убедительно доказал, что, если убийство по указанному адресу и было, то участвовать в нем Иванов никак не мог – он находился в это время уже за границей, выехав из Петрограда в октябре 1922 года (первая заметка в «Красной газете» об этом убийстве появилась 8 февраля 1923 года, вторая – 2 мая, причем в обеих говорилось, что расчлененный труп был найден не в Мойке, ближайшей реке от Почтамтской улицы, а в Фонтанке); Адамович же в феврале был еще в Петрограде, но вскоре уехал.
Сам Иванов сделал из этого происшествия в 1955 году нечто почти беллетристическое, расписав его в духе «бродячего сюжета» в письмах Роману Гулю и посылая свой очерк как будто не для публикации, а на хранение. Иванову хотелось очиститься перед смертью от необоснованных обвинений, но при этом он старым оружием Ходасевича побивал теперь Адамовича, приписывая убийство ему, своему давнему другу, с которым был в многолетней ссоре, но совсем недавно, во всяком случае внешне, помирился. К очерку этому, про который он пишет: «Все это протокол – документ», он прилагает письмо Адамовича, подтверждающее отъезд Иванова за границу осенью 1922 года. «В свое время, после бурного объяснения, я его получил от нашего популярного властителя дум, не без мордобоя», – сообщает Иванов по поводу письма.
Но даже его американский издатель, конфидент и эпистолярный приятель Роман Гуль склонен был в какой-то момент поверить, что Иванов в «мокром деле» был действительно замешан. Он, очевидно, считал, что этот поэт, которого он так превознес в своей недавней статье в «Новом журнале», а в письмах называл время от времени «жутким маэстро», способен на все, и даже на убийство. В рецензии он прямо писал, что «последней конкретной темой часто звучащей в ивановской поэзии является тема убийства. <…> К ней Г. Иванов возвращается чрезвычайно напряженно, как к галлюцинации…». Это сильно задело Иванова. Гуль отчасти провоцировал его на разговор об убийстве, желая получить от него весьма заинтересовавший Гуля упомянутый очерк. Но Иванов писал в ответ:
«И сходить в могилу убийцей не хочется, знаете. Никогда никого не убивал. Чем-чем, а этим не грешен. <…> Так что прошу – верьте на слово – не убивал и не галлюцинирую убийствами».
Мне кажется, что Ходасевич склонен был в какой-то мере верить: что-то подобное, грязное, преступное там, на Почтамтской улице, могло произойти при участии Иванова и Адамовича (он не знал точно, когда Иванов выехал из России), или в порыве дикого озлобления постарался себя уверить: от этих людей можно ожидать всего, и пусть все знают им цену.
Вообще в этой истории много туманного и невыясненного. Газетные заметки подтверждают: «что-то было», и это уже в известной мере документ, а не вымысел. Но где именно? Голову убитого в заметках почему-то бросают в Фонтанку, а не в Мойку, хотя Мойка, да и Нева, от Почтамтской улицы в двух шагах. Может быть, все происходило по другому адресу и совсем с другими людьми? Но Иванов описывает участие в «мокром деле» Адамовича, стараясь придать своему «повествованию» такую убедительность: Адамович подтирал кровь в ванной в одних подштанниках, на коленках, «хлюпал окровавленной тряпкой» и прочее, словно сам присутствовал при этом. Конечно, это всего-навсего беллетристический ход. Все, что он пишет об Адамовиче, дышит ненавистью к былому другу. Даже Роман Гуль, человек, к Иванову расположенный и высоко ценивший его талант, сообщает по поводу полученной им последней части очерка в обычной шутливой манере: «Мое впечатление о подсудимом внезапно стало оборачиваться в его пользу. Ну, да, конечно, участвовал, в подштанниках там лазил, подтирал, все так… Но позвольте, господа судьи! Вина моего подсудимого небольшая – он – посмотрите на него! – он типичная жертва среды… Он был принужден, вынужден по слабости характера, вернее по бесхарактерности вовсе – ему некуда было податься от этих паханов… взгляните на него, господа судьи… и т. д… Вот паханы – да, это централ номер первый и петля, вздрагивая, плачет по их шеям… но этот нежный подсудимый – смотрите, он даже плачет, видите, он рыдает навзрыд…» Похоже, Гуль уже не верит в истинность описанного происшествия. Попутно он защищает Адамовича и от других несправедливых нападок Иванова…
В свое время Иванов благоразумно по поводу обвинения, растиражированного в письмах Ходасевичем, промолчал. Но не забыл… В 1930 году, когда в Париже отмечается 25-летие литературной деятельности Ходасевича (организовала празднование юбилея газета «Возрождение», и все прошло удачно), Иванов показывает зубы опять, но уже под псевдонимом: в «Числах» появляется статья «К юбилею В. Ф. Ходасевича» с ехидным подзаголовком «Привет читателя» за подписью А. Кондратьев. Позже выясняется, что писатель с такой фамилией и инициалом действительно существует, живет в Польше; он заявляет протест, и скандал набирает новые обороты. В этой якобы хвалебной статье Иванов опять «разоблачает» Ходасевича и снова причиняет ему острую боль. Он осторожно пишет, что поэзия Ходасевича состоит из заимствований и светится не своим, а отраженным светом и старается доказать ее «ремесленность». Есть в его статье и такой пассаж: «В связи со статьями некоторых критиков <…> одно время возникает опасность как бы вторичной несправедливости по отношению к поэту – вслед за продолжительным периодом равнодушия и непонимания возникает опасность переоценки значения его творчества, вплоть до такой очевидной нелепости, как приравнение ценной и высокополезной, но скромной по самой своей природе поэзии Ходасевича чуть ли не к самому Блоку. Это досадное преувеличение, досадное, конечно, прежде всего, самому поэту…» Сравнения Ходасевича с Блоком Иванов, конечно, вынести не мог, но впал при этом в статье в неприятно фальшивый тон.
Пик славы – и этот диссонанс, внесенный в общий хор эмигрантских голосов Ивановым, столь несправедливый и в то же время с демоническим предвидением, словно предсказывавший близкий конец «скромной поэзии» Ходасевича…
Сам Георгий Иванов впоследствии не без сладострастия признается в письме В. Ф. Маркову: «…он был в зените славы, а я его резанул по горлышку. Для меня это была „игра“ – только этим, увы, всю жизнь и занимался – а для него удар, после которого он, собственно, уже и не поднялся. Теперь очень об этом жалею». Жалел ли?
«Иногда какое-нибудь ничтожное обстоятельство влечет за собой настоящую трагедию, а если участник такой трагедии поэт, существо, одаренное чрезвычайной чувствительностью, то слово действительно приобретает разрушительную силу, и тогда становится ясно, как важно быть осторожным в своих высказываниях», – написал Юрий Терапиано. И еще: Ходасевич «обид не прощал, к литературным врагам был беспощаден, но – необходимо заметить – не обладал ивановским даром совершать литературные убийства».
А статья Иванова походила на убийство. «Резануть по горлышку» было несложно – Ходасевич в 1930 году написал очень мало стихов. Слава «первого стихотворца» потихоньку уходила в прошлое. Это было мучительно и болезненно. Он начал утешать себя тем, что его призвание – критика и проза. В это время был уже написан «Державин», блестящая биография одного из его любимых поэтов. Но стихи! «Стихи навсегда» – как было когда-то сказано им самим… И мысли насчет «другого призвания» были всего-навсего самоуспокоением. Перестать быть поэтом, перестать быть Орфеем – немыслимо. Последние стихи и ему самому казались какими-то вымученными, сухими… Но он ведь и стремился к сухости, к скупости средств, к прозаизмам… Конечно, у Блока все в стихах пело… Но Блок недостижим, да и задачи у его поэтики другие, да и другое было время… Каждый поэт живет по своим законам.
Он перестал ходить туда, где можно было встретить Иванова, сменил кафе. Вместо «Селекта», «Ротонды» и «Дома» сделал своим «придворным» кафе «Мюрат». С Ивановым он последний раз встретился в кафе и, возможно, разговаривал 7 марта 1928 года – так, во всяком случае, записано в «Камер-фурьерском журнале»; может быть, на деле было иначе, поскольку в «Мюрат» вели «все пути». Но видеть его после всего было противно, а кланяться так и вовсе не хотелось.
Помирились они лишь в 1934 году – их помирил на вечере памяти Андрея Белого Юрий Фельзен: момент был подходящий… Многие в зале, особенно молодежь, были этим недовольны, как пишет Юрий Терапиано; столь ярая литературная вражда забавляла и веселила их. Но это был все равно не мир, а перемирие, настороженное и холодное.
«Изысканно вежливый» Иванов послал Ходасевичу записку, когда тот не пришел на их с Одоевцевой четверг в конце 1935 года, считая, что четверг не состоится (Иванов сам перепутал дни). Иванов извинялся и просил обязательно прийти на следующий четверг. Ходасевич действительно пришел на следующий четверг, 2 января 1936 года, потом еще раз, но больше там не появлялся.
28 мая 1937 года в «Возрождении» была напечатана рецензия Ходасевича на новый сборник стихов Иванова, название которого почти повторяло старое, давнишнее – «Отплытие на остров Цитеру». Ходасевич прибегнул к своеобразному приему, почти дословно используя в ней то, что написал о нем когда-то Иванов под фамилией Кондратьев. Это была снова месть, но уже завуалированная и разыгранная, месть-игра: «Характерны для Георгия Иванова заимствования у других авторов, а в особенности – самый метод заимствования. <…> Георгий Иванов <…> заимствует именно не материал, <…> а стиль, манеру, почерк, как бы само лицо автора – именно то, что повторения не хочет и в повторении не нуждается. Иными словами, заимствует то, что поэтам, которым он следует, было дано самою природою и что у них самих не было ниоткуда заимствовано. <…> В общем же у читателей создается впечатление, что он все время из одной знакомой атмосферы попадает в другую, в третью, чтобы затем вернуться в первую и т. д.»
Георгий Иванов, понимая, что тут уж открывать новую войну просто смешно, принял игру и ответил на рецензию любезной открыткой: «Благодарю Вас от души за Вашу статью о моей книге. Она доставила прямое и неподдельное удовольствие <…>». Действительно, он, любитель «игр» в литературе и в жизни, оценил остроумный ход Ходасевича. Оба «игрока» были удовлетворены: состоялась, по выражению А. Ю. Арьева, «ничья».
В 1938 году Георгий Иванов выпустил в свет последнее свое значительное произведение в прозе, которое успел прочесть и отрецензировать Ходасевич, умерший в 1939 году. Это был эпатажный, скандальный, наделавший много шума «Распад атома».
Ходасевич написал о нем осторожно, не восхищаясь и не отвергая. Он заметил лишь, что это не проза, а стихи в прозе. И, кроме того, это не «человеческий документ» («модный» в то время термин, фигурировавший в полемике Ходасевича с Адамовичем), автора не следует отождествлять с его героем.
Вопрос старый, как мир. Конечно, автора не следует отождествлять с его героем, но в то же время герой вырастает из его, авторского, мироощущения, из того, что сам автор пережил… И когда Ходасевич пишет, что в лирике обычно стоит знак равенства между автором и героем и жаль, что Иванов от этого отказался, когда он называет героя «Распада атома» «очень мелким героем», то он явно метит в самого Георгия Иванова, все-таки отождествляя его с «лирическим героем»: «Иванов взял человека, которого постигла любовная неудача, – и от этого мир ему стал мерзок, и перед тем, как пустить себе пулю в лоб, он решает испакостить мир в глазах остающихся. „Идеология“ самая не только необязательная, но и глубоко пошлая, истинно мещанская, вроде того, что выселяют из квартиры за невзнос платы, – давайте обои пачкать и стекла бить! Главное уродство оказывается заложено не в мире, а в самом герое. Он, правда, себя и не щадит, рассказывая о себе немалое количество гнусностей, но он напрасно обольщается мыслью, что „на него весь свет похож“».
На эту рецензию Ходасевич обратил внимание Набокова в письме от 25 января 1938 года: «В ближайшем номере „Возрождения“ прочтите мою статью о нашем друге Георгии Иванове. Она не очень удалась, я дописывал ее в полном изнеможении вчера вечером, но кое-что в ней Вы, надеюсь, оцените…» Может быть, он имел в виду именно это «отождествление» героя с автором, а также и остроумно-язвительный пассаж: «Спору нет – внешнее содержание словесного натюрморта, щедро разбросанного Георгием Ивановым по страницам его книги, определяется содержимым опрокинутого ящика для отбросов. <…> Свои неизящные образы Георгий Иванов умеет располагать так изящно, по всем правилам самой благонамеренной и общепринятой эстетики, что (говорю это без малейшего желания сказать парадокс), все эти окурки, окровавленные ватки и дохлые крысы выходят у него как-то слишком ловко, прилизанно и почти красовито». Он замечает, что Иванов и здесь «не сумел избавиться от той непреодолимой красивости, которая столь характерна для его творчества». Георгий Иванов таким и остается для него – тяготеющим к красивостям заурядным поэтом…
И все же – это страшное отвращение к окружающему миру, неприятие его, которым переполнен «Распад атома», были близки и самому Ходасевичу. Конечно, он никогда не выражал его в столь крайней, грубой, с бесстыдством, шокирующим читателя, форме, он был человеком более рафинированным и целомудренным, но между некоторыми его стихами и «Распадом атома» поневоле возникли переклички. Например, его старик, онанирующий в общественном туалете, и старик Иванова, жадно хватающий (Иванов пошел гораздо дальше, как и следовало ожидать!) и уносящий домой пропитанную мочой булку из общественного туалета, чтобы съесть ее дома с наслаждением, не говоря уже о том, что и само слово «онанизм», не употребленное Ходасевичем в его стихотворении, не раз встречается в «поэме в прозе». Множество стихов Ходасевича приходит на память при чтении «Распада атома» («Звезды» прежде всего («Ведут сомнительные девы / Свой непотребный хоровод») – и Марихен, лежащая в лесу с ножом «под левым, лиловатым, / Еще девическим соском» (а у Иванова «женщина с черепом, раскроенным топором»), и «Все высвистано, прособачено» – опять же у Ходасевича). Но форма выражения отчаяния в них не столь радикальна и отвратительна (и Ходасевич не отворачивается от Бога, одновременно взывая к Нему, как это делает Иванов). Ходасевич неспособен к столь полному обнажению и разнузданности, которые столь тешат Иванова.
Возможно, прочитав «Распад атома», Ходасевич вздрогнул, во всяком случае, почувствовал невольное родство. Почувствовал, что его литературный враг – своего рода двойник его. Ужаснулся, как перед зеркалом, пусть даже кривым. От этого ненависть могла бы и усилиться. Но Ходасевичу было уже не до того. Он был тяжко болен и умер через полгода с лишним после выхода «Распада атома».
А враг, «полоснувший» его когда-то «по горлышку», тоже надолго замолчал как поэт, чтобы потом, через 7 или 8 лет, возродиться вновь и написать свои лучшие стихи. У Ходасевича времени на возможное возрождение уже не было…