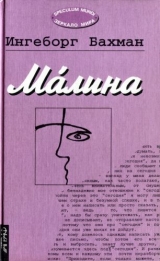
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Я удивленно спрашиваю:
– Как это может быть?
Кристина пренебрежительно замечает:
– Атти ведь тоже когда-то писал картины или рисовал, даже не знаю, ну вот, он и не переносит, когда другой человек что-то может, как, например, Ксандль. Все они такие, эти дилетанты, для меня знакомство с ними ничего не значит, Атти я практически совсем не знаю, Антуанетту, бывает, встречаю и здесь, в городке, и в Зальцбурге, у парикмахера, нет, в Вене – никогда, в сущности, они же непробиваемо консервативны, в чем ни за что не признаются, даже Антуанетта, хотя у нее море обаяния, но в современном искусстве она, простите, ни бум-бум, однако, выйдя замуж за Атти Альтенвиля, она ведь не прогадала, – Ксандль, я что думаю, то и говорю, и я такая, какая есть, послушай, ты меня сегодня просто бесишь! А детям я еще хорошенько всыплю, если кто из них опять сунется на кухню. Пожалуйста, наберись храбрости и скажи как-нибудь Атти: «Господин доктор Альтенвиль», хотела бы я видеть, какую он скорчит рожу, он ведь даже мысли такой не допускает, этот убежденный республиканец с его красноватой окраской, и пусть даже на его визитной карточке сто раз будет написано: «Д-р Артур Альтенвиль», ему это приятно только потому, что каждый пока еще знает, кто он. Вот такие они все!
В соседнем доме, у Мандлей, которые год от году все больше американизируются, сидит в living-room[42]42
Гостиная (англ.).
[Закрыть] какой-то молодой человек, Кэти Мандль шепчет мне, что он outstanding[43]43
Выдающийся (англ.)
[Закрыть], если я верно поняла, писатель, и, если разобрала, его фамилия не то Маркт, не то Марек, я еще ничего из написанного им не читала и о нем не слышала, должно быть, его только что открыли, или он ждет, когда его откроют, – благодаря Кэти. Не проходит и десяти минут, как он начинает с неприкрытой алчностью расспрашивать меня об Альтенвилях, я даю скупые ответы, а иногда и вовсе никаких. Чем, собственно, занимается граф Альтенвиль? – спрашивает юный гений и продолжает в том же духе: давно ли я знаю графа Альтенвиля, и правда ли, что я с ним в дружбе, и верно ли, что граф Альтенвиль… Нет, понятия не имею, я еще никогда его не спрашивала, чем он занимается. Я? Может быть, недели две. Ходить на яхте? Может быть. Да, по-моему, у них есть две лодки, или три, я не знаю. Вполне возможно. Чего хочет господин Маркт или господин Марек? Приглашения к Альтенвилям или только повода без конца произносить эту фамилию? Кэти Мандль толстенькая и приветливая, красная как рак, потому что настоящий загар к ней не пристает, говорит она в нос на своем венско-американском или американско-венском наречии. В семье она великая яхтсменка, единственная серьезная danger[44]44
Опасность (англ.).
[Закрыть] для Альтенвилей, если исключить Лайбла как профессионала. Господин Мандль говорит мало и кротко, охотнее молчит и смотрит. Мне он сообщает: «Вы не представляете, какая энергия таится в моей жене: если она не отправляется сразу на свою яхту, то каждый день перекапывает наш сад и переворачивает вверх тормашками весь дом. Некоторые люди действительно живут, а другие на них смотрят, я принадлежу к тем, кто смотрит. Вы тоже?»
Не знаю. Мне дают водку с апельсиновым соком. Однажды я уже пила этот напиток – когда? Я смотрю в стакан, как будто в него вставлен другой, и опять вспоминаю, мне становится ужасно жарко и хочется бросить или вылить стакан, оттого что водку с апельсиновым соком я однажды пила на высоком этаже одного дома, в самую страшную свою ночь, когда некто хотел выбросить меня из окна, и я больше не слушаю, что говорит Кэти про International Yacht Racing Union[45]45
Международный союз парусного спорта (англ.).
[Закрыть], в котором она, разумеется, состоит, я допиваю свой стакан в угоду кроткому господину Мандлю, он-то знает, что Альтенвили – фанатики пунктуальности, и я бреду обратно в сумерках; возле озера жужжанье и шушуканье, комары и мотыльки вьются у моего лица, я ищу дорогу назад, к дому, едва не валясь с ног, и думаю, что должна выглядеть уверенно, выглядеть хорошо, быть в настроении, никто не должен видеть меня здесь с землисто-серым лицом, пусть оно остается снаружи, в ночи, здесь, на дороге, такое лицо я могу позволить себе, только когда я одна в комнате, и вот я вхожу в ярко освещенный дом и, сияя, говорю:
– Добрый вечер, Анни!
Старая Йозефина ковыляет по коридору, я сияю и смеюсь:
– Добрый вечер, Йозефина!
Ни Антуанетта, ни весь этот Санкт-Вольфганг меня не доконают, ничто не заставит меня дрогнуть, ничто не помешает моему Воспоминанию. Но у себя в комнате, где я вправе выглядеть так, как я выгляжу, я тоже не падаю без сил, потому что вижу письмо, лежащее на умывальном столике рядом с тазом из старинного фаянса. Сперва я мою руки, осторожно сливаю воду в ведро и ставлю на место кувшин, а потом сажусь на кровать, держа в руках письмо от Ивана, которое он отправил еще до моего отъезда, не забыл об этом, не потерял адрес, я целую письмо много раз и думаю о том, как мне его вскрыть – осторожно отклеить край, а может, взрезать конверт маникюрными ножницами или ножом для фруктов, я разглядываю марку, на ней опять женщина в национальном костюме, почему? Я не хочу прямо сейчас читать письмо, хочу сначала послушать музыку, потом долго лежать без сна, с письмом в руках, читать свое имя, написанное рукой Ивана, положить письмо под подушку, потом его все-таки вытащить и ночью осторожно вскрыть. Стук в дверь, Анни осторожно всовывает голову:
– Пожалуйте ужинать, милостивая государыня, господа уже прошли в залу.
Вот как это здесь называется – «зала», а ведь мне надо быстренько причесаться, подправить макияж, при этом я еще разок подхихикиваю над Альтенвилевой «залой», так что времени у меня мало. После донесшегося снизу глухого удара гонга я, прежде чем погасить свет, вскрываю конверт. Я не вижу никакого обращения, на листе бумаги всего только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь строк – ровно восемь строк, а в конце, под ними, я читаю: Иван.
Я бегу вниз, в залу, и теперь могу сказать:
– Воздух здесь упоительный, я ходила гулять и заглянула кое к кому из друзей, но главное – воздух, природа после большого города!
Антуанетта своим уверенным резким голосом называет несколько имен, рассаживает гостей. Сначала подают обыкновенный суп с ливерными клецками. Принцип Антуанетты, особенно здесь, в их санкт-вольфгангском доме, – придерживаться старой венской кухни. На стол у нее не должно попадать ничего ненадежного, новомодного, также ничего французского, испанского и итальянского, здесь вы не испытаете неприятного удивления от переваренных спагетти, как у Ванчура, или вязкого пресного сабайона, как у Мандлей. Возможно, тем, что названия блюд и сами блюда остаются у нее неподдельными, Антуанетта обязана фамилии Альтенвиль, и она знает, что большинство гостей и родственников понимает этот ее принцип. Даже если предположить, что ничего венского больше нигде не останется, – у Альтенвилей, пока они живы, можно будет есть настоящий сливовый компот, королевскую картошку и жаркое по-гусарски, у них не будет водопровода и центрального отопления, полотенца будут по-прежнему из домотканого полотна, и в доме будет вестись «непринужденный разговор» (не путать с «беседами», «обсуждениями», «спорами») – исчезающая разновидность невесомого скольжения слов мимо присутствующих, которое способствует перевариванию пищи и поддерживает хорошее настроение. Чего не понимает Антуанетта, так это того, что ее художественное чутье в этих областях развилось более всего благодаря духу семьи Альтенвиль и менее всего благодаря ее собственным несколько путаным познаниям и случайным приобретениям образцов современного искусства. Половина гостей вынуждена сегодня говорить по-французски из-за дальних родственников Атти – какого-то дядюшки Бомона и его дочери Мари. Когда французский начинает одолевать, Антуанетта перебивает разговор просьбой: «Атти, будь так добр, очень дует, ну да, я же чувствую, дует вон оттуда!» Атти встает два раза подряд, плотнее задергивает занавеси, вертит и дергает оконные шпингалеты. «Наши теперешние мастеровые – это же просто халтурщики!» «Mais les artisans chez nous, je vous en prie, c'est partout la même chose! Mes chers amis, vous avez vu, comment on а detruit Salzbourg, meme Vienne! Mais chez nous à Paris c'est absolument le même, je vous assure!»[46]46
А наши мастеровые, я вас умоляю, везде одно и то же! Дорогие друзья, вы же видели, как разрушили Зальцбург, даже Вену! Но у нас в Париже совершенно то же самое, уверяю вас! (фр.)
[Закрыть] – «Знаешь, Антуанетта, я поражаюсь, как ты нынче все добываешь! Да, без Антуанетты, – но ей хорошенько достается! Нет, мы заказали себе совсем простой сервиз из Италии, из Вьетри, это там на юге, да ты же знаешь, не доезжая Салерно!» И мне вспоминается чудесное большое блюдо из Вьетри, серо-зеленое, с растительным орнаментом, оно сгорело, исчезло, это было первое мое блюдо для фруктов, почему сегодня возникает не только водка с апельсиновым соком, но и керамика из Вьетри? «Vous tes sûre qu'il ne s'agit pas de Fayence?»[47]47
Вы уверены, что это не фаянс? (фр.)
[Закрыть] «Господи! – восклицает Антуанетта, – дядя Гонтран совсем сбил меня с толку, помогите мне, пожалуйста, мне только сейчас пришло в голову, что слово «фаянс», возможно, происходит от слова «Фаэнца», – или это просто одно и то же, надо же, век учись». – «Бассано дель Граппа? II faut у aller une fois, vous prenez la route, c'était donc, tu te rappelles, Marie?» – «Non»[48]48
Туда стоит съездить, вы поедете по дороге, это ведь – ты помнишь, Мари? – Нет (фр.).
[Закрыть], – холодно говорит эта Мари, и старик Бомон неуверенно смотрит на дочь, потом на меня, однако Антуанетта из-за этой холодной Мари переводит разговор опять на Зальцбург и, ковыряясь в фальшивом зайце, шепчет мне: «Нет, фальшивый заяц сегодня не тот, что всегда». А потом, громко, другим: «Кстати, о «Волшебной флейте» – вы все ее смотрели? И что вы теперь скажете? Анни, передайте Йозефине, сегодня она меня ужасно расстроила, она знает чем, можете ей не объяснять. Ну а что вы прежде всего скажете о Караяне? Для меня этот человек всегда был загадкой!»
Атти изливает масло на вскипевшие было волны между пересушенным фальшивым зайцем, «Реквиемом» Верди, которым Караян дирижировал без соизволения Антуанетты, и «Волшебной флейтой» в постановке известного немецкого режиссера, чью фамилию Антуанетта прекрасно знает, но два раза путает и произносит неверно, точь-в-точь как Лина, которая так часто путает фамилии и прозвища: Цошке и Бошке. Но вот Антуанетта опять принялась за Караяна, и Атти говорит: «Пожалуйста, обратите внимание, что для Антуанетты каждый мужчина – полная загадка, это делает ее чуть-чуть не от мира сего, а потому особенно притягательной для мужчин». Антуанетта смеется своим неподражаемым фамильным, альтенвильским смехом. И если Фанни Гольдман все еще остается красивейшей женщиной Вены и необычайно завлекательно произносит «вы», то Антуанетте, верно, достался бы приз за прекраснейший смех. «Ах, в этом весь Атти! Дорогой мой, ты даже сам не знаешь, как ты прав, но что хуже всего, – кокетливо говорит она, обращаясь теперь к своей тарелке с фруктовым муссом и зачерпнув полную десертную ложку, которую она не донесла до рта, а держит над столом в изящно изогнутой руке, – (ах, Йозефина просто неоценима, мусс должен быть в точности таким, только я воздержусь ей это говорить), – но что хуже всего, Атти, ты для меня все еще самая большая загадка, пожалуйста, не возражай!» Она трогательно краснеет, ибо она все еще краснеет, когда ей приходит в голову что-нибудь такое, чего она до сих пор не говорила. «Je vous adore, mon chéri[49]49
Я вас обожаю, мой дорогой (фр.).
[Закрыть], – шепчет она нежно и так громко, что все, конечно, слышат. – Ведь если мужчина все еще остается для нас загадкой после десяти, а то и двенадцати лет, – нет, мы не хотим докучать другим своими откровенностями вслух, – это значит, что нам выпал большой выигрыш, разве я не права? Il faut absolument que je vous le dise ce soir!»[50]50
Абсолютно необходимо, чтобы сегодня вечером я вам это сказала! (фр.)
[Закрыть] Она смотрит на гостей в ожидании аплодисментов, и на меня тоже, но при этом успевает метнуть стальной взгляд в Анни, – та чуть не взяла у меня тарелку не с той стороны, однако еще миг, и она опять смотрит на Атти влюбленными глазами. Она откидывает голову назад, и ее подколотые на затылке волосы как бы случайно рассыпаются у нее по плечам, слегка вьющиеся золотисто-каштановые волосы; она сыта и довольна. Старик Бомон принимается немилосердно разглагольствовать о былых временах, когда дачный отдых был еще воистину отдыхом, когда родители Атти выезжали из Вены с сундуками, полными посуды, серебра и белья, с прислугой и детьми. Антуанетта, вздыхая, озирается, веки у нее начинают подрагивать, ведь вся эта история грозит обрушиться на слушателей в сотый раз. Гофмансталь и Рихард Штраус, разумеется, бывали у них каждое лето, и еще Макс Рейнхардт и Касснер[51]51
Касснер Рудольф (1873–1959) – немецкий философ и писатель.
[Закрыть], а удивительную книгу памяти Касснера, выпущенную Фердчем Мансфельдом, вот что всем нам теперь, наконец, надо посмотреть, а празднества, которые устраивал Кастильоне, une merveille sans comparaison, inoubliable, il était un peu buche, oui[52]52
Несравненное чудо, незабываемое, он, правда, был жуликоват (фр.).
[Закрыть], зато Рейнхардт tout autre chose[53]53
Совсем другое дело (фр.).
[Закрыть], настоящий барин, il aimait les cygnes – конечно, он любил лебедей! «Qui était се type-là?»[54]54
Кто это был такой? (фр.)
[Закрыть] – холодно спрашивает Мари. Антуанетта пожимает плечами, однако Атти любезно приходит на помощь старику: «Пожалуйста, дядя Гонтран, расскажите нам ту дико смешную историю про вашу горную экспедицию, знаете, это было в те времена, когда началось повальное увлечение альпинизмом, можно умереть со смеху, а знаешь ли ты, Антуанетта, что дядя Гонтран был одним из первых горнолыжников, которые тренировались на Арльберге и вырабатывали специальную технику, в то время, кажется, и появились кристиания и телемарк[55]55
Термины горнолыжного спорта.
[Закрыть]? И он был также одним из первых, кто изобрел семечковую диету и солнечные ванны нагишом, тогда для этого нужна была отчаянная смелость, ну пожалуйста, расскажите!» «Дети мои, я умираю, – объявляет Антуанетта, – я рада, что могу наедаться вволю, Бог с ней, с фигурой». Она строго смотрит на Атти, откладывает салфетку, встает, и мы все переходим из малой залы в большую, ждем кофе, и Антуанетта еще раз мешает старику Бомону обнародовать его воспоминания про Арльберг и про лечение по системе Кнайпа, про солнечные ванны нагишом или еще какие-нибудь приключения начала века. «Говорю я на днях этому Караяну, но с ним ведь никогда не знаешь, слушает он тебя или нет, он же постоянно в трансе, прошу тебя, Атти, не смотри на меня такими страшными глазами, уж я-то умею держать язык за зубами. Но что вы скажете про эту истеричку Кристину?» Обращаясь ко мне: «Ну прошу тебя, ну можешь ты мне сказать, какой бес вселился в эту женщину, она смотрит на меня так, будто лягушку проглотила, я всегда приветливо с ней здороваюсь, но эта спесивая баба готова меня испепелить! Конечно, Ванчура с его лепкой вымотал у нее все нервы, как раньше у Лизель, он этим славится, все его музы доходят до ручки, оттого что он заставляет их часами позировать в ателье, плюс еще домашнее хозяйство, я все это понимаю, но надо же уметь себя держать, когда у тебя такой муж, и ты на виду у людей, он ведь безумно талантлив, Атти купил его ранние вещи, я вам их покажу, это лучшее, что есть у Ксандля!»
Пройдет еще час, и я смогу лечь в свою кровать и укрыться пышной деревенской периной, ведь вечером в Зальцкаммергуте всегда прохладно, снаружи будет что-то стрекотать, да и в комнате что-то начнет жужжать, я вылезу из постели, обойду комнату в поисках жужжащего, гудящего насекомого, но так его и не найду, а потом на абажуре моей лампы будет тихо греться мотылек, его я могла бы прихлопнуть, но он-то как раз не причиняет мне зла, так что тронуть его я не могу, чтобы довести меня до убийства, ему надо было бы издавать звуки, производить невыносимый шум. Я достаю из чемодана несколько детективных романов, мне необходимо еще немного почитать. Но, перелистав две-три страницы, я замечаю, что эту книгу уже читала. «Убийство – не искусство». На пианино лежат Антуанеттины ноты, два тома «Музыки и песен», я раскрываю их наугад то на одной, то на другой странице, пробую сыграть несколько тактов, которые учила в детстве. «Дрожи, Византия!»… «Восстань, феррарский князь»… «Девушка и смерть»… марш из «Дочери полка»… «Ария с шампанским»… «Последняя летняя роза». Я тихо напеваю, но фальшивлю, беру слишком низко: «Дрожи, Византия!» Потом еще тише, но точно: «Вино, что только взглядом пьешь…»[56]56
Слова из мелодрамы Артура Шёнберга «Лунный Пьеро».
[Закрыть]
Сразу после завтрака, за которым мы с Атти сидим вдвоем, мы уезжаем на его моторной лодке. Атти повесил себе на шею хронометр, а мне дал багор с крюком, не справившись, я хочу этот багор ему отдать и роняю его. «Ты что, не в своем уме? Ты оттолкнуться должна этим багром, мы бьемся о причал, давай, отталкивай лодку!» Вообще Атти никогда не кричит, но в лодке он не кричать не может, одно это способно заставить меня возненавидеть лодки. Теперь мы отчаливаем, подав назад, Атти поворачивает, а я думаю про все годы в моторных лодках, на озерах и на морях, я снова вижу пейзаж тех лет, так вот оно, забытое озеро, это было здесь! Атти, которому я хочу объяснить, как это, по-моему, чудесно – лететь, разрезая воду, вообще меня не слушает, ему бы только попасть на место вовремя, до старта. Мы болтаемся поблизости от Санкт-Гильгена. После первого выстрела проходит еще десять минут, потом раздается наконец второй выстрел, и теперь каждую минуту убираются знаки. «Видишь, сейчас они уберут последний!» Видеть я, правда, ничего не вижу, зато слышу стартовый выстрел. Мы идем позади стартовавших парусников, единственное, что я еще замечаю, – что одна из яхт перед нами делает поворот через фордевинд, это она перешла линию ветра, объясняет Атти, и дальше мы идем самым малым ходом, чтобы не мешать регате, Атти, качая головой, наблюдает за маневрами этих унылых парусников. Иван, наверно, очень хорошо водит яхту, мы будем плавать вместе в будущем году, может быть, на Средиземном море, – наши маленькие озера на Ивана впечатления не производят. Атти кипятится: «Господи, да у этого не все дома, он держит слишком круто к ветру», тот ложится на другой галс, а я показываю на третьего, который пошел быстрее, в то время как остальные почти заштилели. «Он себе заказал персональный шквал!» «Что заказал?» И Атти очень толково объясняет, что, но у меня перед глазами забытое мною озеро со всеми этими игрушками, я бы хотела ходить здесь на яхте с Иваном, но подальше от всех остальных, даже если придется обдирать себе руки и поминутно проползать взад-вперед под гиком. Атти направляет лодку к первому бую, который все должны обогнуть, он совершенно ошеломлен. К бую же надо подойти вплотную и повернуть, второй отстал теперь минимум на пятьдесят метров, а вон тот парусник-одиночка вроде и не замечает ветра, и тут я в довершение всего узнаю, что ветер бывает истинный и вымпельный, мне это очень нравится, я смотрю на Атти с восхищением и повторяю урок: в парусном спорте главное – это вымпельный ветер.
Атти смягчило мое участие, и теперь вон тот яхтсмен уже не так смешно сидит у себя на палубе, только ему надо еще дальше отсесть назад, ну наконец-то, теперь он двинул вперед. Давай, давай! Он так уютно устроился, говорю я, но Атти, снова раздраженный, говорит, что ничего уютного тут нет, этот парень думает только о ветре и о своей яхте, а я смотрю на небо и, пытаясь оживить свои познания в планерном спорте, вспоминаю, что такое термический ветер, как обстоит дело с восходящими тепловыми потоками, и перевожу взгляд – картина меняется, озеро уже не такое, как было, сверкающее или свинцово-серое, ведь эти темные полосы что-то значат, вот две яхты уваливаются под ветер, воздух опять почти неподвижен, и они пытаются наполнить паруса. Мы опять какое-то время идем за ними следом, до последнего буя, – становится прохладно. Атти полагает, этой регате дадут «отмену», нет же никакого смысла продолжать, продолжать действительно нет смысла, Атти-то знает, почему он не участвует в этой регате. Мы едем домой, нас подбрасывает на более высокой волне, но Атти вдруг выключает мотор, потому что навстречу нам плывет Лайбл, он тоже здесь, в Санкт-Гильгене, а я спрашиваю Атти: «Что это там за большой пароход?» Атти кричит: «Да какой это пароход, это же…»
Оба приятеля начинают махать друг другу. Привет, Альтенвиль! Привет, Лайбл! Наши суда сблизились, мужчины оживленно болтают, Лайбл еще не вывел свои яхты. Атти приглашает его завтра прийти к нам обедать. Еще одним больше, думаю я, значит, это и есть неотразимый коротышка Лайбл, который на своем катамаране побеждает во всех регатах, я почтительно киваю ему – кричать, как Атти, я не могу – и временами посматриваю в зеркало заднего вида. Ведь сегодня вечером этот Лайбл наверняка разнесет по всему Санкт-Гильгену, что он видел Атти не с Антуанеттой, а с какой-то блондинкой. Победительный господин Лайбл не может знать, что Антуанетте сегодня непременно надо к парикмахеру, что ей вообще совершенно все равно, с кем Атти гоняет по озеру, потому что он уже три месяца думает только об озере и о парусниках, – этим Антуанетта с глазу на глаз скорбно делится с каждым: только об этом чертовом озере, больше вообще ни о чем.
Поздно вечером нам приходится еще раз выходить на озеро, идти со скоростью тридцать или тридцать пять узлов из-за того, что Атти договорился о встрече с парусным мастером. Ночь холодная, Антуанетта от нас избавилась, ей надо на премьеру «Имярека»[57]57
Драма Гуго фон Гофмансталя (1874–1929), написанная в духе средневековой мистерии; представление «Имярека» неизменно входит в программу ежегодного Зальцбургского фестиваля.
[Закрыть]. А я все время слышу музыку: «В мечтах о светлых далях…», я нахожусь в Венеции, я думаю о Вене, я смотрю на поверхность воды и смотрю вглубь, в темные истории, в которые вовлекаюсь. Разве Иван и я – темная история? Нет, темная история не он, а одна я. Слышен только шум мотора, на озере прекрасно, я встаю, крепко держась за раму ветрового стекла, на другом берегу я вижу скудную цепочку огней, затерянных и заспанных, и мои волосы развеваются на ветру.
… и кроме нее не было ни живой души, она совсем растерялась… казалось, будто все пришло в движение, волны ивняка, протоки стали прокладывать себе русло… в ней поднялась неведомая тревога и тяжело легла на сердце…
Не будь попутного ветра, плакать бы мне горько на пути в Санкт-Гильген, но мотор вдруг начинает барахлить и затихает совсем, Атти бросает якорь, он мне что-то кричит, и я слушаюсь, я научилась тому, что на борту надо слушаться. Только один имеет здесь право голоса. Атти не может найти запасную канистру с бензином, а я думаю о том, что со мной будет – всю ночь на лодке, в такой холод? Нас ведь никто не видит, мы еще далеко от берега. Но тут мы наконец находим канистру, воронку тоже. Атти идет на нос, а я держу фонарь. Я уже не уверена в том, что на самом деле хочу еще пристать к какому-то берегу. Однако мотор заводится, мы выбираем якорь и молча едем домой, – Атти ведь тоже понимает, что иначе нам пришлось бы всю ночь провести на воде. Антуанетте мы ничего не говорим, передаем выдуманные приветы из Санкт-Гильгена, невесть от кого, имена я забыла. Я все больше забываю. За ужином не могу вспомнить, что должна была или хотела передать Эрне Дзанетти, которая ездила с Антуанеттой на премьеру, начинаю, на пробу, с привета от г-на Копецки из Вены. Эрна удивлена: «Копецки?» Я прошу извинения, это, видимо, ошибка, кто-то передал ей привет из Вены, возможно, Мартин Раннер. «Это может быть, это бывает», – снисходительно говорит Эрна. Я продолжаю вспоминать в течение всего ужина. Нет, это было все-таки что-то другое, видимо, более важное, не приветы, возможно, я должна была что-то попросить у Эрны, – не план Зальцбурга, не карту озер и Зальцкаммергута, не адрес парикмахера или аптекарского магазина. Боже ты мой, что же я такое должна была сказать Эрне или спросить у нее? Мне ничего от нее не надо, но я должна была что-то у нее спросить. Пока мы пьем мокко в большой зале, я все еще смотрю на Эрну с сознанием своей вины, ведь я никогда не вспомню. Я больше ничего не могу вспомнить о людях, которые меня окружают, я забываю, забываю уже имена, приветы, вопросы, сообщения, сплетни. Не нужно мне никакого Вольфгангзее, не нужно никакого отдыха, я задыхаюсь, когда наступает вечер и начинается непринужденный разговор, обстоятельства выступают не в их реальных четких очертаниях, а лишь пунктиром, я задыхаюсь от страха – от страха перед потерей, мне еще есть что терять, я могу потерять все, вот что единственно важно, я знаю, как это называется, и я неспособна рассиживаться здесь у Альтенвилей вместе с другими людьми. Завтракать в постели приятно, бегать вдоль озера – полезно, ходить в Санкт-Вольфганг за газетами и сигаретами – хорошо и бесполезно. Но сознавать, что каждого из этих дней мне когда-нибудь будет страшно недоставать, что я буду кричать в ужасе от того, что так провожу эти дни, в то время как на Мондзее идет жизнь… Этого будет уже не исправить.
Около полуночи я иду обратно в большую залу и беру у Атти в библиотеке «Азбуку яхтсмена», «От носа до кормы» и «С наветренной и подветренной стороны». Довольно жуткие названия, к Атти они не подходят тоже. Я выудила еще одну книгу – «Узлы, сплесни, снасти», вот это, кажется, как раз для меня, «книга не ставит себе целью… излагается с такой же систематической ясностью… легко доступное руководство для изготовления узлов, от простых беседочных до шкотовых и стопорных». Я читаю легко доступный учебник для новичков. Таблетку снотворного я уже приняла. Что у меня получится, если я только сейчас начинаю? Когда я смогу уехать и как? Здесь я могла бы быстро научиться водить парусник, но не хочу. Я хочу уехать, не думаю, что мне еще понадобятся какие-нибудь из этих понятий, которые я должна усвоить и помнить всю жизнь – дифферент, дифферентовать, менять осадку. У меня еще никогда не слипались глаза при чтении, не слипнутся и сейчас. Мне надо домой.
В пять часов утра я прокрадываюсь в залу к телефону. Не представляю себе, как я смогу оплатить Антуанетте эту телеграмму, раз ей вообще нельзя об этом знать. «Прием телеграмм, ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа…» Я жду, курю и жду. В телефоне что-то щелкает, молодой, живой женский голос спрашивает: «Фамилия абонента, пожалуйста, номер?» Я боязливо, шепотом называю фамилию Альтенвиль и их номер телефона, девушка сейчас позвонит, при первом звуке я хватаю трубку и шепчу, чтобы в доме никто меня не услышал: «Д-р Малина, Унгаргассе, 6, Вена III». Текст: «Прошу срочно телеграфировать срочность возвращения Вену тчк приеду завтра вечером тчк привет…»
Телеграмма от Малины приходит утром, Антуанетта очень занята и рассеянно удивляется, в Зальцбург я еду с Кристиной, которой хочется совершенно точно знать, как все было у Альтенвилей. Говорят, Антуанетта стала настоящей истеричкой, совсем сбрендила, сам Атти милый, умный человек, но эта женщина в конце концов доведет его до полного сумасшествия. «Да что ты, говорю, я ничего такого не заметила, мне бы это и в голову не пришло!» Кристина говорит: «Конечно, если тебе приятнее у таких людей, мы ведь, само собой, тебя пригласили бы, у нас бы тебе действительно было покойно, мы живем ужасно просто». Я напряженно смотрю на дорогу и не нахожу, что ответить. «Понимаешь, – объясняю я, – ведь Альтенвилей я знаю очень давно, да нет, дело не в этом, я их очень люблю, нет, они совсем не утомительны, как это – утомительны?»
Всю дорогу я нервничаю, едва не плачу, должен же когда-нибудь показаться этот Зальцбург, осталось всего пятнадцать километров, всего пять километров. Мы стоим на перроне вокзала. Кристина вдруг вспоминает, что ей надо еще с кем-то встретиться, а до этого сделать покупки. Я говорю: «Иди, ради Бога, ведь магазины сейчас закроются!» Наконец я остаюсь одна, нахожу свой вагон; эта женщина все время себе противоречит, я противоречу себе тоже. Почему я до сих пор не замечала, что больше почти не выношу людей? Когда это началось? Что со мной стало? В отупении я проезжаю Атнанг-Пуххайм и Линц, в руке у меня мотается туда-сюда книга: «Ecce Homo»[58]58
«Се Человек» (лат.) – сочинение Фридриха Ницше.
[Закрыть]. Надеюсь, Малина будет меня встречать, но никто меня не встречает, и мне приходится звонить по телефону, я не люблю звонить с вокзалов, из телефонных кабин или почтовых отделений. Особенно из кабин. Должно быть, я когда-то побывала в тюрьме, я не могу звонить из кабин-камер, но из кафе не могу теперь тоже, из квартир друзей – тоже, когда я звоню, я должна находиться у себя дома, и чтобы никого поблизости не было, разве что Малина, потому что он не слушает. Но это совсем другое. Я звоню из кабины на Западном вокзале, потея от агорафобии. Только бы это не сделалось со мною здесь, я же сойду с ума, только бы не здесь, в кабине.
Алло, это я, большое тебе спасибо
Но ведь я могу приехать на Западный вокзал только в шесть
Пожалуйста, приезжай, умоляю, уйди пораньше
Ты же знаешь, что я не могу, я могу только
Ладно, не беспокойся, я уж как-нибудь сама
Нет, послушай, что с тобой, какой у тебя голос
Да нет, ничего особенного, не беспокойся, я же тебе говорю
Не надо ничего усложнять, возьми такси
Значит, сегодня вечером мы увидимся, ты будешь
Да, вечером я буду, мы непременно увидимся
Я забыла, что у Малины очередное дежурство, и беру такси. Кому сегодня опять хочется видеть этот проклятый автомобиль, в котором был убит в Сараево эрцгерцог Франц-Фердинанд, и окровавленный мундир убитого? Надо мне заглянуть в книжки Малины: легковой автомобиль марки «Греф-и-Штифт», допуск к эксплуатации АШ-118, кузов «дубль-фаэтон», число цилиндров – 4, с внутренним диаметром 115 мм, такт двигателя – 140 мм, мощность – 28/32 л. с, мотор № 287. Задняя стенка машины повреждена осколками бомбы во время первого покушения, на правой стенке видно сквозное отверстие от пули, которой была убита эрцгерцогиня, слева у ветрового стекла прикреплен штандарт эрцгерцога, бывший при нем 28 июня 1914 года…
С каталогом Военно-исторического музея в руках я обхожу комнату за комнатой, квартира выглядит так, будто в ней месяцами никто не жил, ведь когда Малина остается один, беспорядка нет нигде. Если Лина по утрам часто бывает одна, то все, что напоминает обо мне, исчезает в шкафах и ящиках, ни на что не садится пыль, – только с моим появлением, всего за несколько часов, снова набирается пыль и грязь, и вот уже повсюду разбросаны книги, валяются бумажки. Но пока еще ничего не валяется. Перед отъездом домой я оставила Анни конверт для почты, которая, возможно, придет в Санкт-Вольфганг на мое имя, это будет цветная открытка, а значит, ничего неожиданного, и все же эта открытка мне нужна, чтобы я могла здесь, дома, положить ее в ящик, к письмам и открыткам из Парижа и из Мюнхена, поверх письма из Вены, посланного в Санкт-Вольфганг. Не хватает только Мондзее. Я сажусь к телефону, жду и курю, набираю номер Ивана, пусть у него там звонит, он еще много дней не сможет мне ответить, а я еще много дней смогу ходить по вымершей, раскаленной Вене или сидеть здесь без дела, с отсутствующим видом, мой дух отсутствует, что значит отсутствие духа, где дух витает, когда он отсутствует и его нигде нет, ни внутри, ни снаружи, дух здесь отсутствует повсеместно, я могу садиться, где хочу, могу ощупывать мебель, я могла бы радоваться тому, что сбежала и опять живу в отсутствии. Я возвратилась в мою страну, которая отсутствует тоже, – в герцогство Сердца, где я могу приютиться.







