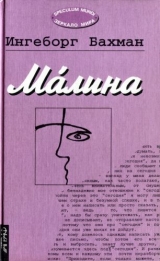
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Отец отправился со мной поплавать в царство тысячи атоллов. Мы ныряем глубоко в море, мне встречаются стаи сказочных рыб, и хочется уплыть вместе с ними, но за мной уже гонится отец, я вижу его то сбоку, то под собой, то над собой, я должна попытаться добраться до рифов, потому что в коралловом рифе спряталась моя мать, она пристально смотрит на меня с молчаливым предостережением, ибо знает, что со мной произойдет. Я ныряю глубже и кричу под водой: «Нет!» И: «Я больше не хочу! Я больше не могу!» Я знаю, кричать под водой это важно, это прогоняет даже акул, значит, крики прогонят и моего отца, который хочет на меня напасть, разорвать меня на куски, или хочет опять со мною спать, схватить меня возле рифа, так, чтобы это видела моя мать. Я кричу: «Я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу больше собственной жизни, клянусь, я тебя убью!» Я нахожу место возле матери в разветвленном, тысячеруком, все более разрастающемся подводном сооружении, боязливо, испуганно цепляюсь за эти разветвления, цепляюсь за мать, но отец хватает меня, он опять меня хватает, и, выходит, это не я, это он кричал, это был его голос, а не мой: «Клянусь, я тебя убью!» Однако «Ненавижу тебя больше собственной жизни!» кричала я.
Малины со мной нет, я поправляю подушку, нахожу стакан с минеральной водой, изнемогая от жажды, осушаю его. Почему я это сказала, почему? Больше собственной жизни. У меня хорошая жизнь, благодаря Малине она становилась все лучше и лучше. Утро хмурое, но уже рассвело. Что это я произношу за изречения и почему Малина сейчас спит? Именно сейчас. Он должен растолковать мне мои слова. Разве я ненавижу собственную жизнь? Нет. Так как же могу я ненавидеть больше собственной жизни? Не могу. Просто ночью у меня нет опоры. Я встаю осторожно, чтобы моя жизнь оставалась такой же хорошей, ставлю воду для чая, мне надо выпить на кухне чаю; дрожа от холода, несмотря на длинную ночную рубашку, я готовлю себе чай, который мне нужен, ведь когда я ничего другого делать не могу, то заварка чая – все же какое-то занятие. Когда закипает вода, я уже не среди атоллов, я нагреваю маленький чайник, отсчитываю ложки чая «Earl Grey», заливаю их кипятком, я еще способна пить чай, еще способна попасть кипящей струей в чайник. Не хотелось бы мне будить Малину, но сама я бодрствую до семи утра, а тогда бужу его и готовлю ему завтрак. Малина тоже далеко не в лучшем состоянии, возможно, он поздно пришел домой, яйцо для него сварилось вкрутую, но он ничего не говорит, я бормочу извинения, молоко прокисло, но почему, ведь ему всего третий день и стояло оно в холодильнике? Малина поднимает глаза: молоко в чае сворачивается белыми крупинками, я выливаю его чашку, придется ему сегодня пить чай без молока. Все прокисло. «Прости меня», – говорю. «В чем дело?» – спрашивает Малина. «Иди скорей, иди, собирайся, пожалуйста, не то опоздаешь, – я не могу объясняться в такую рань».
Мы в Сибири, на мне еврейский плащ со звездой, как на всех остальных. Дело происходит в середине зимы, снег валит все сильнее, а под снегом рушатся мои книжные полки, снег медленно покрывает их, пока все мы ждем отправки, и фотографии, стоящие на полках, тоже мокнут, это снимки всех тех, кого я любила, и я отираю с них снег, отряхиваю фотографии, но снег все идет, пальцы у меня закоченели, и придется мне дать снегу похоронить под собой эти фото. Только я в отчаянии оттого, что отец наблюдает за моими последними попытками, он ведь не с нами, я не хочу, чтобы он видел мои усилия и угадал, кто на этих фотографиях. Отец, которому тоже хочется надеть плащ, хотя он для этого слишком толст, забывает про фотографии, он с кем-то договаривается, снимает один плащ, чтобы поискать другой, получше, но, к счастью, плащей больше нет. Он видит, что я уезжаю вместе с остальными, и я бы хотела еще раз с ним поговорить, объяснить ему наконец, что он не с нами, что он не имеет права, я говорю: «У меня уже нет времени, у меня мало времени. Просто для этого уже не время». Кое-кто из людей вокруг винит меня в том, что я не объявляю себя солидарной, «солидарной» – какое странное слово! Мне это безразлично. Я должна поставить свою подпись, но ее ставит мой отец, он всегда «солидарен», а я даже не знаю, что это значит. Ему я бросаю: «Будь здоров! У меня уже нет времени, я не солидарна». Мне надо кого-то найти! Точно я еще не знаю, кого должна искать, это некто из Печа, я ищу его в этой массе людей, в этом страшном хаосе. Истекает последнее время, какое у меня осталось, я начинаю бояться, что его отправили раньше меня, хотя говорить об этом могу только с ним, с ним одним до седьмого колена, за каковое не поручусь, ибо после меня никого не будет. Пройдя по всем баракам, я нахожу его в самой дальней комнате, там он устало ждет меня, в в этой пустой комнате рядом с ним стоит букет чалмовидных лилий, а он лежит на полу в своем звездном чернее черного плаще, в каком я видела его несколько тысяч лет тому назад. Он поднимается, отяжелев от сна, он стал на несколько лет старше и усталость его велика. Он говорит своим прежним голосом: «Ах, наконец, наконец ты пришла!» А я падаю на колени, смеюсь и плачу и целую его: «Вот и ты, подумать только, главное, что ты здесь, ах, наконец, наконец!» Ребенок тоже тут, – я вижу только одного, хотя, сдается мне, детей должно быть двое, – ребенок этот лежит в углу. Я его сразу узнала. В другом углу лежит кроткая и терпеливая женщина, от которой у него ребенок, она ничего не имеет против того, чтобы мы с ним легли здесь перед отправкой. Вдруг раздается крик: «Встать!» Все мы встаем и выходим, малыш уже на грузовике, нам надо торопиться, чтобы взобраться на него тоже, только я должна еще найти для нас защитные зонтики, и я нахожу их все, – для него, для кроткой женщины, для ребенка и для себя тоже, но мой зонтик принадлежит не мне, кто-то однажды забыл его в Вене, и я в растерянности, ведь я все время хотела его вернуть, только теперь у нас на это уже не остается времени. Это – несработавший парашют. Слишком поздно, я должна взять этот зонт, чтобы мы могли пробраться через Венгрию, ведь я опять нашла мою первую любовь; барабанит дождь, поливая всех нас, а пуще всех – ребенка, такого веселого и спокойного. Вот опять начинается, я дышу слишком часто, возможно, из-за ребенка, но мой возлюбленный говорит: «Постарайся успокоиться, будь так же спокойна, как мы!» Скоро взойдет луна. Меня одну все еще мучит смертельный страх оттого, что это начинается опять, оттого, что я схожу с ума. Он говорит: «Постарайся успокоиться, думай о Городском парке, думай о листе, думай о венских садах, о нашем дереве – павловния цветет». Я вмиг успокаиваюсь, ведь нам с ним одинаково досталось, вижу, как он показывает на свою голову, – я знаю, что они сделали с его головой. Грузовик должен переправиться через реку, это Дунай, но потом все же другая река, я пытаюсь сохранять полное спокойствие, ведь здесь, в пойме Дуная, мы встретились в первый раз, я говорю, все в порядке, но тут мне раздирает рот беззвучный крик – ведь все совсем не в порядке. Он говорит мне: «Ты только не забудь опять это слово: Facile!»[69]69
Легко, свободно (лат.).
[Закрыть] А я неверно его понимаю и беззвучно кричу слово «Facit!»[70]70
Итог (лат.).
[Закрыть] В реке, в глубокой реке.[71]71
Намек на гибель друга Ингеборг Бахман, австрийского поэта Пауля Целана, который бросился с моста в Сену.
[Закрыть] «Могу я с вами поговорить, всего минутку? – спрашивает какой-то господин. – Я должен передать вам сообщение». Я спрашиваю: «А кому, кому должны вы передать сообщение?» Он отвечает: «Только принцессе Кагранской». Я кричу на него: «Не произносите это имя, никогда. Ничего мне не говорите!» Но он показывает мне засохший лист, и тогда я понимаю, что он говорил правду. Моя жизнь кончена, потому что он утонул в реке, при переправе, он был моей жизнью. Я любила его больше жизни.
Малина держит меня, это он говорит: «Постарайся успокоиться!» Я должна постараться. Однако я хожу с ним взад-вперед по квартире, он хочет, чтобы я легла, но я не могу больше лежать на мягкой кровати. Я ложусь на пол, но сразу встаю, потому что так я лежала на другом полу, укрывшись теплым сибирским плащом, и я расхаживаю с Малиной взад-вперед, разговаривая, рассуждая, произнося слова, вставляя слова. Отчаявшись, я кладу голову к нему на плечо, здесь, с этой стороны, у Малины должна быть сломанная ключица с платиновой пластинкой, после автомобильной аварии, он мне когда-то рассказывал, я замечаю, что мне становится холодно, я опять начинаю дрожать, выплывает луна, из нашего окна ее видно, видишь луну? Я вижу другую луну и звездный мир, но я не о другой луне хочу говорить, просто я должна разговаривать, все время разговаривать, чтобы спастись, чтобы не свалить эту напасть на Малину, голова моя, голова, я схожу с ума, но Малина не должен этого знать. Тем не менее Малина знает, и я прошу его, пока вцепившись в его руку, бегаю взад-вперед по квартире, опускаюсь на пол, опять встаю, расстегиваю рубашку, опять опускаюсь, потому что я теряю рассудок, на меня накатило, я безутешна, я схожу с ума, но Малина еще раз мне говорит: «Постарайся успокоиться, совсем расслабься». Я расслабляюсь и думаю об Иване, дышу немного ровнее, Малина массирует мне руки и ноги, область сердца, но я все-таки схожу с ума, только одно прошу, прошу тебя только об одном… Но Малина говорит: «Зачем же просить, просить не надо». Однако я говорю, и у меня опять мой нынешний голос: «Пожалуйста, пусть Иван никогда этого не узнает, пусть он не знает (при всей моей растерянности, я все-таки понимаю, что Малина ничего не знает об Иване, так зачем сейчас о нем говорить?), пусть Иван никогда, обещай мне это, и до тех пор, пока я еще могу говорить, я говорю, важно, чтобы я говорила, понимаешь, говорить – это все, на что я еще способна, и прошу тебя, говори и ты со мной, пусть Иван никогда, никогда ничего не узнает, пожалуйста, расскажи мне что-нибудь, говори со мной про ужин, где ты ужинал и с кем, говори о новой пластинке, если ты ее принес: «О, аромат далеких лет» – говори со мной, безразлично, о чем мы говорим друг с другом, да о чем угодно, лишь бы говорить, говорить, говорить, тогда мы будем уже не в Сибири, не в реке, не в пойме, в дунайской пойме, тогда мы снова окажемся здесь, на Унгаргассе, о, моя земля обетованная, моя Унгарляндия, говори со мной, зажги всюду свет, не думай о счете за электричество, пусть везде будет свет, нажми все выключатели, дай мне воды, зажги свет, зажги все лампы! Зажги также свечу в подсвечнике».
Малина зажигает свет, Малина приносит воду, приступ страха у меня проходит, а растерянность усиливается, – неужели я что-то сказала Малине, неужели назвала имя Ивана? Произнесла слово «подсвечник»? «Знаешь, – говорю я, уже не такая взволнованная, – не принимай это чересчур всерьез, Иван жив, и он жил когда-то раньше, странно, верно? Прежде всего, ничего не усложняй, сегодня только я все усложняю и потому так устала, но свет пусть горит. Иван еще жив, он мне позвонит. Если он позвонит, скажи ему…» Малина опять ходит со мной взад-вперед, потому что спокойно лежать я не могу, он не знает, что должен сказать Ивану, я слышу, как звонит телефон.
«Скажи ему, скажи ему, пожалуйста, скажи ему! Ничего ему не говори. Лучше всего: меня нет дома».
Мой отец должен омыть нам ноги, как раз в году омывали своим беднякам наши апостолические величества[72]72
Апостолическое величество – титул, данный папой Римским вначале королю Венгрии Стефану Святому, а позднее, в XVIII в., присвоенный также австрийским монархам.
[Закрыть]. Мы с Иваном уже принимаем ножную ванну, вода вскипает грязной черной пеной – давненько мы не мыли ноги. Лучше мы помоем их сами, ведь отец больше не соблюдает этот торжественный обряд. Я рада, что ноги у нас теперь чистые и запах у них свежий, я вытираю ноги Ивану, потом себе, мы сидим у меня на кровати и радостно смотрим друг на друга. Но вот кто-то идет – поздно, дверь распахивается, это мой отец. Я указываю на Ивана и говорю: «Вот он!» Не знаю, ждать ли мне за это смертной казни или меня только отправят в лагерь. Отец видит грязную воду, из которой я извлекла свои белые, приятно пахнущие ноги, и я с гордостью обращаю его внимание также на чистые ноги Ивана. Отец не должен заметить, вопреки всему, хотя он опять не исполнил своего долга, что я радуюсь, смыв с себя все после длинной дороги. Дорога от него к Ивану была слишком длинной, и ноги у меня покрылись грязью. Рядом слышится по-радио: та-тим, та-там. Отец орет: «Выключить радио!» – «Это не радио, ты прекрасно знаешь, – решительно говорю я, – у меня ведь никогда не было радиоприемника». Отец орет опять: «Ноги у тебя заросли грязью, и я только что сообщил об этом во всеуслышанье. Так что знай. Заросли, заросли грязью!» Я отвечаю с улыбкой: «Ноги у меня помыты, надеюсь, что у всех ноги такие же чистые».
«Что это еще за музыка, прекратить музыку!» Отец бушует, как никогда. «И сию же минуту ответь: какого числа Колумб открыл Америку? Сколько существует основных цветов? Сколько оттенков цвета?» – «Три основных цвета. Оствальд насчитывает около пятисот оттенков». Ответы я даю быстро и правильно, но очень тихо, не моя вина, что отец их не слышит. Он уже опять кричит, и каждый раз, когда он повышает голос, от стены отваливается кусок штукатурки или выскакивает брусок паркета. Как может он спрашивать, если не желает даже слышать ответ.
За окном – тьма, открыть его я не могу и прижимаюсь лицом к стеклу, разглядеть что-нибудь невозможно. До меня постепенно доходит, что темная лужа – это, возможно, озеро, и я слышу, как подвыпившие мужчины поют на льду хорал. Я знаю, что за мной следом вошел отец, он поклялся убить меня, и я быстро становлюсь за длинный тяжелый занавес перед окном, чтобы отец не застиг меня высматривающей что-то в темноте. Но я уже знаю то, чего мне не следует знать: на берегу озера расположено кладбище убитых дочерей.
На маленьком пароходе отец начинает снимать большой фильм. Он режиссер, и все совершается по его воле. Я опять уступила – отец хочет снять со мной несколько сцен, уверяет, что меня нельзя будет узнать, у него превосходный гример. Отец присвоил чужое имя, какое – никто не знает, но оно уже не раз сияло над кинотеатрами доброй половины мира. Я сижу в ожидании, еще не одетая и не накрашенная, с бигуди на голове, на мне только полотенце, прикрывающее плечи, но внезапно я обнаруживаю, что отец использует ситуацию и тайком уже снимает, я возмущенно вскакиваю, не нахожу чем прикрыться, и все-таки подбегаю к отцу и к оператору и говорю: «Перестань снимать, сейчас же перестань! Этот кусок пленки надо немедленно уничтожить, он не имеет отношения к фильму, это противоречит уговору, эту пленку надо выкинуть». Отец отвечает: именно это ему и нужно, это будет интереснейшее место во всей картине, – и снимает дальше. Я с ужасом слышу стрекотанье камеры и еще раз требую, чтобы он перестал снимать и отдал мне этот кусок пленки, однако он невозмутимо продолжает и говорит «нет». Я все больше волнуюсь и кричу: у него осталась всего секунда на размышленье, я уже не боюсь угроз и сумею помочь себе сама, если не поможет никто другой. Он никак не реагирует, а секунда прошла, и я оглядываю пароходные трубы и аппаратуру, расставленную по всей палубе, спотыкаюсь о кабель, ищу и ищу, как бы помешать тому, что он творит, бросаюсь обратно в костюмерную, дверь в нее снята, чтобы я не могла там запереться, отец смеется, но в этот миг я вижу у зеркала небольшую миску с мыльной водой, приготовленной для маникюра, и меня молниеносно осеняет, – я хватаю миску и выплескиваю щелок на аппаратуру, в пароходные трубы, отовсюду начинает валить пар, отец стоит оцепенелый, а я говорю, что ведь я предупреждала, больше я у него по струнке ходить не буду, я теперь другая, и отныне я незамедлительно проучу каждого, кто что-то сделает в нарушение уговора, – вот как его. Весь пароход окутывают клубы пара, отснятая пленка испорчена, работу надо спешно прекратить, все стоят напуганные и обсуждают случившееся, но говорят, что они и без того недолюбливали режиссера, и рады, что этот фильм снят не будет. Мы спускаемся с парохода по веревочным лестницам; качаясь на волнах, отплываем в маленьких спасательных шлюпках, и нас подбирает большой пароход. Пока я, обессиленная, сижу на палубе большого парохода и наблюдаю за работами по спасению маленького, к нашему судну прибивает волной множество человеческих тел, правда, эти люди живы, но сплошь в ожогах, мы должны потесниться, всех их надо поднять на борт, дело в том, что где-то вдали от нашего тонущего парохода взорвался другой, тоже принадлежащий моему отцу, и на нем было много пассажиров, все эти раненые оттуда. Меня охватывает безмерный страх: неужели моя маленькая миска с мыльной водой вызвала взрыв и второго парохода тоже, я уже предвижу, что, когда мы высадимся на берег, мне предъявят обвинение в убийстве. К нашему пароходу прибивает все больше тел, их вылавливают, среди них есть и мертвые. Однако потом я с облегчением узнаю, что другой пароход затонул по совершенно другим причинам. Я тут ни при чем, это был недосмотр моего отца.
Отец хочет увезти меня из Вены в другую страну, он по-хорошему уговаривает меня, внушает, что мне необходимо отсюда уехать, мои друзья оказывают на меня дурное влияние, но я уже смекнула: ему не нужны свидетели, он не хочет, чтобы я могла с кем-то поговорить и чтобы все вышло наружу. Конечно, это могло бы выйти наружу. Я больше не сопротивляюсь, только спрашиваю, смогу ли я писать письма домой, он говорит, надо еще посмотреть, вряд ли это будет мне полезно. Мы уехали в чужую страну, мне разрешено даже выходить на улицу, но я никого не знаю и не понимаю здешнего языка. Живем мы очень высоко, у меня там кружится голова, дом не может быть таким высоким, я никогда не жила на такой высоте и целый день лежу в постели, опасаясь головокружения, я пленница и не пленница, отец лишь изредка заглядывает ко мне, чаще всего он присылает какую-то женщину с закутанным лицом, мне видны только ее глаза, – она что-то знает. Она приносит мне еду и чай, вскоре я уже не могу встать, потому что все вокруг сразу начинает кружиться, с первого шага. Мне вспоминаются другие случаи, – раз так, я должна встать, ведь еда или чай скорее всего отравлены, я добираюсь до ванной комнаты и выплескиваю еду и чай в унитаз. Ни женщина, ни отец этого не заметили, они меня травят, это ужасно, я должна написать письмо, я пытаюсь, но у меня получаются только первые строки, начатые письма я прячу в сумочку, в ящик, под подушку, но я должна писать и одно письмо вынести из дома. Я вздрагиваю и роняю шариковую ручку – на пороге стоит отец, он давно уже догадался, он рыщет в поисках моих писем, вытаскивает одно из корзины для бумаг и кричит: «Ну-ка, говори! Что это должно означать? Говори, я сказал!» Он кричит часами, не переставая, не дает мне слова вставить, я все громче плачу, а когда я плачу, он орет еще пуще, не могу же я ему сказать, что больше ничего не ем, что выбрасываю еду, что я разгадала его замысел, я отдаю ему даже то измятое письмо, которое лежит под подушкой, и рыдаю. «Говори!» Глазами я говорю ему: я тоскую по дому, я хочу домой! Отец насмешливо произносит: «Тоска по дому! Хорошенькая тоска по дому! Письма – в них всё дело, но уж поверь, отправлены они не будут, эти бесценные письма твоим бесценным друзьям».
Я страшно исхудала, кожа да кости, едва держусь на ногах, но мне все-таки удается ночью, украдкой, достать с чердака мои чемоданы, отец крепко спит, я слышу его храп, он сопит и хрипит. Невзирая на высоту, я высунулась из окна и посмотрела вниз, – на другой стороне улицы стоит машина Малины. Не получив от меня письма, Малина, видимо, понял, в чем дело, и прислал мне свою машину. Я кладу в чемодан самые необходимые вещи, или, вернее, то, что попадается под руку, я должна это делать тихо и в величайшей спешке, я должна это сделать сегодня ночью, иначе мне это никогда уже не удастся. Шатаясь, я выхожу на улицу с чемоданами, через каждые два-три шага мне приходится ставить их и ждать, пока я отдышусь и смогу тащить их дальше, потом я сижу в машине, чемоданы я затолкала на заднее сиденье, ключ зажигания торчит в замке, я трогаюсь с места, еду зигзагами по пустынной ночной улице, я примерно знаю, где должна находиться скоростная магистраль на Вену, знаю направление, но ехать не могу и останавливаюсь – машина дальше не идет. Хоть бы доехать до какой-нибудь почты, сейчас же дать телеграмму Малине, чтобы он за мной приехал, но ничего не выходит. Я вынуждена повернуть назад, но уже светает, машина больше меня не слушается, скользит на то место, где стояла, разворачивается в обратную сторону. Мне хочется еще раз газануть и врезаться в стену, убиться, потому что Малина не приедет, уже рассвело, я лежу, упав на руль. Кто-то поднимает меня за волосы, это отец. Женщина, у которой съехал с лица платок, вытаскивает меня из машины и ведет обратно в дом. Я видела ее лицо, она быстро натягивает на него платок, а я вою, потому что я ее узнала. Эта пара меня убьет.
Отец поселил меня в высотном доме, наверху есть и сад; чтобы дать мне какое-то занятие, отец позволяет сажать там цветы и карликовые деревья, он подшучивает над тем, как много я выращиваю рождественских елок, это воспоминания о сочельниках моего детства, но пока он шутит, все хорошо, у меня есть серебряные шары и вокруг распускаются фиолетовые и желтые цветы, только это не те цветы. Я сажаю ростки в глиняные горшки, сею семена, однако цветы вырастают все время не тех, нежеланных красок, я недовольна, а отец говорит: «Ты, видимо, воображаешь, что ты принцесса, ну! За кого ты, собственно, себя принимаешь, ну! Это у тебя скоро пройдет, это мы из тебя вышибем, а вот это и это, – он указывает на мои растения, – этому тоже скоро придет конец. Что за пустое занятие вся эта зелень!» У меня в руках садовый шланг, я могла бы пустить ему в лицо мощную струю, чтобы он перестал меня оскорблять, ведь он сам предоставил мне этот сад, но я роняю шланг, закрываю лицо руками, пусть он тогда мне скажет, что же я должна делать, вода льет на землю, а я больше не хочу поливать растения, закрываю кран и вхожу в дом. К отцу пришли гости, мне приходится без устали трудиться, таскать туда-сюда множество тарелок и подносы с бокалами, потом сидеть, слушать, а я даже не знаю, о чем они говорят, отвечать я должна тоже, но когда я задумываюсь в поисках ответа, на меня смотрят строго, я запинаюсь и отвечаю невпопад. Отец улыбается, он обходителен со всеми, меня он похлопывает по плечу и говорит: «Она хочет внушить вам, будто бы здесь, у меня, ей разрешено только работать в саду, взгляните-ка на эту изнуренную работой садовницу, покажи-ка руки, дитя мое, покажи свои красивые белые лапки!» Все смеются, я тоже смеюсь через силу, громче всех смеется отец, он очень много пьет и пьет еще больше после того, как гости уходят. Я вынуждена опять показать ему руки, он поворачивает их, он выворачивает мне руки, я вскакиваю, и мне удается вырваться, потому что он пьян и плохо держится на ногах, я выбегаю из комнаты, хочу захлопнуть дверь и спрятаться в саду, но отец идет за мной, и глаза у него страшные, лицо побагровело от ярости, он гонит меня к перилам, – неужели мы опять на самом верху того дома, – отец меня тащит, мы боремся, он хочет перебросить меня через перила, мы оба начинаем скользить, и я бросаюсь на другую сторону, мне надо добраться до стены или перепрыгнуть на соседнюю крышу, или же попасть обратно в дом, я начинаю терять рассудок, не знаю, как спастись, а отец, который, возможно, тоже боится перил, больше не пытается тащить меня туда, он поднимает цветочный горшок и бросает в меня, горшок разбивается о стену за моей спиной, отец хватает еще один и плюхает мне в лицо землю, поднимается шум и грохот, глаза у меня полны земли, – таким мой отец быть не может, таким мой отец быть не должен! На мое счастье звонят в дверь, значит, кто-то встревожился, вот звонят опять, возможно, это вернулся один из гостей. «Кто-то идет, – шепчу я, – перестань!» Отец насмешливо отвечает: «Кто-то идет за тобой, точно, это за тобой, ясное дело, но ты останешься здесь, слышишь!» Поскольку звонить не перестают, поскольку это, должно быть, мои спасители, поскольку я с моим перепачканным землей лицом ничего не вижу и все пытаюсь отыскать дверь, отец принимается кидать через перила цветочные горшки, какие попадаются ему под руку, чтобы люди внизу разошлись и не стали меня спасать. Тем не менее я, видимо, убежала, потому что вдруг я оказываюсь на улице, у дверей, и передо мной в темноте стоит Малина, я говорю шепотом, он не сразу понимает, я шепчу едва слышно: «Не ходи сейчас, не сегодня», а Малина, которого я еще никогда не видела бледным и растерянным, растерянно спрашивает: «В чем дело, что-нибудь случилось?» – «Пожалуйста, уйди, мне надо его успокоить», – шепчу я. Я слышу полицейскую сирену, полицейские уже выскакивают из патрульной машины, и вне себя от страха я говорю: «Помоги мне сейчас, мы должны от них избавиться, должны». Малина разговаривает с полицейскими и объясняет им: здесь у людей вечеринка, ну они и веселятся вовсю и озорничают немножко. Меня он оттолкнул в темноту. Полиция и в самом деле уезжает, Малина возвращается и уверенно говорит: «Я понял, это все он кидает сверху, он только на волосок не угодил в меня, ты сейчас же пойдешь со мной или мы больше никогда не увидимся, этому надо положить конец». Однако я шепчу ему: «Я не могу уйти, дай мне попробовать еще только раз, я хочу его успокоить, он это сделал потому, что ты звонил, мне надо сейчас же вернуться. Пожалуйста, не звони больше!» – «Пойми же, – говорит Малина, – мы с тобой увидимся, только когда с этим будет покончено, ведь он хотел меня убить». Я тихо возражаю, нет, нет, не тебя, только меня, и начинаю плакать, ведь Малина ушел, и я уже не знаю, что мне делать, я должна убрать все следы, я подбираю с улицы черепки, руками сгребаю цветы и землю в водосточный желоб, сегодня ночью я потеряла Малину, а Малина сегодня ночью был на волосок от гибели, – мы оба, Малина и я, но это сильнее меня и моей любви к Малине, я буду и дальше все отрицать. В доме горит свет, отец заснул на полу, посреди разорения, все разрушено, разорено, я ложусь рядом с отцом в этом разорении, ибо мое место здесь, рядом с ним, а он спит, расслабленный, печальный и старый. И хотя мне противно на него смотреть, я вынуждена это делать, я должна знать, какая еще опасность написана у него на лице, я должна знать, откуда исходит зло, и я пугаюсь, но не так, как обычно, ибо зло смотрит на меня с лица, которого я не знаю, я подползаю к чужому человеку, на чьи руки налипла земля. Как я сюда попала, как оказалась в его власти – в чьей власти? В обессиленном состоянии мне приходит в голову одно подозрение, но это подозрение слишком серьезно, я его сразу же отметаю, невозможно, чтобы это был другой человек, невозможно, чтобы все это было напрасно и чтобы это был обман. Невозможно, чтобы это было так.
Малина открывает бутылку минеральной воды, но подносит мне прямо к губам еще и стакан с капелькой виски, он настаивает, чтобы я выпила. Не хочется мне пить виски ночью, но у Малины такой озабоченный вид, он нажимает пальцами на мое запястье, и я догадываюсь, что со мной неладно. Он нащупывает мой пульс, считает и хмурится.
Малина: Тебе все еще нечего мне сказать?
Я: Мне что-то представляется, я даже начинаю видеть в этом какую-то логику, но подробности непонятны. Кое-что отчасти верно, например то, что я тебя ждала, также и то, что я однажды спускалась по лестнице, чтобы тебя остановить, история с полицейскими тоже почти соответствует действительности, только не ты им сказал, чтобы они ушли, мол, это недоразумение, я сказала им это сама, это я их отослала. Или нет? Во сне страх был сильнее. Разве бы ты когда-нибудь вызвал полицию? Я бы не смогла. Я их и не вызывала, это сделали соседи, а я уничтожила следы, дала ложные показания, так ведь и надо, верно?
Малина: Зачем ты его выгородила?
Я: Я им сказала, у людей здесь вечеринка, обычная шумная вечеринка. Александр Флейссер и молодой Бардо стояли внизу, они уже собирались разойтись, и тут в Александра чуть было не угодил один предмет, не скажу тебе какой, достаточно тяжелый, чтобы убить человека. Бутылки сверху бросали тоже, но, конечно, не цветочные горшки. Это я сказала по ошибке. Ведь такие вещи происходят. Согласна, происходят нечасто, не во всех семьях, не каждый день, не везде, но они ведь могут произойти, во время вечеринки, представь себе, какое у людей настроение.
Малина: Я не о людях говорю, ты это знаешь. И не о настроениях спрашиваю.
Я: Да и страха не испытываешь, если знаешь, что такое действительно может случиться, это совсем не то, страх придет позже, в другом обличье, он придет сегодня ночью. Ах да, ты хочешь узнать кое-что другое. На следующий день я пошла к Александру, эта штука могла попасть и в молодого Бардо, которого я едва знала, но тот успел уже отойти метров на сто. Александру я сказала: я до такой степени, до известной степени, до некоторой степени подавлена, просто не нахожу слов, – я много чего ему наговорила. Дело в том, что Александр уже все обдумал, и я почувствовала: он подаст жалобу, но ведь этого нельзя допустить, пойми же! Еще я сказала: «они» думали, что улица пуста, кому могло прийти в голову, что в такой поздний час там, внизу, стоял еще и Бардо, «они», возможно, его видели, даже наверняка, но это знала только я, поэтому я стала говорить о тяжелых временах, однако по лицу Александра можно было прочесть, что он не склонен списывать подобные происшествия на тяжелые времена, тогда, в дополнение к тяжелым временам, я придумала еще тяжелую болезнь, я без конца придумывала еще и еще, но Александра не убедила. В мои намерения и не входило кого-то убеждать, в тот момент я хотела только предотвратить наихудшее.
Малина: Зачем ты это сделала?
Я: Не знаю. Просто сделала и все. Тогда мне это казалось правильным. Потом уже и сам ничего не знаешь. Даже причин – каждая становится шаткой.
Малина: А какие бы ты дала показания?
Я: Никаких. Сказала бы, самое большее, одно слово, которое я еще могла произнести, но уже тогда перестала понимать, что оно значит, – и тем свела бы на нет все вопросы. (Пальцами я делаю Малине знак, на языке глухонемых.) Разве бы мне не удалось таким образом выпутаться? Или сказала бы родственная связь. Хорошо тебе смеяться, с тобой же ничего не произошло, ты не стоял у дверей.
Малина: Разве я смеюсь? Это ты смеешься. Тебе надо пойти спать, бесполезно с тобой разговаривать, пока ты утаиваешь правду.
Я: Полиции я дала денег, не все они, конечно, продажные, но те парни купились, это правда. Они были рады, что могут вернуться к себе в участок или отправиться на боковую.







