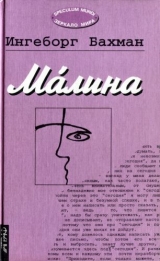
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Я: Я ни слова не сказала про Метеостанцию, и не воображай, будто я начинаю плакать. У меня насморк. Я должна спать, сколько мне хочется. Разумеется, мы останемся на Унгаргассе. Ни о чем другом и речи быть не может.
– Чего бы мне сегодня хотелось? Дай подумать! Выходить я не хочу, читать или слушать музыку тоже не хочется. Думаю, я удовольствуюсь твоим обществом. Но я буду тебя развлекать, мне пришло в голову, что мы еще никогда не говорили о мужчинах, что о мужчинах ты никогда не спрашиваешь. Однако ты не очень-то умело спрятал свою старую книжку. Я сегодня ее почитала, она не так уж хороша, например, ты описываешь какого-то мужчину, видимо, себя самого, перед тем как он засыпает, но ведь моделью для этого описания в лучшем случае могла послужить я. Мужчины сразу погружаются в сон. Но пойдем дальше: почему ты не находишь мужчин такими замечательно интересными, какими нахожу их я?
– Возможно, я представляю себе всех мужчин такими же, как я сам, – говорит Малина.
– Это самое превратное представление, какое ты можешь себе составить, – возражаю я. – Скорее женщина могла бы представить себе, что она такая же, как остальные, и с большим основанием. А это опять-таки связано с мужчинами.
Малина с наигранным возмущением поднимает руки:
– Прошу тебя, никаких историй или только избранные места из них, если они достаточно забавны. Говори то, что не окажется нескромностью.
Малине надо бы знать меня лучше!
Я продолжаю:
– Дело в том, что мужчины отличаются один от другого, и, в сущности, в каждом из них следовало бы видеть неизлечимый клинический случай; того, что написано в учебниках и специальных трудах, совершенно недостаточно, чтобы объяснить и понять самые элементарные свойства хотя бы одного-единственного мужчины. В тысячу раз легче постичь в мужчине его мозговые возможности, во всяком случае, легче для меня. Однако вовсе не это, вопреки расхожему мнению, является общим для всех мужчин. Какое заблуждение! Материал, поддающийся обобщению, не собрать и за века. И вот одна-единственная женщина вынуждена справляться со столькими странностями, а ее ведь никто не предупреждал, к каким болезненным явлениям придется ей приноравливаться, можно сказать, что отношение мужчины к женщине вообще болезненное, вдобавок, необычайно болезненное, так что мужчин никогда уже не удастся избавить от их болезней. О женщинах, в крайнем случае, можно сказать, что они более или менее отмечены той заразой, которую подхватили из сострадания к страданиям.
– Ты сегодня в очень шаловливом настроении. Меня это в самом деле начинает забавлять.
Счастливая, я говорю:
– Человек неизбежно заболевает, когда и сам испытывает так мало нового и вынужден без конца повторяться. Например, какой-то мужчина кусает меня за мочку уха, но не потому, что это моя мочка, или потому, что мочки уха – его пунктик и он непременно должен их кусать, нет, он кусает потому, что всех других женщин тоже кусал за мочки уха – маленькие или побольше, красноватые или синеватые, бесчувственные или чувствительные, ему совершенно безразлично, что думают об этом сами мочки. Ты должен признать, здесь налицо навязчивое состояние, чреватое последствиями, – некто, оснащенный кое-какими, большими или меньшими знаниями и, в любом случае, малой возможностью эти знания применить, должен набрасываться на женщину, быть может, годами – один раз это еще куда ни шло, один раз это выдержит каждая. Это объясняет также затаенное, смутное подозрение мужчин, ибо они не могут, в сущности, себе представить, что женщина, конечно, будет совершенно иначе вести себя с другим больным мужчиной, ведь различия мнятся ему лишь самыми поверхностными и внешними, именно такими, о каких говорят все и каждый или какие наука выставляет в искажающем, ложном свете.
Малина и впрямь в этом не разбирается.
– А я-то думал, – замечает он, – что встречаются необычайно одаренные мужчины, во всяком случае, иногда о ком-нибудь из них не перестают рассказывать или рассуждают на эту тему вообще, скажем, имея в виду греков. (Малина лукаво смотрит на меня, потом смеется, я тоже смеюсь.)
Я пытаюсь сохранить серьезность.
– В Греции мне случайно повезло, но тоже всего только раз. Иногда может повезти, но большинству женщин решительно никогда не везет. Я вовсе не хочу сказать, что бывают якобы хорошие любовники, хороших-то как раз и не бывает. Это легенда, которую надо наконец развеять, в лучшем случае существуют мужчины, с которыми дело совсем безнадежно, и такие, с которыми оно не вполне безнадежно. Вот в чем надо искать причину, – ее никто еще не искал, – отчего только у женщин голова всегда полна их чувствами и переживаниями, их мужьями или их мужчинами. Мысли об этом и в самом деле отнимают у каждой женщины большую часть времени. Но она вынуждена об этом думать, ибо иначе, без неослабного подстегивания и подхлестывания своих чувств, она буквально ни минуты не могла бы выдержать возле себя мужчину, по существу, больного и ею совсем не занимающегося. Ему-то легко почти не думать о женщинах, ибо его больная система действует безотказно, он повторялся, повторяется и будет повторяться. Если ему по вкусу целовать женщине ноги, то он будет целовать ноги еще полсотне женщин, зачем же ему занимать свои мысли, беспокоиться о создании, которое в настоящее время охотно позволяет целовать себе ноги, – так он, во всяком случае, полагает. Женщина же должна как-то справиться с тем, что на очереди теперь именно ее ноги, она должна выдумать для себя невероятные чувства и целый день заслонять свои истинные чувства этими выдуманными, во-первых, для того, чтобы выдержать это дело с ногами, а потом, что еще важнее, чтобы выдержать отсутствие всего остального, ибо тот, кто так прилепился к ногам, пренебрегает очень многим другим. Кроме того, бывают еще и резкие переключения, – переходя от одного мужчины к другому, тело женщины должно отвыкнуть от всего прежнего и привыкнуть к чему-то совершенно новому. А мужчина преспокойно шествует со своими привычками дальше, иногда ему с ними везет, большей частью – нет.
Малина мной недоволен.
– Для меня это большая новость, я был уверен, ты любишь мужчин, ведь мужчины тебе всегда нравились, их общество было тебе просто необходимо, не говоря уже о…
Разумеется, мужчины интересовали меня всегда, но именно поэтому совсем не обязательно любить их всех, большинство их я вообще не любила, просто они всегда меня интриговали, ведь думаешь: а что последует за этим укусом в плечо, что он от этого ждет? Или некто поворачивается к тебе спиной, на которой однажды, задолго до тебя, какая-то женщина своими ногтями, своими пятью когтями провела пять полос, запечатлев их навсегда, и вначале ты в полном смятении, ты, по меньшей мере, недоумеваешь, что тебе делать с этой спиной, которая все время что-то тебе предъявляет – воспоминание о некоем экстазе или приступе боли; какую боль предстоит еще почувствовать тебе, в какой прийти экстаз? Долгое время я вообще не испытывала никаких чувств, ибо в те годы взялась за ум. Только голова у меня, конечно, как и у всех остальных женщин, все равно была неизменно занята мужчинами, по уже упомянутым причинам, но я уверена, что головы мужчин, напротив того, отнюдь не были заняты мною, разве что в конце рабочей недели, возможно, в выходной день.
Малина: Никаких исключений?
Я: Как же. Одно исключение.
Малина: Откуда же берется исключение?
Это же совсем просто. Тебе только надо случайно сделать кого-то достаточно несчастным, например, не помочь кому-то исправить допущенную глупость. Если ты уверена, что и впрямь причинила другому несчастье, значит, он тоже думает о тебе. Но вообще большая часть мужчин делает несчастными женщин, а взаимности тут нет, ибо мы имеем дело с естественным, неотвратимым несчастьем, возникающим из-за болезни мужчин, она-то и заставляет женщин так напряженно думать и, едва научившись чему-то, вновь переучиваться, ведь когда приходится неотступно о ком-то думать и выращивать в себе чувства к нему, то становишься поистине несчастной.
К тому же со временем это несчастье делается вдвое, втрое, во сто крат тяжелее. Кто хотел бы его избежать, должен был бы всякий раз ставить точку уже через несколько дней. Невозможно быть несчастной, плакать кому-то вслед, если этот кто-то не успел еще сделать тебя глубоко несчастной. Никто не плачет вслед самому молодому или самому красивому, самому лучшему или самому умному мужчине всего через несколько часов. Но полгода, проведенные с неисправимым трепачом, с отъявленным дураком, с противным слабаком, одержимым странными привычками, – даже самых сильных и разумных женщин это заставляло дрогнуть, доводило до самоубийства, вспомни, пожалуйста, хотя бы Эрну Дзанетти, которая из-за этого доцента театроведения – подумать только, из-за театроведа! – проглотила, говорят, сорок таблеток снотворного, а она ведь не единственная, и он еще отучил ее курить, так как не переносит дыма. Не знаю, заставил ли он Эрну стать вегетарианкой, но еще какие-нибудь пакости там наверняка были. И вместо того чтобы обрадоваться, когда этот болван, к счастью, ее оставил, и на другой день опять выкурить в свое удовольствие двадцать сигарет и опять позволить себе есть что ей хочется, она пытается в панике покончить с собой, ничего лучшего ей в голову не приходит, а все потому, что в течение нескольких месяцев она постоянно о нем думала и из-за него страдала, также, конечно, да еще от того, что была лишена никотина, да еще от всех этих салатов и морковок.
Малина не может удержаться от смеха, но притворно ужасается:
– Но ты же не хочешь сказать, что женщины более несчастны, чем мужчины!
– Нет, конечно, нет, я говорю только, что несчастье женщин особенно неотвратимо и целиком и полностью бессмысленно. Я хотела говорить только о характере несчастья. Ведь сравнивать невозможно, а говорить о всеобщем несчастье, что так тяжело поражает всех людей, мы сегодня не собирались. Я хочу только тебя развлечь и сказать тебе много чего смешного. Я, например, была очень недовольна тем, что меня ни разу не изнасиловали. Когда я приехала в Вену, у русских уже пропала охота насиловать венок, да и пьяных американцев становилось все меньше, правда, их и без того никто как насильников особенно не ценил, отчего об их подвигах разговоров ходило намного меньше, чем о деяниях русских, ибо тихий, благоговейный ужас – он, конечно, имеет свои основания. Мол, от пятнадцатилетних девчонок до древних старух. Иногда в газетах еще можно было прочесть о двух неграх в военной форме, но прости, пожалуйста, два негра на всю землю Зальцбург – да это же ничтожно мало на такое количество женщин в стране, а мужчины, с которыми я знакомилась или не знакомилась и которые просто встречали меня в лесу или видели сидящей на камушке у ручья, беззащитную, одинокую, – они об этом и не подумали. Это покажется невероятным, но, за исключением нескольких пьяных, нескольких сексуальных маньяков и некоторых мужчин, которые тоже попадают на страницы газет в связи с сексуальными преступлениями, ни одному нормальному мужчине с нормальными влечениями не пришла в голову простая мысль, что нормальная женщина совершенно нормально хочет быть изнасилованной. Причина, разумеется, в том, что мужчины ненормальные; но к их извращениям, к феноменальному отсутствию у них чутья мы уже настолько привыкли, что больше не можем представить себе картину болезни в полном объеме.
Однако в Вене могло быть по-другому, должно было быть не так скверно, ибо это город, созданный для универсальной проституции. Тебе-то уже трудно вспомнить первые послевоенные годы. Вена была, мягко говоря, городом с весьма странными порядками. Но это время из ее анналов вытравлено, и нет больше людей, которые бы об этом говорили. Не то чтобы это было прямо запрещено, но об этом не принято говорить. В праздничные дни, даже в дни Святой Марии, Успения Богородицы или в день Республики, граждан принуждали идти в ту часть Городского парка, что граничит с Рингштрассе, с Паркрингом, идти в этот жуткий парк и прилюдно вытворять там все, что они хотели или могли вытворять, в особенности в такое время, когда цвели каштановые деревья, но и позднее тоже, когда каштаны созревали, лопались и падали на землю. Вряд ли найдется кто-то, кто бы не встречал там каждого с каждой. Хотя все совершалось молча, чуть ли не с полным безразличием, не обходилось и без кошмарных сцен, все люди в городе участвовали в этой универсальной проституции, должно быть, каждая с каждым разок лежали на примятой траве или, прислонясь к стене, стонали, пыхтели, – одновременно, попеременно, вразнобой. Все друг с другом переспали, все друг друга использовали, и пусть сегодня никого не удивляет, что сплетни почти уже прекратились, ведь те же самые женщины и мужчины ныне вежливо здороваются, как ни в чем не бывало, мужчины снимают шляпу, целуют ручку, женщины, шепнув приветствие, легким шагом проходят мимо Городского парка, держат в руках элегантные сумочки и зонтики, выглядят польщенными. Но именно в то время и завертелся хоровод, сегодня уже отнюдь не анонимный. Надо полагать, что этим поветрием и порождены господствующие ныне отношения – почему, например, Франциску Раннер видели сначала с Эденом Патацки, потом с Лео Иорданом, почему Лео Иордан, женатый прежде на Эльвире, которая позднее помогала молодому Мареку, женился еще два раза, почему позднее молодой Марек погубил Фанни Гольдман, а она, в свою очередь, раньше так хорошо ладила с Гарри, а потом ушла к Милану, однако позднее молодой Марек с Карин Краузе, этой молоденькой немкой, но потом упомянутый Марек еще с Элизабет Михайлович, которая затем напоролась на Бертольда Рапаца, а он опять-таки… Теперь я все это знаю, знаю также, почему Мартин завел такую эксцентричную интрижку с Эльфи Немец, которая позднее тоже оказалась с Лео Иорданом, и почему каждый столь причудливым образом связан с каждой, хотя это становится известным лишь в немногих случаях. Причин тому, разумеется, никто не знает, но я их уже вижу, да и вообще, люди когда-нибудь все увидят! Но я не могу рассказывать подробно, у меня на это нет времени. Как подумаю, какую роль во всем этом сыграл дом Альтенвилей, хотя сами Альтенвили никогда этого не сознавали, вообще ни в одном доме не сознавали, даже у Барбары Гебауэр, какие там имели место завязки и к каким вели развязкам, какой безрассудной болтовней они все это друг над другом учинили и с какой целью. Общество – величайшая арена убийств. С незапамятных времен в него легкомысленнейшим образом закладывались ростки самых невероятных преступлений, которые навсегда останутся неизвестными судам этого мира. У меня не было об этом сведений, потому что я никогда особенно не присматривалась и не прислушивалась и все меньше прислушиваюсь теперь, но чем меньше прислушиваюсь, тем более пугающими выступают передо мной все эти взаимосвязи. Я жила, не зная меры, и потому воспринимала все эти мирные игры, – а они именно за таковые себя и выдают, как будто бы это вовсе не военные игры, – во всей их чудовищности. Рядом с ними общеизвестные преступления, прогремевшие по всему миру и по всему городу, видятся мне совсем простыми, грубыми, лишенными тайны, они представляют интерес только для специалистов по массовой психологии, для психиатров, которым их тоже не предотвратить, а слишком кропотливым и сведущим ученым задают лишь пошлые загадки по причине своей грандиозной примитивности. Наоборот, то, что разыгрывалось и еще разыгрывается здесь, примитивным никогда не было. Помнишь тот вечер, когда Фанни Гольдман неожиданно рано ушла домой, – вдруг встала из-за стола и ушла, одна, хотя ничего не случилось, но теперь-то я знаю, да, знаю. Бывают слова, бывают взгляды, способные убить, никто их не замечает, все видят только фасад, раскрашенную картинку. А Клара и Хадерер перед тем, как он умер, но я умолкаю…
В течение какого-то времени – это было в Риме – я видела только матросов, по воскресеньям они там просто стоят на площади, кажется, на Пьяцца дель Пополо, где вечерами люди из деревни пытаются с завязанными глазами пройти от фонтана с обелиском по прямой на Корсо. Это неразрешимая задача. В парке Вилла Боргезе тоже стоят матросы, но еще больше там солдат. Они глядят вперед, у них такой серьезный, жадный взгляд, устремленный в воскресенье, которое пройдет в один миг. Увлекательное зрелище эти молодые люди. Но некоторое время я прямо-таки ужасно смущалась перед автомехаником из Эдберга, он должен был выправить погнутое грязезащитное крыло моей машины и заново покрасить кузов. Для меня он был непроницаем, полон глубочайшей серьезности, представь себе его взгляды и его, наверно, затрудненные, запинающиеся мысли! Я еще несколько раз приходила в ту мастерскую и наблюдала за ним во время всевозможных работ. Никогда не видела я у человека такой муки и такого сурового неведения. Нечто непостижимое. У меня возникали грустные, мерцающие надежды, грустные, гнетущие желания, больше ничего, те парни этого никогда бы не поняли, но мы ведь и не хотим быть понятыми. Кто этого хочет!
Я была все время ужасно робка, нерешительна, мне надо было подсунуть ему мой номер телефона, мой адрес, но в его присутствии я была слишком поглощена поразившей меня загадкой и не могла этого сделать. Легко, вероятно, угадать пусть и не буквально каждую, но каждую вторую мысль какого-нибудь Эйнштейна, Фарадея, какого-нибудь светоча, скажем, Фрейда или Либиха, ведь все это люди без настоящих тайн. Однако красота и ее безмолвие много выше. Этот механик, которого я никогда не забуду, к которому я ходила как на богомолье, чтобы под конец просто потребовать счет, и больше ничего, был для меня важнее. Для меня он был важнее. Ибо мне недостает красоты, она более важна для меня, я хочу обольстить красоту. Иногда я иду по улице и едва замечу кого-то, кто лучше меня, как мне хочется пойти, побежать за ним следом, – разве это естественно, нормально? Кто я – женщина или нечто диморфное? Если я не вполне женщина, то кто же я тогда? В газетах часто печатают жуткие сообщения. В Пётцлейнсдорфе, на лужайках Пратера, в Венском лесу, на каждой окраине убита, задушена какая-то женщина, – со мной это тоже чуть было не случилось, но не на окраине, – удавлена каким-то жестоким типом, и я каждый раз думаю: ею могла быть ты, ею будешь ты. Неизвестная, убитая неизвестным преступником.
Под благовидным предлогом я пошла к Ивану. Мне так нравится крутить его транзистор. Я уже много дней опять живу без новостей. Иван советует мне, чтобы я наконец купила себе радиоприемник, раз уж я так люблю слушать известия или музыку. Он считает, что тогда мне будет легче вставать по утрам, как, например, ему, а ночью у меня будет средство против тишины. Я пробую медленно крутить ручку настройки, осторожно ищу в эфире, что может выступить против тишины.
В комнате слышится взволнованный мужской голос: «Дорогие радиослушательницы и радиослушатели, сейчас у нас на проводе Лондон, наш постоянный корреспондент доктор Альфонс Верт, господин Верт сейчас передаст нам сообщение из Лондона, еще минуту терпения, включаем Лондон, дорогой господин доктор Верт, мы уже вполне хорошо вас слышим, я бы просил вас, для наших слушателей в Австрии, о настроениях в Лондоне после падения фунта, даю слово господину Верту…»
– Выключи, пожалуйста, этот ящик! – говорит Иван, которого сейчас не интересуют взгляды из Лондона или из Афин.
– Иван!
– Так что же ты хочешь сказать?
– Почему ты совсем не даешь мне говорить?
У Ивана в прошлом, должно быть, есть какая-то история, он попал в циклон, и думает, что у меня тоже имеется история, обыкновенная история, в которой присутствует по меньшей мере один мужчина и подобающее разочарование, но я говорю:
– Я? Ничего, я ничего не собираюсь говорить, я хотела просто сказать тебе «Иван», вот и все. Но могла бы тебя спросить, какого ты мнения о препаратах «Флайт»?
– У тебя что, есть мухи?
– Нет. Я пытаюсь вдуматься в жизнь мухи или подопытного кролика, которого терзают в лаборатории, в жизнь крысы, которую усыпляют уколом, но напоследок она, пылая ненавистью, еще изготовляется к прыжку.
– С такими мыслями тебе век не радоваться.
– А я и не радуюсь, у меня бывают минуты, когда я никакой радости не испытываю. Знаю, мне надо почаще радоваться.
(Не могу же я сказать моей радости и моей жизни, которая зовется «Иван»: «Ты один – и радость и жизнь!» Ведь тогда я еще скорее могу его потерять, я уже и так его теряю, я замечаю это по тому, что в последние дни меня постепенно покидает радость. Не знаю, с каких пор Иван укорачивает мне жизнь, – я должна когда-нибудь начать с ним говорить.)
– Ведь кто-то меня убил, кто-то все время хотел меня убить, тогда я тоже начала кого-то мысленно убивать, то есть нет, не мысленно, все вышло по-другому, мысленно ничего серьезного не сделаешь, все вышло тогда по-другому, я даже преодолела это в себе, больше я мысленно ничего не делаю.
Иван поднимает на меня глаза, он начал чинить телефонный шнур-удлинитель и, отвинчивая отверткой какой-то винт, недоверчиво спрашивает:
– Ты? Да неужели? Именно ты, моя кроткая дурочка? Но кого же и с чего бы?
Иван смеется и опять наклоняется к штекеру, осторожно наматывая проводок на какой-то винт.
– Тебя это удивляет?
– Да нет, почему же? Если мысленно, то у меня на совести уже десятки людей, которые меня разозлили, – говорит Иван.
Со шнуром он успешно справился, и теперь ему, пожалуй, совершенно все равно, что я хотела сказать о себе. Я быстро одеваюсь, бормочу, мне, мол, сегодня надо пораньше быть дома. Где Малина? Боже мой, скорей бы мне очутиться рядом с Малиной, ведь это опять невыносимо, не надо мне было болтать, и я говорю Ивану:
– Извини, пожалуйста, мне как-то нехорошо, нет, я кое-что забыла, ты не против, не обидишься на меня? Мне надо бежать домой, кажется, я оставила кофе на конфорке, а конфорка наверняка не выключена!
Нет, Иван никогда не бывает против.
Дома я ложусь на пол, жду и дышу, стараюсь раздышаться, но дышать все труднее, это серьезней, чем несколько экстрасистол, а я не хочу умереть до прихода Малины, я смотрю на будильник, не проходит и минуты, а у меня здесь уходит жизнь. Не помню, как я добралась до ванной, подставила руки под холодную воду, она течет вверх, до локтей, я растираю руки, растираю ноги и бедра ледяной салфеткой, по направлению к сердцу, время остановилось, но Малина должен сейчас прийти, вот он пришел, и я сразу опускаюсь на пол, наконец-то, Боже мой, почему ты так поздно приходишь домой!
Однажды я плыла на пароходе, мы сидели в баре, – группа пассажиров, ехавших в Америку, с некоторыми я была уже знакома. Но потом один из них начал горящей сигаретой прожигать себе кожу на тыльной стороне ладони. Смеялся при этом только он сам, а мы не знали, можно нам тоже смеяться или нет. В большинстве случаев не знаешь, почему люди что-то над собой делают, они же тебе этого не говорят или говорят что-нибудь совсем другое, чтобы настоящей причины никто не узнал. В одной берлинской квартире я однажды встретилась с человеком, который пил водку, рюмку за рюмкой, но совершенно не пьянел, он разговаривал со мной еще несколько часов спустя, до ужаса трезвый, а когда нас никто не слышал, спросил, сможет ли он увидеть меня снова, он во что бы то ни стало хочет снова меня увидеть, а я так выразительно промолчала, что это было принято как знак согласия. Потом говорили о международном положении, и кто-то поставил пластинку с музыкой из фильма «L'Ascenseur pour l'échafaud»[82]82
«Лифт на эшафот» (фр.).
[Закрыть]. Когда тихо зазвучали первые такты песни и зашел разговор о горячей линии Вашингтон-Москва, этот человек самым непринужденным тоном, каким перед тем спрашивал, не лучше ли мне носить бархатные платья, ему было бы приятнее всего видеть меня в бархате, спросил: «Вы уже когда-нибудь кого-нибудь убили?» Я ответила самым непринужденным тоном: «Нет, разумеется, нет, а вы?» Человек сказал: «Да, я убийца». Минуту-другую я молчала, он кротко взглянул на меня и заговорил опять: «Можете мне поверить!» Да я ему и поверила, потому что это наверняка была правда, это оказался третий убийца, с которым мне довелось сидеть за одним столом, просто он был первый и единственный, кто сказал это вслух. Обе другие встречи произошли в Вене, на вечерах, а узнавала я это после, когда шла домой. Время от времени я хотела кое-что написать об этих трех вечерах, разделенных между собой годами, но только на одном-единственном листе вывела на пробу: «Трое убийц». Однако я с этим не справилась, потому что об этих троих думала сообщить лишь немногое, дабы указать на четвертого, ведь из рассказа про моих трех убийц никакого рассказа не получится, ни одного из них я больше не видела, они и по сей день еще где-то живут, по вечерам с кем-то ужинают и что-то над собой делают. Один больше не содержится в Штайнхофе, один в Америке и сменил фамилию, один пьет, чтобы делаться все трезвее, и в Берлине больше не живет. О четвертом я говорить не могу, я его не помню, я стала забывать, не помню…
(Однако я налетела на колючую проволоку под током.) Все же одну подробность я вспоминаю. Когда-то я изо дня в день выбрасывала всю поданную мне еду, даже чай потихоньку выливала и, должно быть, знала, почему.
А Марсель умер так.
В один прекрасный день лик города Парижа решено было полностью очистить от клошаров. Служба социального обеспечения, служба сугубо официальная, которая обеспечивает также пристойный вид города, явилась вместе с полицией на улицу Монж, – они хотели всего только вернуть этих старых людей в жизнь, а потому первым делом их вымыть и очистить для этой самой жизни. Марсель встал и пошел с ними, человек он был вполне мирный и даже после нескольких стаканов вина все еще мудрый и нестроптивый. В тот день ему, вероятно, было совершенно безразлично, зачем они приехали, и, возможно, он даже думал, что сможет вернуться на свое удобное место на улице возле вентиляционной шахты метро, откуда идет теплый воздух. Но в общественной бане со множеством душевых Марселя, когда пришла его очередь, тоже поставили под душ, наверняка не слишком горячий, просто Марсель впервые за много лет разделся догола и стал под струю воды. Прежде чем кто-то успел сообразить и броситься к нему на помощь, он упал и сразу умер. Ты понимаешь, что я хочу сказать! Малина смотрит на меня несколько неуверенно, хотя обычно он неуверенным не бывает. Мне надо бы воздержаться и не рассказывать ему эту историю. Но я опять ощущаю не себе этот душ, я знаю, чего нельзя было смывать с Марселя. Когда человек живет в испарениях своего счастья, когда у него остается уже совсем немного слов, только «Да вознаградит вас Бог», «Да воздаст вам Господь», то не надо пытаться его отмыть, пытаться смыть с него то, что для него благо, стараться очистить его для новой жизни, которой нет.
Я: На месте Марселя я бы тоже от первой же струи упала мертвой.
Малина: Так что счастье постоянно было…
Я: Почему ты всегда предвосхищаешь мои мысли? Я ведь сейчас действительно думаю о Марселе, нет, я уже почти никогда о нем не думаю, это только эпизод, я думаю о себе и кое о чем еще. Марсель просто пришел мне на помощь.
Малина: «…прекрасное Завтра Духа, что не придет никогда».
Я: Нечего все время тыкать меня носом в мою школьную тетрадь. Там еще много чего было понаписано, но я сожгла ее в домовой прачечной. Я до сих пор, наверно, покрыта тонким слоем счастья, только бы на меня не хлынула вода и не смыла кое-какой запах, без которого я не могу существовать.
Малина: Давно ли ты так хорошо ладишь с миром, давно ли ты счастлива?
Я: Ты слишком пристально наблюдаешь, и потому не замечаешь ничего.
Малина: Как раз наоборот. Я именно все заметил, но никогда за тобой не наблюдал.
Я: Однако временами я даже позволяла тебе жить, как ты хотел, ни в чем не мешала, это нечто большее, это более достойно, более великодушно.
Малина: Я и это заметил, и когда-нибудь ты узнаешь, хорошо ли было меня забывать и не лучше ли опять обратить на меня внимание. Только у тебя, вероятно, не будет выбора, у тебя и теперь его уже нет.
Я: Чтобы я тебя забыла, – да как бы я могла тебя забыть! Я только пыталась, делала вид, дабы доказать тебе, что обойдусь и без тебя.
Малина находит мое лицемерие недостойным ответа, и он не станет подсчитывать, на сколько дней и ночей я его забыла, но он тоже лицемер, ибо понимает, насколько хуже любого упрека была для меня и порой еще будет его тактичность. Но мы уж как-нибудь придем к согласию, ведь мне необходима моя двойная жизнь, жизнь с Иваном и жизнь в поле Малины, я не могу быть там, где нет Ивана, но точно так же не могу прийти домой, когда там нет Малины.
Иван говорит:
– Да перестань ты об этом!
Я повторяю еще раз:
– Иван, я хотела бы тебе кое-что сказать, не обязательно сегодня, но когда-нибудь я должна тебе сказать.
– У тебя больше нет сигарет?
– Да, это я и хотела тебе сказать, у меня опять кончились мои сигареты.
Иван готов немного поездить со мной по городу и поискать сигареты, а так как их нигде нет, мы останавливаемся у отеля «Империал», и у портье Иван добывает наконец мои любимые сигареты. Я опять в ладу с миром. Даже если любишь мир только по требованию, его все-таки можно любить, и между мной и миром есть человек, который служит трансформатором, однако Иван не должен этого знать, не то он опять начнет бояться, что я его люблю, а раз он дает мне огня и я могу опять курить и ждать, мне незачем говорить: «Ты только не беспокойся, ты нужен мне лишь для того, чтобы дать огня, спасибо за огонь, спасибо за каждую зажженную сигарету, спасибо за поездку по городу, спасибо, что привез меня домой!»
Малина: Ты пойдешь на похороны Хадерера?
Я: Нет, зачем мне ходить на Центральное кладбище и простужаться? Я же могу завтра прочитать в газетах, как это было, что они там говорили, и кроме того, у меня отвращение к похоронам, ведь ныне никто не знает, как надо вести себя в случае смерти человека и как – на кладбище. Не хочу также, чтобы мне то и дело сообщали, что умер Хадерер или кто-нибудь еще. Мне ведь не сообщают то и дело, что кто-то жив. Так или иначе, мне совершенно все равно, любила я раньше кого-то или не любила, а то, что теперь я встречаю, могу встретить только определенных лиц, ибо некоторых уже нет в живых, меня не удивляет, однако по другим причинам. Может быть, ты мне объяснишь, почему я должна быть информирована о том, что господин Хадерер или другая знаменитость, какой-то дирижер или политик, банкир или философ, вчера или сегодня внезапно скончались. Меня это не интересует. Для меня никогда никто не умирает и редко кто живет, разве что на сцене моих мыслей.







