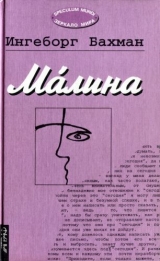
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Фрейлейн Еллинек оставила мне на подпись письмо.
«Глубокоуважаемый господин Шёнталь!
Благодарю вас за прошлогоднее письмо, в смущении вижу, что оно датировано 19 сентября. К сожалению, из-за множества неотложных дел я не имела возможности ответить вам раньше, и даже в этом году еще не могу взять на себя какие-либо обязательства.
С благодарностью и наилучшими пожеланиями».
Я заправляю в машинку другой лист бумаги, а первый бросаю в корзину.
«Глубокоуважаемый господин Шёнталь! Я пишу вам сегодня это письмо в величайшем страхе и безумной спешке. Поскольку вы для меня чужой, мне легче написать вам, чем моим друзьям, а поскольку вы – человек, что явствует из ваших столь дружественных усилий…
Вена… Неизвестная»
Всякий сказал бы, что Иван и я несчастливы. Или что у нас еще долго не будет оснований считать себя счастливыми. Но всякий неправ. Всякий – это никто. Я забыла спросить Ивана по телефону насчет налоговой декларации, – Иван великодушно обещал мне, что на будущий год он составит для меня эту декларацию. Меня не интересует налоговая служба и то, чего она там от меня хочет в наступающем году, меня интересует только Иван, когда он говорит про будущий год, а Иван сегодня заявил: он забыл сказать мне по телефону, что по горло сыт бутербродами и хотел бы наконец узнать, что я умею готовить. И вот сейчас я опять жду от одного-единственного вечера больше, чем от будущего года. Ведь если Иван хочет, чтобы я готовила, то это что-нибудь да значит, ведь тогда он уже не может удрать от меня, как после глотка спиртного, и сегодня ночью я роюсь у себя в книгах, но поваренных книг в моей библиотеке нет, надо немедленно одну-две купить, – вот нелепость, ведь что бы я ни прочитала до сих пор, какой мне от всего этого прок, если я не могу использовать прочитанное для Ивана. «Критику чистого разума» я читала при 60-свечевой лампе на Беатриксгассе, а еще Локка, Лейбница и Юма, в сумраке Национальной библиотеки, при маленьких лампочках набивала себе голову понятиями всех эпох – от досократиков до «Бытие и ничто»[16]16
Книга французского философа, писателя и публициста Жана Поля Сартра (1905–1980).
[Закрыть]; Кафку, Рембо и Блейка глотала при 25 свечах в парижском отеле, Фрейд, Адлер и Юнг были прочитаны при 360 свечах на пустынной берлинской улице под тихое кружение шопеновских этюдов; пламенную речь об отчуждении духовной собственности я изучала на пляже под Генуей, – бумага в пятнах соли, покоробившаяся от солнца; за три недели в Клагенфурте, лежа с температурой, ослабев от антибиотиков, прочитала «Человеческую комедию»; Пруста глотала в Мюнхене до рассвета, пока в мою мансарду не вломились кровельщики; французских моралистов и венских логистиков одолевала со спущенными чулками, выкуривая по тридцать французских сигарет в день, прочла все от «De Rerum Natura»[17]17
«О природе вещей» – дидактическая поэма римского философа и поэта Тита Лукреция Кара (I в. до н. э.).
[Закрыть] до «Le culte de la Raison»[18]18
«Культ разума» (фр.). Культ разума был провозглашен в годы Великой французской революции левыми якобинцами (Эбер, Шометт) одновременно с «дехристианизацией».
[Закрыть], изучала историю и философию, медицину и психологию; в психиатрической клинике Штайнхоф работала над историями болезни шизофреников и страдающих маниакально-депрессивным психозом, писала сочинения в Auditorium maximum при всего шести градусах выше нуля, а при тридцати восьми в тени все еще набрасывала заметки о de mundo, de mente, de motu[19]19
О мире, о разуме, о движении (лат.).
[Закрыть], после мытья головы постигала Маркса и Энгельса, а В.И.Ленина читала совершенно пьяная; растерянная, спасаясь бегством, читала газеты, газеты, газеты, читала газеты еще ребенком, перед печкой, разжигая огонь, – читала газеты, журналы, карманные книжки, читала всюду и везде, на всех вокзалах, во всех поездах, в трамваях, в автобусах, самолетах, читала все обо всем на четырех языках, fortiter, fortiter[20]20
Упорно (лат.).
[Закрыть], и понимала все, что только можно прочесть. И вот, освободившись на миг от всего прочитанного, я ложусь рядом с Иваном и говорю:
– Я напишу для тебя такую книгу, какой еще не было, если ты на самом деле ее хочешь. Но ты должен на самом деле ее хотеть, хотеть от меня, а я никогда не стану требовать, чтобы ты ее читал.
Иван говорит:
– Будем надеяться, что получится книга с хорошим концом.
Будем надеяться.
Я нарезала мясо ровными кусками. Порубила лук, очистила красные перцы, ведь у нас сегодня перкельт, на закуску – яйца в горчичном соусе, но я раздумываю, не лишними ли будут клёцки с абрикосами, может, обойдемся фруктами, а вот если под Новый год Иван будет в Вене, то я попробую приготовить крамбамбули, для чего нужен жженый сахар, – даже моя мама этого уже не делала. По рецептам в поваренных книгах я догадываюсь о том, что мне уже недоступно, а что еще по силам, что пришлось бы по вкусу Ивану, только, по мне, слишком уж много надо тереть, толочь, месить, взбивать, печь на сильном или слабом огне, а я не знаю, как его сделать в электроплите и подходит ли цифра 200, обозначенная на кране духовки, к рецептам из книг «Старая Австрия приглашает к столу» или «Кое-что из венгерской кухни», я ведь просто пытаюсь сделать Ивану сюрприз, ибо он уже лезет на стенку от ресторанного ростбифа, жареного филе, отварного мяса и вечных блинчиков. Я готовлю ему то, чего не найти в обычном меню, и ломаю голову над тем, как бы мне соединить доброе старое время, когда нельзя было обойтись без свиного сала, сливок и сметаны, и разумное новое, когда в обиходе йогурт, зеленый салат, окропленный растительным маслом и лимонным соком, когда на первом месте – овощи, богатые витаминами, отчего их нельзя варить, когда имеет значение количество углеводов, калорий, соблюдение меры и отсутствие пряностей. Иван не подозревает, что я прямо с утра бегаю по магазинам и с возмущением спрашиваю, почему теперь не продают купырь, где найти эстрагон и когда появится базилик – ведь все это предписано рецептами. У торговца овощами всегда лежат только петрушка и зеленый лук, рыбный торговец уже много лет не получал ручьевой форели, а потому я наудачу приправляю мясо и овощи тем немногим, что у меня есть. Надеюсь, руки не будут пахнуть луком, я то и дело забегаю в ванную, чтобы помыть руки, заглушить кухонный запах духами и причесаться. Иван должен увидеть только результат: что стол накрыт и горит свеча, – Малина удивился бы, что я даже успеваю заблаговременно охладить вино, подогреть тарелки, а между поливанием жаркого и поджариванием ломтиков белого хлеба наношу тушь на ресницы, пользуясь зеркальцем Малины для бритья, подмазываю глаза, пинцетом как следует выщипываю брови, и эта синхронная работа, которой никто не оценит, дается мне трудней, чем все работы, какие я делала до сих пор. Однако меня ждет за это высочайшая награда – Иван пришел сегодня в семь часов и оставался до полуночи. Пять часов Ивана – этого могло бы хватить на несколько дней спокойствия, как средства для стимуляции кровообращения, для повышения давления, для долечивания, профилактического лечения, отдыха. Ничто не кажется мне слишком сложным, слишком хитроумным, слишком утомительным для того, чтобы отхватить себе кусок жизни с Иваном; когда он однажды за ужином обмолвился, что в Венгрии часто ходил под парусами, мне сразу захотелось обучиться этому делу, по возможности прямо завтра с утра, скажем, на Старом Дунае, в бухте Кайзервассер, чтобы я могла сразу стать с ним рядом, когда он опять пойдет на паруснике. Потому что сама я привязать его не способна. Еда готова раньше, чем нужно, и, стоя на кухне и следя за плитой, я пытаюсь отыскать причину этой неспособности, которая вытеснила столько прежних моих способностей. Привязать можно, только придерживая что-то про запас, временами чуть отступая, меняя тактику, – словом, тем, что Иван называет игрой. Он призывает меня не выходить из игры, откуда ему знать, что игра для меня уже невозможна, что игра окончена. Я думаю о внушениях Ивана, – когда я перед ним извиняюсь, когда его жду. Иван говорит: с ним надо вести себя совсем по-другому, надо преспокойно заставлять его ждать, и нечего мне извиняться. И еще он говорит: это я должен за тобой бегать, пойми наконец, я за тобой, а не ты за мной, в этом деле тебе срочно требуются дополнительные уроки, кто это забыл научить тебя таким элементарным вещам? Но Иван не любопытен, и, по правде говоря, ему вовсе не хочется знать, кто забыл это сделать, я должна срочно переменить тему и отвлечь Ивана, когда-то мне удавалось отделаться загадочной улыбкой, капризом, дурным настроением, но с Иваном этот номер не пройдет. Ты слишком прозрачна, говорит он, всегда видно, что с тобой происходит, ну, разыграй же, разыграй что-нибудь передо мной! Но что мне перед ним разыграть? Первая же попытка попрекнуть его тем, что вчера он больше не позвонил, что забыл забросить мне мои сигареты, что он все еще не знает, какую марку я курю, кончается лишь жалкой гримасой, потому что не успеваю я подойти к двери, когда раздается его звонок, как из меня разом улетучиваются все попреки, и по моему лицу Иван мигом определяет погоду: облачно с прояснениями, ясно, вторжение теплого воздуха, безоблачно, пять часов подряд хорошая погода.
Почему ты сразу не скажешь
Что?
Что хочешь опять прийти ко мне
Но послушай!
Я не дам тебе это сказать
Вот видишь
Чтобы ты не выходила из игры
Я не хочу никакой игры
Но без игры дело не пойдет
С помощью Ивана, который жаждет игры, и ради этого я тоже освоила целый набор ругательных фраз. Услыхав первую из них, я ужасно испугалась, но теперь мне их прямо-таки не хватает и я жду этих ругательств, потому что, если Иван начинает ругаться, это хороший знак.
Ты маленькая падла, ты, ты, кто же еще?
Ты меня уговоришь в чем угодно, ты, ты
Потому что это правда, смейся сколько хочешь
Не смотри такими ледяными глазами
Les hommes sont des cochons[21]21
Мужчины – свиньи (фр.).
[Закрыть]Настолько ты еще понимаешь по-французски
Les femmes aiment les cochons[22]22
Женщины любят свиней (фр.).
[Закрыть]Я с тобой говорю, как хочу
Маленькая стерва, вот ты кто
Ты же со мной делаешь, что хочешь
Нет, не отучивать тебя надо, а доучивать
Ты слишком глупа, ты просто ничего не понимаешь
Ты должна стать совсем большой стервой
Величайшей стервой всех времен, вот бы хорошо
Да, этого я и хочу, конечно, а чего же еще
Ты должна совершенно перемениться
С этаким талантом, конечно, он у тебя есть
Ты ведьма, так воспользуйся этим наконец
Они тебя вконец испортили
Да, ты это самое и есть, и не пугайся каждого слова
Ты что, не поняла закона?
Ругательные фразы произносит один Иван, ответов от меня он не слышит, только междометия, а чаще всего слова: «Но Иван!», однако под конец они говорятся уже не так серьезно, как вначале.
Что знает Иван о законе, который властвует надо мной? Но меня все-таки удивляет, что в его лексиконе есть слово «закон».
Малина и я, несмотря на все наши различия, одинаково робеем перед нашими именами, только Иван совершенно сливается со своим именем, и поскольку оно для него нечто само собой разумеющееся и он знает, что имя устанавливает его личность, то и мне доставляет удовольствие произносить это имя вслух, думать о нем и произносить про себя. Его имя стало для меня деликатесом, необходимой роскошью в моей скудной жизни, и я забочусь о том, чтобы повсюду в городе имя Ивана произносилось вслух, шепотом и мысленно. Даже когда я бываю одна, когда одна хожу по Вене, то во многих местах могу себе сказать – здесь я ходила с Иваном, там я ждала Ивана, в «Линде» я с Иваном обедала, на Кольмаркте пила с Иваном кофе-эспрессо, на Кертнерринге Иван работает, здесь он покупает себе рубашки, вон там – бюро путешествий, услугами которого он пользуется. Но неужели ему понадобится опять ехать в Париж или в Мюнхен? Однако и там, где я с Иваном не бывала, я говорю себе: надо мне будет как-нибудь прийти сюда с Иваном, это я должна показать Ивану, я бы хотела как-нибудь вечерком вместе с Иваном полюбоваться Веной с Кобенцля или с высотного дома на Херренгассе. Иван реагирует сразу: когда его зовут, он вскакивает, а Малина медлит, и я тоже медлю, когда речь идет обо мне. Так что Иван правильно делает, не всегда называя меня по имени, а награждая какими-то бранными кличками, которые вдруг приходят ему в голову, или говоря «сударыня моя». Сударыня моя, вот мы опять себя выдали, стыд, да и только, надо нам поскорей от этого отучиться. Glissons. Glissons[23]23
Проехали. Проехали (фр.).
[Закрыть].
Что Иван не интересуется Малиной, это я могу понять. Я даже принимаю меры предосторожности, чтобы один из них не вторгся в сферу другого. Но я не совсем понимаю, почему Малина никогда не говорит про Ивана. Он его не упоминает даже вскользь, с непостижимой ловкостью избегает присутствовать при моих телефонных разговорах с Иваном или встречаться с ним на лестнице. Он делает вид, что все еще не знает машины Ивана, хотя моя очень часто стоит впереди или позади Ивановой на Мюнцгассе, и когда я утром выхожу из дома вместе с Малиной с тем, чтобы быстренько подбросить его на Арсенальгассе – это в двух шагах от нас – и он не опоздал бы на службу, то он должен бы заметить, что я не воспринимаю машину Ивана, как препятствие на пути, а, напротив того, нежно ее приветствую, глажу рукой, даже когда она мокрая или вся в грязи, и с облегчением убеждаюсь, что за ночь ее номер остался прежним – W 99 823. Малина садится, и я жду спасительной насмешки, укоризненного замечания, жду изменившегося выражения лица, но Малина мучает меня своим безукоризненным самообладанием, своим несокрушимым доверием. Пока я в большом напряжении жду вызывающей резкости, Малина подробно рассказывает мне, какая ему предстоит неделя: сегодня в Зале славы будут снимать фильм, у него совещание с референтом по оружию, референтом по обмундированию и референтом по орденам. Директор в отъезде, он читает лекцию в Лондоне, поэтому Малина должен один идти в Доротеум на аукцион оружия и картин, но решать он ничего не хочет, Монтенуово-младший будет на днях окончательно утвержден в должности, а в субботу и в воскресенье Малина дежурит. Я забыла, что на этой неделе опять его очередь дежурить, и Малина наверняка заметил, что я забыла, я выдала себя, слишком явно показала свое удивление, но он все еще обманывается, словно тут никого и ничего нет, словно существуем только он и я. Словно я думаю о нем – как всегда.
Свое интервью господину Мюльбауэру, который раньше работал в газете «Винер тагблатт», но без всяких угрызений совести переметнулся к ее политическим конкурентам, к «Винер нахтаусгабе», я откладывала уже несколько раз, под разными предлогами, однако господин Мюльбауэр со свойственным ему упорством, со своими телефонными «Целую ручку» все же добивается цели. Вначале ведь каждый, как я, полагает, будто соглашается на интервью, только чтобы отделаться от этого человека, однако наступает день – и вот он, тут как тут, этот господин Мюльбауэр, которому несколько лет назад еще приходилось записывать в блокнот, а теперь он пользуется магнитофоном, курит «Бельведер» и не отказывается от виски.
Если опросы с их вопросами все схожи между собой, то господину Мюльбауэру все-таки принадлежит одна заслуга: нескромность по отношению ко мне он довел до крайнего предела.
1-й вопрос:………………………………………………………?
Ответ: Что я насчет времени? Не знаю, верно ли я вас поняла. Если вы имеете в виду сегодня, то я бы не хотела, во всяком случае, сегодня. Если же я вправе понять вопрос иначе, как про время вообще, общее для всех, то я не уполномочена, нет, я хочу сказать, не компетентна, мое мнение – не определяющее, да у меня и нет никакого мнения. Вот вы обмолвились, что мы живем в великое время, а я, разумеется, не была готова встретить великое время, да и кто бы мог его предугадать, пока еще ходил в детский сад или в начальную школу, – позднее, конечно, в гимназии или тем более в университете, немало говорилось о поразительном множестве великих эпох, о великих событиях, великих людях, великих идеях…
2-й вопрос:………………………………………………………?
Ответ: Мое развитие… Ах так, вы спрашиваете о духовном развитии. Летом я совершала большие прогулки в Гории и лежала там на траве. Простите, но это касается именно развития. Нет, я не хотела бы говорить, где находится Гория, вдруг ее вздумают продать и застроить, эта мысль для меня невыносима. Возвращаясь домой, я должна была переходить железную дорогу без шлагбаума, это было небезопасно, потому что идущий поезд нельзя было увидеть из-за орешника и купы ясеней, но сегодня там перелезать через насыпь не надо, есть подземный переход.
(Покашливание. Заметная нервозность господина Мюльбауэра, которая действует мне на нервы.)
Что касается великого времени, великих времен, то мне кое-что пришло в голову, хотя мои слова не откроют вам ничего нового: история учит, но у нее нет учеников.
(Господин Мюльбауэр приветливо кивает.)
Когда же в самом деле начинается развитие человека, туг вы со мной согласитесь… Да, я собиралась изучать юриспруденцию, через три семестра это дело бросила, пять лет спустя начала снова и, проучившись один семестр, бросила опять, я не могла стать судьей или прокурором, но становиться адвокатом не хотела тоже, я просто не знала, кого или что я была бы в силах представлять или защищать. Всех и никого, все и ничего. Подумайте, господин Мюльхофер, извините, господин Мюльбауэр, что бы вы стали делать на моем месте, когда все мы живем по непонятому закону, когда не можем даже ясно представить себе весь ужас этого закона…
(Господин Мюльбауэр делает мне знак. Новая помеха – ему надо заменить пленку.)
… Ладно, если хотите, я буду выражаться яснее и сразу перейду к делу, я бы только хотела еще сказать: существуют известные предостережения, вы их знаете, ибо справедливость так гнетуще близка, и сказанное вовсе не исключает, что справедливость – это не что иное, как потребность в недостижимом совершенстве, вот почему она все же столь гнетуща и столь близка, однако по этой причине мы называем ее несправедливостью. Кроме того, для меня всегда мучительно проходить по Музеумштрассе, мимо Дворца правосудия, или случайно оказаться поблизости от Парламента, где-нибудь на Райхсратштрассе, откуда этот Дворец невозможно не видеть, подумайте только о слове «дворец» в сочетании с правосудием – это сочетание настораживает, там поистине не может вершиться неправый суд, а уж правый – и того меньше! В развитии человека ничто не проходит бесследно, и этот ежедневный пожар во Дворце правосудия…
(Шепот господина Мюльбауэра: в 1927 году, 15 июля 1927 года!)
Ежедневный пожар в таком таинственном Дворце с его колоссальными статуями, с его колоссальными процессами и провозглашениями, которые люди называют приговорами! Это ежедневное горение…
(Господин Мюльбауэр выключает магнитофон и спрашивает, можно ли ему стереть последний кусок, он говорит «стереть» и тут же стирает.)
… Какие переживания повлияли?.. Что произвело на меня наиболее сильное впечатление? Однажды у меня возникло жуткое чувство от того, что я родилась аккурат на геосинклинали, я мало что в этом смыслю, но ведь геотропизм должен быть неизбежным и для человека, он же весьма способствует переориентации…
(Состояние оторопелости у господина Мюльбауэра. Он торопливо машет рукой.)
3-й вопрос:………………………………………………………?
Ответ: Что я насчет молодежи? Ничего, право, ничего, во всяком случае, до сих пор я совершенно об этом не думала, очень вас прошу, не судите меня строго за то, что большинство вопросов, которые вы мне задаете, вообще, многие вопросы, с которыми ко мне обращаются, я еще никогда перед собой не ставила. Нынешняя молодежь? Но ведь в таком случае я должна бы подумать и о нынешних стариках, и о людях, которые сегодня уже не молоды, но еще не стары, а ведь так трудно представить себе эти сферы жизни, эти специальные области, эти предметы – молодость и старость. Абстрактные понятия, знаете ли, должно быть не самая сильная моя сторона, мне тогда сразу видятся целые людские скопища, например, дети на детских площадках, признаюсь, скопище детей представляется мне чем-то особенно ужасным, и мне совершенно непонятно, как дети могут находиться среди такой массы детей. Дети, замешавшиеся среди взрослых, это еще куда ни шло, а в школе вы когда-нибудь бывали? Ни один ребенок, если только он не слабоумный или не безнадежно испорченный, – однако в большинстве они именно такие, – не захочет жить в толпе детей, испытывая те же трудности, что и другие дети, и разделять с ними что-либо, кроме некоторых детских болезней, скажем, свое развитие. Зрелище всякого большого скопления детей уже потому вселяет тревогу…
(Господин Мюльбауэр машет обеими руками. Машет явно неодобрительно.)
4-й вопрос:………………………………………………………?
Ответ: Мое любимое – что? Любимое занятие, верно, верно, вы так и сказали. Я не бываю занята, никогда. Любое занятие только отвлекло бы меня, я потеряла бы возможность какого бы то ни было обзора, созерцания, я совершенно не способна заниматься делами среди кипящей вокруг деловитости. Вы, конечно, тоже видите эту бредовую деловитость во всем мире и производимый ею адский шум. Я бы запретила всякие дела, если б могла, но я могу запретить их только себе самой, правда, сильных искушений у меня и не было, я не считаю это своей заслугой, подобные искушения мне совершенно непонятны, я не хочу изображать себя лучше, чем я есть, мне ведомы искушения, в которых я не осмелюсь признаться, ведь каждый человек подвержен тягчайшим искушениям, он поддается им, безнадежно пытается их побороть – нет, пожалуйста, только не в присутствии… Я предпочла бы этого не говорить. Мои любимые – как вы сказали? Ландшафты, животные, растения? Любимые книги, музыка, архитектурные стили, живопись? У меня нет любимых животных, любимых москитов, любимых жуков, любимых червей, при всем желании я не могу вам сказать, каких я предпочитаю птиц, рыб или хищных зверей, мне трудно дается даже более элементарный выбор между органическим и неорганическим миром.
(Господин Мюльбауэр одобрительно указывает мне на Фрэнсис, – она неслышно вошла в комнату, зевает, потягивается, а потом одним прыжком вскакивает на стол. Господину Мюльбауэру надо вставить новую пленку. Недолгая беседа с господином Мюльбауэром, который не знал, что я держу кошек, «вы могли бы так мило рассказать о ваших кошках, – с упреком говорит господин Мюльбауэр, – кошки придали бы разговору личный оттенок!» – Я смотрю на часы и нервно говорю: кошки – это же просто случайность, здесь, в городе, я их держать не смогу, о кошках не может быть и речи, во всяком случае, об этих кошках, а теперь в комнату входит еще и Троллоп, и в ярости я выгоняю обоих. Магнитофон работает.)
4-й вопрос:………………………………..? (Вторично.)
Ответ: Книги? Да, читаю я много, я всегда много читала. Нет, я не знаю, понимаем ли мы друг друга. Охотнее всего я читаю на полу или на кровати, почти все – лежа, нет, дело тут не столько в книгах, сколько в самом чтении, в том, что напечатано черным по белому, в буквах, слогах, строчках, в этих нечеловеческих, запечатленных и закрепленных знаках, в этих отверделостях, в этом застывшем выражении воображаемого, исходящего от людей. Поверьте мне, выражать что-то – значит воображать, выражение рождается из нашего самообмана. Играет роль и перелистывание книги, гонка со страницы на страницу, бегство, соучастие в безрассудном загустевшем излиянии, да еще подлость какого-нибудь enjambement[24]24
Термин поэтики – перенос фразы в стихах с одной строки на другую.
[Закрыть], страхование жизни одной-единственной фразой, и перестраховка фраз жизнью. Чтение – это порок, способный вытеснить все другие пороки или, заняв их место, временами активно помогать людям жить, это распутство, изнуряющая мания. Нет, наркотиков я не принимаю, я принимаю книги, конечно, некоторым я отдаю предпочтение, многие оставляют меня равнодушной, кое-какие я принимаю только утром, другие – только ночью, есть книги, с которыми я не расстаюсь, расхаживаю с ними по квартире, таскаю их из гостиной на кухню, читаю стоя в коридоре, я не пользуюсь закладками, не шевелю губами при чтении, читать я научилась рано и очень хорошо, метод обучения я уже не припомню, вам стоило бы как-нибудь им поинтересоваться, в начальных школах у нас в провинции этот метод, по-видимому, действовал безотказно, по крайней мере в ту пору, когда я там училась читать. Да, я тоже обратила внимание, правда позднее, что в других странах люди читать не умеют, во всяком случае, читать быстро, ведь важен и темп чтения, а не только сосредоточенность, ну послушайте, кто сможет без отвращения жевать какое-нибудь простое или сложное предложение, пережевывать его глазами или тем более ртом; предложение, которое состоит только из подлежащего и сказуемого, должно заглатываться мгновенно, предложение со многими придаточными как раз поэтому должно восприниматься в головокружительном темпе, посредством незаметного слалома глазных яблок, ведь иначе оно читателю не дастся, а предложение должно «даваться». Я не смогла бы «продираться» сквозь книгу, это бы уже граничило с занятием. Бывают люди, скажу я вам, такие люди, – в области чтения встречаются удивительнейшие сюрпризы… У меня, во всяком случае, есть слабость к неграмотным, я даже здесь знаю одного человека, который не читает, не желает читать. Это состояние невинности понятнее тому, кто подвержен пороку чтения, – надо либо не читать совсем, либо уметь читать по-настоящему…
(Господин Мюльбауэр ненароком стер запись. Извинения с его стороны. Мне придется повторить всего несколько фраз.)
Да, я много читаю, но потрясением, памятным событием становится единственный взгляд, брошенный на какую-то страницу, воспоминание о пяти словах на странице 27, внизу слева: «Nous allons à l'Esprit»[25]25
«Мы восходим к духу» (фр.). – Слова из поэмы в прозе Артюра Рембо «Дурная кровь» («Сезон в аду»).
[Закрыть]. Слова на каком-то плакате, фамилии на дверных табличках, названия книг, которые лежат нераспроданными в витрине книжного магазина, объявления в иллюстрированном журнале, прочитанные в приемной зубного врача, надпись на памятнике, надгробии, бросившаяся мне в глаза: «Здесь покоится». Имя, попавшееся в телефонной книге: Евсевий. Сейчас я перейду к делу… В прошлом году, например, я прочла: «Он был одет под Меншикова», не знаю почему, но я вмиг совершенно уверилась в том, что, кто бы ни был этот человек, он, судя по этой фразе, одет и должен быть одет «под Меншикова», и для меня было важно это узнать, из моей жизни этого уже не выкинуть. Из этого что-то получится. А переходя к делу, хочу сказать, что, сиди мы с вами денно и нощно, я все равно не смогла бы перечислить книги, которые произвели на меня особенно сильное впечатление, объяснить, почему произвели, какой страницей и на какой срок. Что остается в памяти? – спросите вы – но речь же совсем не об этом! Только некоторые фразы, некоторые выражения все время оживают в сознании, спустя годы заявляют о себе: У славы белых крыльев нет. Avec ma main brulée, j'écris sur la nature du feu[26]26
Своей обожженной рукой я пишу о природе огня (фр.). – Слова из письма Постава Флобера Луизе Коле от 5–6 VII 1852 г.
[Закрыть]. In fuoco Pamor mi mise, in fuoco d'amor mi mise[27]27
Любовь меня ввергла в огонь, в пламя любви меня ввергла (ит.).
[Закрыть]. To The Onlie Begetter[28]28
Единственному вдохновителю… – начало посвящения в первом издании сонетов Шекспира (1609 г.).
[Закрыть]…
(Я машу руками и заливаюсь краской, господин Мюльбауэр должен сейчас же это стереть, это никого не касается, я говорила необдуманно, позволила себе увлечься, читатели газет в Вене все равно по-итальянски не понимают, а большинство не знает уже и французского, особенно молодежь, да это и не относится к делу. Господин Мюльбауэр хочет подумать, он не все понял, и хотя он уже два раза побывал в Америке, слово «Begetter» ему не встречалось.)
5-й вопрос:………………………………………………………?
Ответ: Раньше я могла жалеть только себя, я чувствовала себя здесь обделенной, как человек, лишенный наследства, позднее научилась жалеть людей в других местах. Вы заблуждаетесь, господин Мюльбауэр, я заодно с этим городом, он и его ничтожно малые окрестности оказались вне истории.
(Господин Мюльбауэр жутко испуган. Я, не смущаясь, продолжаю говорить.)
Можно бы также сказать, что здесь, в назидание остальному миру, из истории вытолкнули империю с ее интригами и тактикой, приукрашенной идеями. Мне очень нравится здесь жить, потому что человек гораздо сильнее пугается, когда смотрит на мир с этого места, где больше ничего не происходит, смотрит не самоуверенно, не самодовольно, ибо здесь не заповедный остров, здесь на каждом шагу упадок, сплошной упадок, и глазам представляется падение всех нынешних и завтрашних империй.
(Господин Мюльбауэр пугается все больше, я вспоминаю про «Винер нахтаусгабе», возможно, господин Мюльбауэр уже дрожит за свое место, пора мне немножко подумать и о господине Мюльбауэре.)
Я всегда охотнее говорю, как говорили в старину: «Австрийский дом», ибо для обозначения «страна» это было бы, на мой взгляд, нечто слишком большое, пространное, неудобное, страной я называю образования помельче. Когда я смотрю из окна вагона, то думаю: какая красивая страна. Когда приближается лето, мне хочется побывать на родной стороне, в Каринтии, или в Зальцкаммергуте. Видишь ведь, до чего доходят люди, живущие в настоящих странах, чем приходится им отягощать свою совесть, пусть даже каждый из них в отдельности мало причастен или совсем непричастен к позорным деяниям их крикливых, раздувшихся от величия стран и ничего не выигрывает от умножения их мощи и богатств. Жить вместе с другими в одном доме – это уже достаточно страшно. Но, дорогой господин Мюльбауэр, я же этого вовсе не говорила, в настоящую минуту речь у нас идет вовсе не о республике, которая дает ребенку его законное имя, кто здесь сказал хоть слово против малозаметной, маленькой, неопытной, ущемленной, но никого не ущемляющей республики? Не вы и не я, нет никаких оснований для беспокойства, успокойтесь, ультиматум Сербии истек давным-давно, он заставил пересмотреть всего несколько веков в существовании и без того уже ненадежного мира и способствовал его краху, все давно уже перешли к беспорядку дня нового мира. Ничто не ново под луной? Нет, этого бы я никогда не сказала, новое есть, есть, можете быть в этом уверены, вот только если смотреть отсюда, господин Мюльбауэр, где больше ничего не происходит, – да это и хорошо, – то надо окончательно стряхнуть с себя прошлое, не ваше и не мое прошлое, но кто нас об этом спрашивает! Надо избавиться от этого груза, ведь у других людей, в других странах, на это нет времени, они там работают, строят планы, делают дела, они засели в своих странах, эти поистине несовременные люди, ибо они безъязыкие, – те, что правят во все времена. Я открою вам страшную тайну. Язык – это наказание. Все вещи должны в него войти и в нем сойти на нет за свою вину и в меру своей вины.
(Признаки изнеможения у господина Мюльбауэра. Признаки изнеможения у меня.)
6-й вопрос:……………………………………………………..?
Ответ: Посредническая роль? Задача? Духовная миссия? А вы когда-нибудь выступали посредником? Это неблагодарная роль, и не надо больше никаких задач! И я не знаю, это миссионерство… Мы же видели, что из этого всюду вышло, я вас не понимаю, но у вас, конечно, более высокая точка зрения, а высокое, если оно вообще есть, находится очень высоко. Оно должно быть мучительно высоко, слишком высоко для того, чтобы кто-то мог осваивать эту высоту хотя бы час в разреженном воздухе, где уж тут осваивать ее вместе с другими, если к тому же пребываешь в глубочайшем унижении, ведь духовность, – не знаю, хотите ли вы еще меня слушать, ваше время ведь так ограничено и ваша колонка в газете тоже, – это бесконечное уничижение, приходится сходить вниз, а не всходить наверх или выходить на улицу к людям, это же просто позор, это недопустимо, и мне непонятно, как можно употреблять такие высокопарные выражения. Кому здесь по силам какая-либо задача, чего можно добиться с помощью миссии! Это невозможно себе представить, меня это прямо-таки угнетает. Но быть может, вы имели в виду управленческую деятельность или изучение архивов? Мы уже положили этому начало, занявшись дворцами, замками и музеями, наш некрополь обследован, снабжен этикетками, описан до мельчайших подробностей на эмалированных табличках. Раньше человек был не вполне уверен, который дворец Траутзонов, а который Строцци, где находится госпиталь Святой Троицы и какая за ним скрыта история, но теперь можно разобраться и без специальных познаний, да и без гида, а близких знакомых, которые нужны были раньше, чтобы получить доступ во дворец Пальфи или в Леопольдов корпус Хофбурга, теперь не требуется, пришлось расширить административные органы.







