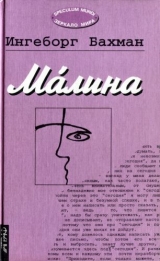
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
С тех пор как все между нами сложилось так, как оно есть, мне остается только задаваться вопросом, кем же мы можем быть друг для друга, я и Малина, такие непохожие, такие разные, и это не вопрос пола или характера, устойчивости его существования и неустойчивости моего. Во всяком случае, Малина никогда не вел такую судорожную жизнь, как я, никогда не растрачивал свое время на пустяки, на болтовню по телефону, никогда не опасался невесть чего, не давал ни во что себя втянуть и уж тем паче не торчал по полчаса перед зеркалом, таращась на себя, чтобы потом мчаться куда-нибудь со всех ног, постоянно опаздывая, бормоча извинения, теряясь от какого-то вопроса или в поисках ответа. Я думаю, что у нас с ним и сегодня еще мало общего, мы терпим друг друга, удивляемся друг другу, но мое удивление исполнено любопытства (удивляется ли Малина вообще? Я все меньше в это верю), и мне как-то неспокойно, особенно потому, что мое присутствие никогда его не раздражает, потому что он ощущает его, когда ему это приятно, не ощущает, когда нечего сказать, словно мы в наших повседневных делах не ходим все время по квартире, встречаясь друг с другом, и можем не видеть или не слышать один другого. Тогда мне кажется, будто его спокойствие объясняется тем, что я для него слишком незначительное и знакомое «я», словно он исторг меня из себя, как некий отброс, как напрасно очеловеченное существо, словно я произошла всего-навсего из его ребра и он всегда мог без меня обойтись, но вместе с тем я – неизбежная темная история, которая сопутствует его собственной истории и пытается ее дополнить, которую он однако отделяет и отграничивает от своей – ясной – истории. Вот почему только мне и надо кое-что с ним прояснить, да и себя самое я прежде всего должна и могу прояснить только перед ним. Ему-то прояснять нечего, ему – нет. Я навожу порядок в передней, мне хочется быть поближе к двери, ведь он сейчас придет, вот поворачивается ключ в замке, я отступаю на несколько шагов, чтобы он не наткнулся на меня, он запирает дверь, и мы приветливо, в один голос говорим: «Добрый вечер!» А пока мы идем по коридору, я говорю еще кое-что: Я должна рассказать. Я буду рассказывать. Нет больше ничего, что помешало бы моему воспоминанию. Да, – говорит Малина без всякого удивления.
Я вхожу в гостиную, он идет дальше, вглубь, его комната – последняя.
Я должна и буду, громко повторяю я, оставшись одна, потому что раз Малина ничего не спрашивает и больше ничего не хочет знать, – стало быть, все правильно. Я могу успокоиться.
А что, если мое Воспоминание скрывает под собой всего лишь обычные воспоминания о прошедшем, отжитом, отброшенном? Тогда я еще далека, очень далека от того утаенного Воспоминания, коему больше ничего не может мешать.
Что должно мне мешать, скажем, вспоминать город, в котором я родилась, не сознавая необходимости родиться именно там, а не в каком-то другом месте, – только так ли уж надо мне об этом вспоминать? Самые важные сведения дает Объединение иностранного туризма, кое-что не входит в его компетенцию, но я тоже в этом не компетентна, однако в школе мне довелось узнать, где сошлись «мужская отвага и женская верность» и где, согласно нашему гимну, сверкает «ледяное поле Гросглокнера». Великий сын нашего города Томас Кошат, о коем свидетельствует улица Томаса Кошата, сочинил музыку песни «Покинут, покинут, покинут здесь я»; в школе имени Бисмарка мне пришлось еще раз учить таблицу умножения, которую я уже знала; на уроки Закона Божия я ходила в школу бенедиктинцев, хотя меня после этого не конфирмовали, ходила всегда после обеда вместе с девочкой из другого класса, так как все остальные были католики и Закон Божий учили по утрам, а я в это время была свободна; молодой викарий, как утверждали, получил огнестрельное ранение в голову, старый декан был строг, усат и считал всякие вопросы признаком недомыслия. Дверь в гимназию урсулинок теперь заперта, однажды я снова, и понапрасну, в нее ломилась. Наверно, я все же не получила в кафе «Музиль» кусок торта после приемного экзамена, но мне хотелось его получить, и я вижу, как крошу этот кусок маленькой вилкой. Наверно, торт мне достался лишь несколько лет спустя. В начале променада по берегу Вертерзе, недалеко от пароходной пристани, меня впервые поцеловал мужчина, но я больше не вижу лица, что приблизилось к моему, имя того чужака, должно быть, тоже погрязло в тине на дне озера. Смутно помню еще только продуктовые карточки, которые я ему отдала, а он не пришел на другой день к пароходной пристани, потому что его зазвала к себе самая красивая женщина города, которая ходила по Винергассе в большой шляпе и которую в самом деле звали Вандой. Однажды я увязалась за ней следом до Ваагплац, не обладая ни шляпой, ни ароматом духов, ни уверенной походкой тридцатипятилетней женщины. Чужак, возможно, был в бегах или хотел выменять карточки на сигареты и курить их вместе с той высокой красивой женщиной, да только случилось это, когда я была уже в возрасте девятнадцати лет, а не шести, со школьным ранцем на спине. Съемка крупным планом запечатлела мостик через Глан, – не вечерний берег озера, а только этот залитый полуденным солнцем мостик, на нем два мальчугана, тоже с ранцами на спине, старший из них – он старше меня, самое малое, на два года – крикнул: «Эй ты, поди-ка сюда, я тебе кое-что дам!» Эти слова не забылись, как и мальчишеское лицо, такой важный первый зов, моя первая бурная радость, я останавливаюсь, медлю, делаю на этом мосту первый шаг к другому, и сразу же – хлоп! Жесткая ладонь бьет меня по лицу, на тебе, вот ты и получила! То был первый удар, нанесенный мне по лицу, и первое осознание того, сколь глубокое удовлетворение получает другой, когда бьет. Первое познание боли. Держась обеими руками за ремни ранца, не плача, ровным шагом, некто, бывший прежде мною, затрусил по привычной дороге домой, в этот единственный раз не пересчитывая планки штакетника на краю улицы, в первый раз попав в руки людям, – так что иногда все же знаешь, когда это началось, как и где и какими слезами надо было плакать.
Это было на мосту через Глан. Не на променаде вдоль озера.
Между тем как многие люди родились, скажем, 1 июля, то есть когда появились на свет четыре всемирно известных человека, или 5 мая, в день, куда набились преобразователи мира и гении, чтобы испустить свой первый крик, мне так и не удалось выяснить, кто позволил себе оплошность начать свою жизнь в тот же день, что и я. Я лишена удовольствия разделять свой звездный час с Александром Великим, с Лейбницем, Галилео Галилеем или Карлом Марксом, и даже во время путешествия из Нью-Йорка в Европу на теплоходе «Роттердам», где список пассажиров, чей день рождения должен был отмечаться во время рейса, был на виду у всех, – в тот день, когда пришла моя очередь, мне досталась только красочная поздравительная открытка от капитана, просунутая под дверь каюты, а я до самого обеда все еще надеялась, что, как во все предшествующие дни, среди многих сотен пассажиров найдется еще несколько человек, кто одновременно со мной бесплатно получит торт и кого приветствуют песней «Нарру birthday to you»[5]5
Поздравляем с днем рожденья (англ.).
[Закрыть]. Но оказалось, что я единственная новорожденная, и напрасно я оглядывала весь зал, – нет, больше никого, тогда я быстро разрезала торт, поспешно разделила его между голландцами за тремя соседними столами, сама же болтала, и пила, и болтала, – не переношу, мол, качки, не спала всю ночь, а потом убежала к себе в каюту и заперлась.
Не на мосту через Глан это было, не на променаде вдоль озера, но и не ночью в Атлантике. Просто я, пьяная, плыла сквозь эту ночь навстречу самой своей непроглядной ночи.
Лишь позднее мне пришло в голову, что в тот день, который тогда еще меня интересовал, по крайней мере, кто-нибудь умер. Рискуя удариться в базарную астрологию, – поскольку я вправе представлять себе соотношение сил в небе над нами, как мне заблагорассудится, и никакая наука не может за мною следить и меня осадить, – я связываю свое начало с чьим-то концом, ибо почему бы кому-то не начать свою жизнь в тот день, когда угас дух другого человека, однако имя этого человека я не назову, более важно, что в связи с ним мне сразу вспомнился кинотеатр невдалеке от Кертнерринга, где я в течение двух часов, в глубокой тьме, завороженная красками, впервые видела Венецию; шлепало по воде весло, вместе с огнями плыла по волнам музыка, и ее «та-тим-та-там» увлекало меня за собой в вереницу фигур и их отражений, их танцевальных па[6]6
Ингеборг Бахман родилась 25 июня 1926 г. 25 июня 1822 г. скончался немецкий писатель-романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман. Вероятно, рассказчица имеет в виду фильм «Сказки Гофмана» по одноименной опере Жака Оффенбаха.
[Закрыть]. Так в один ветреный, звенящий зимний день в Вене я попала в ту Венецию, которой мне никогда не видать. Эту музыку я потом часто слышала в импровизациях, вариациях, но так, как в тот раз, так полно, она уже никогда для меня не звучала, только однажды раздалась она из соседней комнаты, где ее раздергивали в клочья в ходе шумной дискуссии о крахе монархии, о будущем социализма, какой-то человек начал кричать, потому что другой что-то сказал против экзистенциализма или структурализма; напряженно вслушиваясь, я уловила еще один такт, но вскоре музыка потонула в крике, а я была вне себя, я ничего другого не хотела слышать. Я часто не хочу слышать и часто не могу видеть. Как не могла видеть умирающую лошадь, которая сорвалась со скалы возле Хермагора, правда, я прошла километры в поисках помощи, но лошадь оставила на попечение пастушонка, а он тоже ничего сделать не мог; или как не могла слышать Большую мессу Моцарта и выстрелы в деревне во время карнавала.
Не хочу я рассказывать, все мешает мне в моем Воспоминании. В комнату входит Малина, он ищет полупустую бутылку виски, подает стакан мне, наливает себе и говорит: «Тебе это все еще мешает. Все еще. Только мешает тебе другое воспоминание».
Глава первая. СЧАСТЛИВА С ИВАНОМ
Опять курила и опять пила, сосчитала сигареты – еще две сегодня можно, ведь до понедельника целых три дня, три дня без Ивана. Но через шестьдесят сигарет Иван опять будет в Вене, первым делом он узнает по телефону точное время, проверит свои часы, потом закажет разбудить себя по 00 – они откликаются сразу, после чего мгновенно заснет, так быстро, как умеет только Иван; проснется он от побудки по телефону, полный злобы, которой он каждый раз дает новое выражение, со стонами, воплями, проклятьями, обвинениями. Потом, забыв всю эту злобу, кинется в ванную, чтобы почистить зубы, принять душ, побриться. Включит транзистор и прослушает утренние известия. «Австрия 1, ААП. Передаем краткий выпуск новостей. Вашингтон…»
Но Вашингтон, и Москва, и Берлин – это всего лишь крикливые города, которые пытаются придать себе важность. В моей Унгаргассенляндии их не принимают всерьез или подсмеиваются над такой навязчивостью, как над саморекламой честолюбивых выскочек, – на мою жизнь они повлиять уже никак не могут, ведь это я со своей жизнью влилась в чужую на улице Ландштрассер-Хауптштрассе, перед цветочным магазином, название которого я еще должна узнать, остановилась же я там только из-за того, что в витрине красовался букет невиданно красных чалмовидных лилий, семижды краснее красного, а перед витриной стоял Иван, – дальше я ничего не помню, ибо сразу пошла с Иваном, сперва на почту на улице Разумовского, где нам пришлось разойтись к разным окошкам, он подошел к «Почтовым переводам», я – к «Знакам почтовой оплаты», и уже эта первая наша разлука была такой болезненной, что, встретясь опять с Иваном у выхода, я не вымолвила ни слова, а Ивану незачем было меня о чем-то спрашивать, я ведь не сомневалась в том, что должна пойти с ним дальше, прямо к нему домой, – к моему удивлению выяснилось: он живет всего за несколько домов от меня. Границы были вскоре установлены, ведь нам надо было основать крошечную страну, без территориальных претензий и без настоящей конституции, опьяненную страну, где стоят всего два дома, которые можно найти даже в темноте, при солнечном и при лунном затмении, и я знаю на память, сколько шагов должна сделать от своего дома наискосок через улицу к дому Ивана, я бы могла дойти туда с завязанными глазами. И вот большой мир, в котором я жила до сих пор, постоянно в панике, с пересохшим ртом, со следами удавки на шее, сведен теперь к ничтожно малой величине, ибо этому миру противостоит реальная сила, пусть эта сила иногда – например, сегодня – заключается только в ожидании и курении, дабы не растрачивать ее понапрасну. Я должна, сняв телефонную трубку и раз десять осторожно ее повернув, раскрутить шнур, он запутался, а надо привести его в порядок, на экстренный случай, тогда я смогу, хотя такого случая и нет, просто набрать номер: 72 68 93. Я знаю, что ответить там некому, но для меня это не важно, важно лишь, что у Ивана, в его затемненной квартире, звонит телефон, а ведь я знаю, где у него стоит аппарат, так пусть этот звонок отзовется эхом во всех вещах, принадлежащих Ивану: это я, это я звоню. Меня услышит и громоздкое глубокое кресло, в котором Иван любит сидеть и, случается, минут на пять вдруг задремывает, и шкафы, и лампа, под которой мы с ним лежим, и его рубашки, костюмы, и белье, которое он наверно бросил на пол, чтобы уборщица Агнес знала, что ей надо отнести в прачечную. С тех пор, как я могу набрать этот номер, моя жизнь перестала наконец утекать, я больше не чувствую себя сломленной, не попадаю в безвыходное положение, не двигаюсь вперед, но и не сбиваюсь с дороги, ибо я задерживаю дыхание, придерживаю время, звоню по телефону, и курю, и жду.
Если бы я по какой-либо причине два года назад не переехала бы на Унгаргассе, если бы продолжала, как в студенческие годы, жить на Беатриксгассе или за границей, что позднее бывало так часто, то моя жизнь могла бы принять любое направление и самого важного на свете я так бы никогда и не узнала: что все доступное мне – телефон, трубка и шнур, хлеб, масло и копченая селедка, которую я берегу для ужина в понедельник, потому что ее больше всего любит Иван, или колбаса «экстра», которую больше всего люблю я, – что все это помечено маркой «Иван», исходит от фирмы «Иван». Должно быть, пишущую машинку и пылесос, которые раньше производили невыносимый шум, тоже приобрела и укротила эта хорошая и могущественная фирма, дверцы машин больше не хлопают с такой силой под моими окнами, и наверно даже природа ненароком попала под присмотр Ивана, так как птицы по утрам поют тише и дают мне вкусить второй, короткий сон.
Но со дня смены владельца здесь происходит еще многое другое, и мне кажется странным, что медицина, которая считает себя наукой, к тому же, наукой быстро развивающейся, ничего об этом не знает: не знает, что здесь, в наших краях, между домами 6 и 9 по Унгаргассе понемногу утихает боль, что несчастий становится меньше, что рак и опухоли, инфаркт и астма, лихорадка, инфекции и катастрофы, даже головные боли и метеозависимость значительно ослаблены, и я задаюсь вопросом, не обязана ли я информировать ученых об этом простом средстве, дабы они в своих клинических исследованиях могли сделать резкий скачок вперед, а то ведь им кажется, будто все болезни можно одолеть, неуклонно совершенствуя медикаменты и методы лечения. Здесь почти что сняли нервный тик, сбили высокое напряжение, существующее в этом городе и, должно быть, везде, а всеобщая шизофрения, шизоидность мира, его безумная, расширяющаяся щель незаметно смыкается.
Если здесь еще и случаются волнения, то это лишь судорожные поиски чулок и шпилек для волос, легкая дрожь руки, красящей ресницы, перебирающей тени для век и тонкие кисточки, которыми их накладывают, и обмакивающей легкие ватные пушки в светлую и темную пудру. Или неудержимое увлажнение глаз при беготне из ванной в коридор и обратно, при поисках сумки, носового платка, припухшие губы, – возникают лишь такие крошечные физиологические отклонения, да еще – более легкая походка, делающая тебя на сантиметр выше, и небольшое снижение веса оттого, что близится вечер, учреждения закрываются, одно за другим, и тогда сюда проникают партизаны – грезы наяву, они бродят по Унгаргассе и будоражат улицу, нежданно заполонив ее своими замечательными прокламациями и единственным паролем, которым они пользуются для своей цели. И разве могло бы это слово, что уже сегодня определяет будущее, звучать иначе, нежели Иван?
Его зовут Иван. И снова, и снова – Иван.
Против разложения и против дисциплины, против жизни и против смерти, против случайного хода вещей, всех этих угроз по радио, заголовков в газетах, откуда прет чума, против подлости, что просачивается с верхних и нижних этажей, против медленного подтачивания изнутри и заглатывания извне, против ежеутренней оскорбленной физиономии госпожи Брайтнер, – против всего этого я выставляю здесь свой вечерний пост, жду и курю, все более обнадеженная и уверенная, и удерживаю свою позицию так долго и так уверенно, как не дано никому, ибо под этим знаком мне суждена победа.
Если Иван и создан несомненно для меня, то я все-таки не могу претендовать на него одна. Ибо он пришел, чтобы снова сделать согласные твердыми и внятными, чтобы снова открыть гласные и придать им полное звучание, чтобы позволить мне снова произносить слова, чтобы восстановить первые разрушенные взаимосвязи и разрешить проблемы, так что я ни на йоту не отойду от него, настрою в лад наши одинаковые, весело звучащие начальные буквы, которыми мы подписываем свои записочки, буду писать их одну над другой, а соединив наши имена, мы могли бы осторожно начать первыми же словами опять оказывать честь этому миру, дабы у него непременно возникло желание воздать себе честь, поскольку же мы хотим воскресения, а не разрушения, то пока остерегаемся на людях браться за руки, да и переглядываемся лишь украдкой, ведь своими взглядами Иван должен сначала смыть с моих глаз образы, которые попали на сетчатку до его появления, и если после многократного очищения снова всплывет мрачная, ужасающая, почти не смываемая картина, то Иван быстро заслонит ее какой-нибудь светлой, чтобы я не смотрела больше таким злым взглядом, чтобы утратила этот жуткий взгляд, я-то ведь знаю, откуда он у меня взялся, но я не помню, не помню…
(Ты еще не можешь вспомнить, все еще не можешь, тебе многое мешает…)
Но Иван начинает меня лечить, а потому на земле теперь совсем уж плохо быть не может.
Хотя когда-то знали все, а теперь уже не знает никто, почему это должно происходить втайне, почему я запираю дверь, опускаю шторы, почему выхожу к Ивану одна, я открою, какая тому причина. Я так хочу не для того, чтобы мы прятались, а для того, чтобы восстановить некое табу, и Малина это понял, мне и объяснять ничего не пришлось, ведь даже когда дверь в мою спальню открыта и я там одна или когда он в квартире один, он проходит мимо, прямо к себе в комнату, – будто дверь здесь никогда не бывает открыта, будто она не бывает заперта, будто здесь вообще никакой комнаты нет, – дабы ничего не опошлить и дать волю первым дерзостям и последним знакам нежной привязанности. Лина там даже не убирает – в эту комнату входить никому не положено, там не хранится и не творится ничего такого, что требовало бы разоблачения, вскрытия, анализа, ведь мы с Иваном не точим, не колесуем, не пытаем и не убиваем один другого, – мы оберегаем друг друга и охраняем то, что нам принадлежит и что неприкосновенно. Иван никогда ни о чем не спрашивает, никогда не выказывает недоверия, никогда не подозревает меня, поэтому и мои подозрения рассеиваются. Он не разглядывает два непокорных волоска у меня на подбородке, не замечает две первые морщинки под глазами, его не раздражает мой кашель после первой сигареты, он даже закрывает мне рот рукой, когда я порываюсь сказать что-нибудь необдуманное, поэтому я говорю ему, – на другом языке, – все, чего еще никогда не говорила, говорю каждой клеточкой своего существа, – он ведь никогда не захочет узнать, что я делаю в течение дня, что делала раньше, почему только в три часа утра вернулась домой, почему вчера у меня не было времени, почему телефон сегодня целый час был занят и кому я отвечаю по телефону сейчас. Ибо стоит мне начать с обычной фразы и сказать: «Я должна тебе объяснить…», как Иван меня перебивает: «Зачем, что ты мне должна объяснить, ничего не надо, вообще ничего, кому ты что должна объяснять, не мне же, да и никому вообще, ведь это никого не касается…»
– Но я должна.
– Мне ты солгать не сможешь, я знаю, я же знаю.
– Но ведь только потому, что мне это не нужно!
– Почему ты смеешься? Это было бы ничуть не стыдно, ты бы все-таки могла солгать. Так попробуй же, но ты не сможешь.
– А ты?
– Я? Разве ты должна об этом спрашивать?
– Не должна.
– Могу, конечно, попробовать, иногда кое-чего тебе не скажу. Что ты об этом думаешь?
– Я согласна. Ведь я должна быть согласна. Ты ничего не должен, – ты можешь, Иван.
Пока мы с такой легкостью разбираемся в наших отношениях, начавшаяся в городе расправа продолжается – невыносимые замечания, комментарии, обрывки слухов циркулируют в ресторанах, на вечеринках, в квартирах, у Иорданов, Альтенвилей, Ванчура, или внушаются всем неимущим с помощью иллюстрированных журналов, газет, кино, с помощью книг, где о делах и вещах говорится так, что они делают ручкой, возвращаются к себе самим и к нам; каждый норовит предстать нагим и раздеть других догола, любая тайна должна перестать существовать, должна быть взломана, как запертый сундук, но там, где тайны не было, ничего найти не удастся, а растерянность после взломов, раздеваний, перлюстраций и обысков возрастает, не горит неопалимая купина, нет ни малейшего проблеска света ни в пьяном буйстве, ни в фанатичной трезвости, и закон мироздания тяготеет над всеми еще более непонятный, чем когда-либо.
Поскольку мы с Иваном рассказываем друг другу только хорошее, а иногда и что-нибудь такое, что может нас обоих насмешить (без насмешки над кем-либо), поскольку мы доходим до того даже, что улыбаемся в состоянии отрешенности, возвращаясь к самим себе, и, стало быть, находя этому выражение, я надеюсь, что мы могли бы вызвать инфекцию. Мы будем медленно заражать наших соседей, одного за другим, этим вирусом, и я уже знаю, как надо его назвать, и если вспыхнет эпидемия, то всем людям она пойдет на пользу. Но я знаю также, как трудно заполучить этот вирус, как долго приходится ждать, пока созреешь для такого заражения, и как тяжело и совсем уж безнадежно было все у меня, прежде чем это со мной случилось!
Иван вопросительно смотрит на меня, значит, я что-то сказала, и я спешу отвлечь его внимание. Название вируса я знаю, но поостерегусь произносить его в присутствии Ивана.
– Что ты там бормочешь? Что это не просто получить? О какой болезни ты говоришь?
– Да нет же, не о болезни, я вовсе не болезнь имею в виду, просто я думаю, есть вещи, которые трудно заполучить!
Либо я действительно говорю слишком тихо, либо Иван не понимает того, что Малина давно бы понял, угадал, постиг, а ведь он не может слышать ни что я думаю, ни что говорю, к тому же я ни слова не сказала ему о вирусе.
Со мной столько всего случилось за последнее время, что я накопила больше антител, чем требуется человеку для иммунитета, – недоверие, хладнокровие, бесстрашие после слишком сильного страха, и я не знаю, как Иван повел борьбу против всего этого, против такого упорного сопротивления, против неотступной беды, ночей, точно настроенных на бессонницу, беспрерывной нервозности, упрямого отречения от всего, однако уже в первую минуту, когда Иван отнюдь не свалился с неба, а, улыбаясь одними глазами, вырос передо мной на Ландштрассер-Хауптштрассе, очень высокий и слегка склонившийся, все разом сгинуло, и за одно это я должна даровать Ивану высшие награды, а самую высокую за то, что он вновь открывает меня, наталкивается на ту, какой я была когда-то, на мои более ранние пласты, извлекает на поверхность мое засыпанное «я», и я буду благословлять Ивана за все его таланты, но за какие, за какие? Ведь конца еще не видно и наступить он не должен, так что для начала я буду иметь в виду простейший из этих талантов – то, что Иван вернул мне способность смеяться.
Наконец я начинаю интересоваться и своей плотью, своим телом, которое от презрения к нему стало для меня чужим, я чувствую, как оживает все внутри, как мышцы освобождаются от постоянной судороги, напряжение отпускает гладкую и поперечнополосатую мускулатуру, как обе нервные системы одновременно преобразуются, ибо ничто не совершается так явно, как это преобразование, этот процесс исправления, очищения, живое фактическое доказательство, которое можно даже измерить и обозначить с помощью инструментов некой новой метафизики. Как хорошо также, что я вмиг постигла, чем была застигнута в первую же минуту, и что поэтому, не притворяясь и не представляясь, сразу пошла с Иваном. Ни минуты не потеряла, ведь такое событие, о котором ты заранее знать не можешь, никогда и не догадывалась, о котором никогда не слышала и не читала, – такое событие надо хорошенько поторопить, чтобы оно могло состояться. Какой-нибудь пустяк мог бы задушить его в зародыше, пресечь ему дыхание, не дать сделать первые шаги, – настолько чувствительны начало и зарождение этой мощнейшей в мире силы, ибо мир ведь болен и не желает дать этой здоровой силе утвердиться. В нашу первую фразу мог встрять клаксон автомобиля, полицейский, который стал бы записывать номер неправильно припаркованного мотороллера, какой-нибудь прохожий, который, горланя песню и пошатываясь, протиснулся бы между нами, водитель доставочного фургона, который заслонил бы нам вид, – Господи, не перечислить, сколько всего могло бы нам помешать! Меня могла бы отвлечь сирена «скорой помощи», и я стала бы смотреть на улицу, вместо того чтобы любоваться букетом чалмовидных лилий в витрине, или Ивану пришлось бы просить у кого-нибудь огонька, и он бы меня вообще не заметил. Оттого что мы оказались среди таких опасностей, оттого что даже трех фраз, сказанных там, перед витриной, было уже слишком много, мы поскорее ушли вдвоем с этого горячего, опасного места, оставив многое недосказанным. Поэтому нам понадобилось много времени, прежде чем мы выпутались из первых коротких, ничего не значащих фраз. Я даже не знаю, можно ли сегодня уже сказать, что мы разговариваем друг с другом, что мы способны беседовать, как все другие люди.
Но мы не торопимся. Вся жизнь у нас впереди, говорит Иван.
Так или иначе, мы отвоевали себе первые, немногие группы фраз, дурацкие зачины фраз, полуфразы, окончания, окруженные ореолом обоюдной снисходительности, и большинство этих обрывков пока что можно найти в наших телефонных разговорах. Мы упражняемся в них снова и снова, так как Иван звонит мне один раз со службы на Кертнерринге, потом либо еще раз под вечер, либо вечером из дома.
Алло. Алло?
Я, кто же еще
Да, конечно, прости
Как я? А ты как?
Не знаю. Сегодня вечером?
Я так плохо тебя понимаю
Плохо? Что? Так ты можешь?
Я не совсем хорошо тебя слышу, ты можешь
Что? Что-нибудь не так?
Нет, ничего, ты можешь попозже мне еще
Конечно, лучше я позвоню тебе попозже
Я, мне надо было сегодня с друзьями
Ну, если ты не можешь, тогда
Этого я не сказал, только если ты не
Во всяком случае, созвонимся попозже
Да, но только около шести, потому что
Но для меня это уже поздно
Для меня, собственно, тоже, но
Может, сегодня не имеет смысла
К тебе кто-то пришел?
Нет, только фрейлейн Еллинек сейчас
А, так ты уже не одна
Ну пожалуйста, попозже, только обязательно!
У Ивана и у меня есть друзья и, кроме того, прочие люди, среди которых лишь изредка попадается кто-то, про кого он или я знаем, кто это, собственно, такой или хотя бы, как этого человека зовут. С друзьями и прочими людьми нам время от времени приходится ходить в ресторан, по меньшей мере на полчасика заглядывать с ними в кафе или придумывать что-то для иностранцев, которых некуда девать, а большей частью приходится еще сидеть и ждать звонка. Пусть бы случаю было угодно, чтобы Иван и я хоть один-единственный раз, действительно, только раз встретились бы в городе, он с людьми, и я с людьми, – тогда бы он, по крайней мере, понял, что я могу выглядеть по-другому, что я умею одеваться (в чем он сомневается), что я разговорчивая (в чем он сомневается еще больше). Потому что в его присутствии я смолкаю, ибо и самые пустячные слова: да, сейчас, так, и, но, тогда, ах! – особо заряжены, когда летят к нему от меня, их значение усилено во сто крат, они тысячекратно более действенны, нежели самые занимательные рассказы, анекдоты, демонстративные словесные баталии, все, что слыхивали из моих уст друзья и прочие люди, так же как жесты, капризы, повадки напоказ – ведь для Ивана у меня нет ничего напоказ, я не делаю перед ним ничего, чтобы казаться; я благодарна, когда могу смешать для него напиток, приготовить еду; потихоньку, от случая к случаю, чистить ему ботинки; когда могу пятновыводителем обработать его куртку. Сказать: «Ну вот, готово!» – значит для меня больше, чем морщить лоб над ресторанным меню, блистательно выступить перед людьми, вести дебаты; больше, чем бесконечное целование руки и просьбы о новой встрече, чем хмельные поездки домой с друзьями, лишний стаканчик, пропущенный в баре «Лоос», поцелуи направо и налево и «До скорого!» Ведь когда Иван идет обедать к «Захеру», разумеется, за счет Института и потому, что он обязан, то у меня под вечер наверняка назначена встреча кое с кем у «Захера» в Синем баре, и мы с Иваном не столкнемся, захоти я даже это спровоцировать или этому воспрепятствовать, я же сегодня ужинаю в «Штадткруге», а Иван едет с иностранцами в Гринцинг, завтра я должна нескольким людям показать Хайлигенштадт и Нусдорф, что приводит меня в отчаяние, а Иван с одним человеком будет обедать у «Трех гусар». Многие люди приезжают к нему из-за границы, ко мне тоже часто приезжают из-за границы, и это опять мешает нам увидеться, например, сегодня нам остаются только телефонные разговоры. И перед тем, как нам разойтись к разным людям, рядом с первой группой наших телефонных фраз собирается, на беглый взгляд, совсем другая группа фраз, и все они вертятся вокруг слова «например».
Иван говорит, он-де все время слышит от меня слово «например». И чтобы вытравить «напримерные» фразы из меня, он употребляет теперь «напримерные» фразы сам, например, даже в течение того часа, что остается нам до ужина.
– Так что же, например, госпожа Хитрованка? Как было, например, когда я впервые пришел в твою квартиру, на другой день? Тогда, например, вид у нас был очень недоверчивый.







