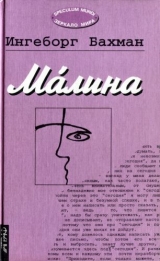
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Малина с одинаковой серьезностью рассматривает все, суеверие и лженауки он находит не более смешными, чем науки, относительно коих через каждые десять лет выясняется, сколько суеверий и лженаучности лежало в их основе и от скольких результатов они вынуждены отречься, дабы продвинуться вперед. То, что Малина все рассматривает бесстрастно, и людей и вещи, характеризует его наилучшим образом, вот почему он принадлежит к тем редким людям, которые не имеют ни друзей, ни врагов, однако не замыкаются в себе. Меня он тоже рассматривает, когда выжидательно, когда внимательно, он позволяет мне делать или не делать, что я хочу, он говорит, что людей вообще можно понять, только если не лезть к ним в душу, если ничего от них не требовать и не давать им слишком многого требовать от тебя, – все и так проявится само собой. Это равновесие, это хладнокровие, которые ему присущи, рано или поздно доведут меня до отчаяния, я-то ведь реагирую во всех ситуациях, участвую в каждом смятении чувств и несу потери, которые Малина безучастно принимает к сведению.
Есть люди, полагающие, что мы с Малиной женаты. Нам никогда не приходило в голову, что мы могли бы стать мужем и женой, что существует такая возможность, мы даже не предполагали, что другие могут такое о нас подумать. Очень долгое время мы вообще не задумывались над тем, что, подобно другим парам, появляемся всюду как муж и жена. Для нас это было полнейшим открытием, но мы не знали, что с ним поделать. Мы страшно смеялись.
Утром, когда я вяло расхаживаю туда-сюда и рассеянно готовлю завтрак, Малина способен, например, проявить интерес к ребенку, который живет напротив нас, в заднем дворе, и уже целый год выкрикивает всего два слова: «Алло, алло! Олла, олла!» Как-то раз я хотела пойти туда, вмешаться и поговорить с матерью этого ребенка, ведь очевидно, что она с ним совсем не разговаривает и здесь происходит нечто, вызывающее у меня страх за будущее, да и теперь уже эти ежедневные «алло» и «олла» – пытка для моего слуха, хуже, чем вой Лининого пылесоса, шум воды и стук тарелок. Но Малина, должно быть, слышит в этих криках что-то другое и не считает, что надо срочно известить врачей и Охрану детства, он слушает этого кричащего ребенка так, словно здесь просто возникло существо иного рода, которое вовсе не кажется ему более странным, чем существа, пользующиеся сотней, тысячей или многими тысячами слов. Я думаю, что перемены и превращения в любом смысле Малину совершенно не трогают, ибо он вообще ни в чем не видит ни хорошего, ни плохого и уж тем более ничего выдающегося. Мир для него просто такой, какой есть, каким он его застал. И все же иногда меня берет страх перед ним, оттого что его взгляд на человека отмечен величайшим, всеобъемлющим знанием, которого нельзя приобрести нигде и никогда, за всю жизнь, и нельзя передать другим. Меня глубоко оскорбляет его манера слушать, ибо во всем, что говорится, он словно улавливает нечто невысказанное, но также и то, что повторяется слишком часто. Нередко я чересчур много выдумываю, и Малина указывает мне на излишества моей фантазии, тем не менее я не сочла бы его взгляд и слух ни сверхточными, ни совершенно необычными. У меня есть подозрение, что он не видит людей насквозь, не разоблачает их, ведь это было бы весьма обычным и пошлым, к тому же и подлым по отношению к людям. Малина созерцает людей, а это нечто совсем другое, от этого они становятся не мельче, а крупнее, страшнее, мое воображение, над которым он подсмеивается, возможно, низший подвид его способности, благодаря которой он все разбирает и различает, всему придает форму и законченность. Поэтому я больше ничего не говорю Малине про трех убийц, еще меньше я хотела бы говорить о четвертом, о ком мне ему рассказывать незачем, ибо у меня своя манера выражения и я мало искусна в описаниях. Малина не хочет описаний и впечатлений о каких-то там ужинах, за которыми я когда-то сидела с убийцами. Он занялся бы всем в целом и не ограничился бы каким-то впечатлением или смутным беспокойством, а представил бы мне настоящего убийцу и через очную ставку открыл бы истину.
Я сижу, понурив голову, и потому Иван говорит:
– У тебя же нет ничего такого, ради чего бы стоило жить.
В сущности, он прав, ибо разве есть кто-нибудь на свете, кто чего-то от меня хочет, кому я нужна? Однако Малина должен мне помочь найти основание для моей жизни, хотя у меня нет ни старика отца, которому я должна быть опорой на склоне лет, ни детей, которым постоянно что-то нужно, вот как детям Ивана, – тепло, зимнее пальто, микстура от кашля, спортивная обувь. Даже закон о сохранении энергии ко мне неприменим. Я – первый пример безоглядного расточительства, существо восторженное и неспособное разумно использовать окружающий мир, я могу появиться на общественном маскараде, но могу и остаться вне его, как человек, которому что-то помешало или который забыл сделать себе маску, по небрежности уже не может найти свой костюм и потому в один прекрасный день больше не получает приглашения. Когда я стою в Вене перед какой-нибудь еще знакомой мне дверью, потому что, возможно, условилась о встрече, в последнюю минуту мне приходит в голову, что я могла ошибиться – перепутать дверь или же день и час, и я поворачиваю, возвращаюсь обратно на Унгаргассе, слишком быстро устав, слишком сильно сомневаясь.
Малина спрашивает: «Ты никогда не думала о том, сколько усилий нередко затрачивали на тебя другие люди?» Я благодарно киваю. О да, они даже наделили меня некоторыми свойствами, и тут не пожалели труда, они снабдили меня историями, а кроме того, кое-какими деньгами, чтобы я могла ходить одетая, доедать остатки, чтобы я продолжала существовать и никому бы не бросалось в глаза, как я существую. Чересчур быстро устав, я могу присесть в кафе «Музеум» и полистать газеты и журналы. У меня возрождается надежда, я возбуждена, взбудоражена, ведь теперь два раза в неделю есть прямые рейсы в Канаду, компания «Квантас» с удобствами доставляет в Австралию, охота на крупного зверя становится дешевле, кофе «доро» с солнечных плоскогорий Центральной Америки с его неповторимым ароматом надо бы уже завезти и к нам, в Вену, Кения помещает объявления, «Хенкель Розе» позволяет флиртовать с новым миром, для лифтов «Хитачи» не бывает слишком высоких домов, вышли в свет книги для мужчин, которые приводят в восторг и женщин. Чтобы ваш мир не мог стать для вас слишком тесным, существует «Престиж», дуновение дали и моря. Все говорят о залоговых свидетельствах. У нас – в наилучшей сохранности, объявляет некий ипотечный банк. В нашей обуви вы пойдете далеко – «Тарракос»; чтобы вам никогда не понадобилось заново красить жалюзи «Флексалум», мы красим их два раза. Компьютер «Руф» не бывает один! И затем – Антильские острова, le bon voyage![79]79
Счастливого пути! (фр.)
[Закрыть] Вот почему Бош-эксвизит – одна из лучших посудомоечных машин в мире. Момент истины наступает, когда клиенты задают вопросы нашему специалисту, когда обсуждается технология, калькуляция, прибыль, упаковочные машины, сроки поставок. ВИВИОПТАЛ для людей типа Ничего-не-могу-вспомнить, Примите утром… и день принадлежит вам! Стало быть, мне нужен всего только вивиоптал.
Хотела я победить под неким знаком, но раз я никому не нужна, раз мне об этом сказали, то я побеждена Иваном и этими gyerekek, с которыми мне, наверно, можно будет опять пойти в кино, в кинотеатре «Бург» сейчас идет «Микки Маус» Уолта Диснея. Кому же было и победить, как не им. Но, быть может, меня победил не один Иван, а кое-что еще, это, по-видимому, нечто более значительное, ведь все толкает нас к нашему предназначению. Иногда я еще подумываю, что бы я могла сделать для Ивана, ибо нет такой вещи, какой бы я для него не сделала, но Иван не требует, чтобы я выбросилась из окна, чтобы ради него прыгнула в Дунай, чтобы кинулась под машину, возможно, затем, чтобы спасти Белу и Андраша, – у него так мало времени и никаких потребностей. Он не хочет также, чтобы я вместо г-жи Агнес убирала его две комнаты, стирала и гладила его белье, он хочет только заскочить ко мне на минутку, получить свою порцию виски с тремя кубиками льда и спросить, как вообще дела, он и мне позволяет спросить, как вообще дела у него самого и в доме возле Метеостанции. На Кертнерринге всегда одно и то же, много работы, но ничего особенного. Для партии в шахматы времени слишком мало, я больше не делаю успехов в шахматной игре, так как играем мы все реже. Не знаю, с каких пор мы реже играем, в сущности, мы больше совсем не играем, группы фраз на шахматные темы покоятся нетронутые, некоторые другие группы тоже заброшены. Но ведь не может быть, чтобы фразы, к которым мы так медленно шли, теперь, тоже медленно, нас покинули. Однако возникает новая группа фраз.
К сожалению, у меня со временем
Конечно, если у тебя туго со временем
Просто сегодня у меня особенно мало времени
Разумеется, раз у тебя сейчас нет времени
Если потом у меня будет побольше времени
Со временем мы, конечно же, это только теперь
Мы ведь можем потом, когда у тебя будет время
Как раз в это время, если все наладится
Тебе бы надо поаккуратней со временем
Мне бы только поспеть вовремя
Ах, Господи, смотри не пропусти время
У меня никогда еще не было так мало времени, очень жаль
Когда у тебя опять будет побольше времени, то, возможно
Позже у меня будет побольше времени!
Каждый день мы с Малиной, иногда даже под градусом, напряженно раздумываем над тем, что бы еще ужасного могло случиться в Вене сегодня ночью. Ведь если позволить себе увлечься и прочесть газету, если доверчиво воспринять несколько сообщений, то воображение начинает работать на всю катушку (это словцо придумала не я и даже не Малина, но Малина привез его, как забавную находку, из путешествия по Германии, ведь выражения вроде «на всю катушку» можно подобрать лишь в таких деятельных, живых странах). Но постоянно соблюдать воздержание от газет я не могу, хотя все удлиняются периоды, когда я не читаю уже ни одной или только, заходя в кладовку, где рядом с нашими чемоданами лежит пачка журналов и газет, наугад вытаскиваю какую-нибудь и ошеломленно смотрю на дату: 3 июля 1958 года.[80]80
Дата первой встречи Ингеборг Бахман с Максом Фришем.
[Закрыть] Что за наглость! Даже в этот давно минувший день они без всякого толку пичкали нас сообщениями, суждениями о сообщениях, извещали о землетрясениях, авиакатастрофах, внутриполитических скандалах, внешнеполитических промахах. Когда сегодня я смотрю на газету от 3 июля 1958 года и пытаюсь поверить в реальность этой даты и соответствующего ей дня, который, возможно, действительно был, хотя в своем ежедневнике я не нахожу под этим числом никаких записей, никаких сокращенных обозначений вроде: «15 ч. Р.1 17 ч. звонил В., вечером Гессер, доклад К.», – это относится к 4, а не к 3 июля, тот листок остался пустым. Вероятно, это был день без загадок, наверняка и без головной боли, без приступов страха, без невыносимых воспоминаний, разве только с немногими, всплывшими из разных времен; возможно, просто день, когда Лина затеяла летнюю генеральную уборку, а я, изгнанная из дома, сидела то в одном, то в другом кафе, читая газету за 3 июля, экземпляр которой читаю сегодня. Вот единственное, что делает этот день загадкой: это пустой или обобранный день, когда я стала на день старше, когда я не сопротивлялась и позволила чему-то случиться.
За 3 июля я нахожу еще иллюстрированный еженедельник, а на полках у Малины – июльский номер одного культурно-политического журнала, и вот я начинаю лихорадочно их просматривать, я хочу узнать что-нибудь про этот день. Анонсируются книги, которых я никогда не видела. КУДА ДЕВАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ? – вот один из самых непонятных заголовков, даже Малина не сможет мне его объяснить. Так куда же девались те деньги и что за деньги надо было куда-то девать? Хорошее начало, такие заголовки способны довести меня до дрожи, до трясучки. КАК СРЕЖИССИРОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ? Написано с превосходным знанием дела и с суховатым, порой саркастичным юмором. Подсказки для читателей, которые хотят мыслить политически, хотят, чтобы их просветили. Нужно нам это, Малина? Я беру шариковую ручку и начинаю заполнять анкету. Как я информирована: достаточно, хорошо, очень хорошо, выше среднего уровня? Ручка сначала пачкает, потом кажется, будто она пуста, потом опять пишет чисто. Я ставлю крестики в маленьких пустых клеточках. Делает ли вам ваш муж подарки: никогда, редко, неожиданно или же только в день рождения и в день свадьбы? Я должна быть сугубо осторожна, все зависит от того, о ком из них я думаю – о Малине или об Иване, и я ставлю крестики обоим, Ивану, например, «никогда», Малине – «неожиданно», но на это тоже нельзя полагаться. Вы одеваетесь, чтобы хорошо выглядеть на людях или чтобы нравиться ЕМУ? Ходите ли вы к парикмахеру регулярно – раз в неделю, раз в месяц или только когда есть крайняя нужда? Какая нужда имеется в виду? Какой государственный переворот? Мои волосы свисают над государственным переворотом и находятся в крайней нужде, так как я не знаю, стричь мне их или нет. Иван считает, что мне надо их отрастить. Малина полагает, их надо обстричь. Вздыхая, я подсчитываю крестики. В итоге у Ивана получилось 26 очков, у Малины тоже 26, хотя крестики мне пришлось им ставить в совершенно разных клетках. Я складываю еще раз. Все те же 26 очков у каждого. «Мне 17 лет, и у меня такое чувство, будто я неспособна любить. Увлекусь каким-нибудь мужчиной, а всего через несколько дней уже другой. Может, я чудовище? Моему теперешнему другу 19 лет, и он в отчаянии, потому что хочет на мне жениться». «Синяя молния» врезалась в «Красную молнию», 107 погибших и 80 раненых».
Прошло уже много лет, а нам преподносят все то же: дорожные аварии, какие-то преступления, известия о предстоящих встречах на высшем уровне, прогнозы погоды. Ни один человек сегодня уже не знает, для чего когда-то понадобилось все это сообщать. Лаком для волос «Пантин», который тогда рекламировали, я начала пользоваться всего несколько лет назад, и незачем было мне его рекомендовать в то давным-давно минувшее 3 июля, а уж сегодня и вовсе.
Вечером я говорю Малине:
– Единственное, что осталось, это, похоже, лак для волос, видимо, к этому все и сводится, потому что я по-прежнему не знаю, куда девать столько денег и как срежиссировать государственный переворот, во всяком случае, денег выбрасывается слишком много. Теперь они этого добились. Когда флакон лака у меня иссякнет, другого я на сей раз покупать не стану. У тебя 26 очков, больше ты требовать не можешь, больше я просто не могу тебе дать. Делай с ними что хочешь. А помнишь, как «Синяя молния» врезалась в «Красную молнию»? Благодарю! Так я и думала, вот каково твое сочувствие к несчастьям, выходит, ты не лучше меня. Но очень может быть, что все это – невероятный обман.
Поскольку Малина ни слова не понял, – я покачиваюсь в качалке, он уютно устраивается, предварительно принеся нам кое-что выпить, – то я начинаю рассказывать.
Это невероятный обман, я когда-то работала в агентстве новостей и видела этот обман вблизи, возникновение сводок, составленных без разбора из фраз, испускаемых телетайпами. Однажды, из-за того, что кто-то заболел, мне пришлось перейти в ночную смену. В одиннадцать часов вечера за мной пришла большая черная машина, шофер сделал в Третьем районе небольшой крюк, и недалеко от Райзнерштрассе к нам подсел молодой человек, некий Питтерман, нас отвезли на Зайденгассе, где во всех служебных помещениях было темно и безлюдно. В ночных редакциях газет, расположенных в том же доме, тоже редко кто показывался. По доскам, так как полы в коридорах были разобраны, ночной швейцар провел нас в самые дальние комнаты – на каком этаже, я забыла, не помню уже, ничего не помню… Каждую ночь мы оставались вчетвером, я варила кофе, иногда мы посылали за мороженым, ночной швейцар знал, где его взять. Мужчины читали листы, которые выплевывали телетайпы, что-то вырезали, склеивали, составляли. Мы не то чтобы шептались, но говорить громко ночью, когда в городе все спят, почти невозможно, мужчины иногда пересмеивались, а я молча попивала свой кофе и курила, они бросали сообщения на мой маленький стол с пишущей машинкой, сообщения, выбранные по случайной прихоти, а я переписывала их набело. Я не умела тогда ни над чем смеяться вместе с ними, и потому отдавала себе отчет в том, какие новости разбудят людей на другое утро. Сводку новостей мужчины всегда завершали коротким абзацем, касающимся бейсбола или бокса по ту сторону Атлантики.
Малина: Как тебе тогда жилось?
Я: К трем часам лицо у меня делалось все более серым, я постепенно сникла, сломилась, тогда я и была сломлена, я утратила очень важный внутренний ритм, его уже не вернуть. Я опять и опять пила кофе, у меня начала все чаще дрожать рука при письме, а потом совершенно испортился почерк.
Малина: Так что я, наверно, единственный, кто еще может его разобрать.
Я: Вторая половина ночи не имела с первой ничего общего, одна ночь словно вбирала в себя две разные ночи, представь себе первую – она озорная, ребята еще острят, пальцы быстро бьют по клавишам, все пока еще в движении, два маленьких, худеньких евразийца считают себя умней и экстравагантней, чем медлительный господин Питтерман, который иначе как неуклюже и с шумом двигаться не умеет. А движение важно, ведь можно себе представить, что где-то в другом месте в эту ночь еще пьют и буянят, или что из-за пресыщенности днем минувшим и отвращения ко дню наступающему еще возможны объятия, или что где-то танцуют до упаду. Для первой ночи определяющим еще является день с его излишествами. Только во вторую ночь тебе приходит в голову, что это ночь, все примолкли, время от времени кто-нибудь встает, чтобы потянуться, потихоньку размяться, хотя мы пришли на службу вполне выспавшиеся. К пяти часам утра мы чувствовали себя ужасно, каждый сгибался под неведомой тяжестью, я шла мыть руки и растирала себе пальцы старым грязным полотенцем. В здании на Зайденгассе было жутко, как на месте преступления. Там, где мне слышались шаги, никого не было, телетайпы останавливались, стрекотали снова, я бежала обратно в нашу большую комнату, где уже чувствовался запах пота, несмотря на табачный дым. Это были первые признаки усталости от бессонной ночи. К семи часам утра мы расходились, почти не прощаясь, мы с молодым Питтерманом садились в черную машину и молча смотрели в окно. Женщины на улицах несли свежее молоко и свежие булочки, мужчины шли целеустремленным шагом – папки под мышкой, воротники пальто подняты, у рта – легкий утренний парок; у нас, сидевших в лимузине, были грязные ногти, пересохшие губы и горький вкус во рту. Молодой человек выходил недалеко от Райзнерштрассе, а я на Беатриксгассе. Держась за перила, я тащилась до дверей квартиры; я боялась встретить в передней баронессу, которая в это время выходила из дома, отправляясь в Отдел социального обеспечения, – она не одобряла мое таинственное возвращение в этот час. Потом я долго не могла уснуть, лежала на кровати одетая, с несвежим запахом, ближе к полудню раздевалась и тогда действительно засыпала, но сон был беспокойный, в него все время врывались дневные шумы. Бюллетень уже циркулировал, новости делали свое дело, я никогда их не читала. Два года я жила без новостей.
Малина: Значит, не жила. Когда ты попыталась жить, чего ты дожидалась?
Я: Высокочтимый Малина, у меня случалось ведь и по нескольку свободных часов, был и один свободный день в неделю, для разных мелких дел. Но я не знаю, как живет человек в первую часть своей жизни, это должно быть похоже на первую часть ночи с ее озорными часами, только такие часы у себя мне отыскать трудно, ибо как раз тогда я взялась за ум, и на это у меня, по-видимому, ушло все оставшееся время.
Большой черный автомобиль внушал мне ужас, наводя на мысли о таинственных поездках, о шпионаже, о зловещих интригах, в то время по Вене упорно ходили слухи, что она перевалочный пункт, что идет торговля людьми, что людей и документы похищают, закатав их в ковры, что каждый, даже сам того не ведая, работает на какую-то из сторон. Ни одна сторона ничем себя не выдавала. Каждый, кто работал, был, сам того не ведая, проституирован, – где я это слышала раньше? Почему я над этим смеялась? Это было начало универсальной проституции.
Малина: Ты когда-то рассказывала мне это совсем по-другому. После университета ты нашла себе работу в каком-то учреждении, на жизнь более или менее хватало, но все-таки не вполне, поэтому позднее ты согласилась на ночную смену, так как за нее платили больше, чем за дневную.
Я: Я не рассказываю, я не буду рассказывать, я не могу рассказывать, в моем Воспоминании не раз возникает затор. Скажи-ка мне лучше, что ты делал сегодня у себя в Арсенале?
Малина: Ничего особенного. Обычные дела, а потом пришли киношники, им надо снимать битву с турками. Курт Свобода ищет материал, у него заказ. Кроме того, мы дали разрешение еще на один фильм, его будут снимать немцы в Зале Славы.
Я: Я бы с удовольствием побывала на съемках фильма. Или участвовала в массовке. Разве это не отвлекло бы меня, не переключило на другие мысли?
Малина: Да это просто скучно, длится часами, днями, ходишь, спотыкаясь о кабель, все стоят и смотрят, а чаще всего вообще ничего не происходит. В воскресенье я дежурю. Говорю только для того, чтобы ты имела это в виду.
Я: Тогда мы могли бы пойти поужинать, но я еще не готова. Пожалуйста, позволь мне разок позвонить по телефону, это всего минута. Всего минута, ладно?
В моем Воспоминании затор, всякое воспоминание для меня ломка. Тогда, среди развалин, у нас не было вообще никакой надежды, это мы говорили, твердили друг другу, мы пытались представить себе то время, которое потом стали называть «первые послевоенные годы». О «вторых» слышать не приходилось. Это тоже было обманом. Я позволила почти убедить себя в том, что, когда будут снова вставлены дверные и оконные рамы, когда исчезнут груды обломков, тогда сразу станет получше, можно будет вселиться в дома и жить в них опять. Но один тот факт, что я годами хотела сказать кое-что на тему «вселиться в дома и жить в них опять», сказать о том, какую это мне внушает тревогу, хотя ни у кого не было желания меня слушать, говорит сам за себя. Никогда бы я не подумала, что сначала все должно быть разграблено, украдено, распродано и снова трижды перепродано и перекуплено. Говорят, возле Рессельпарка был самый большой черный рынок, как только начинало смеркаться, его надо было объезжать через Карлсплац, находиться вблизи было опасно. В один прекрасный день черный рынок якобы прекратил свое существование. Однако в этом я не уверена. Родился универсальный черный рынок, и когда я покупаю сигареты или яйца, то знаю, – правда, только теперь, – что все это с черного рынка. Рынок и вообще-то черный, таким черным он тогда еще быть не мог, ему недоставало универсальной плотности. Позднее, после того, как все витрины опять заполнились и в них уже громоздились консервы, коробки, ящики, я больше ничего не могла покупать. Едва я входила в какой-нибудь большой универмаг на Марияхильферштрассе, например, к Гернгроссу, мне становилось дурно. Кристина в то время отсоветовала мне ходить в маленькие дорогие магазины, Лина больше склонялась к Герцманскому, чем к Гернгроссу, и я вроде бы тоже, но я не смогла, я не могу рассматривать одновременно больше одной вещи. Тысячи всевозможных тканей, тысячи консервных банок, колбас, туфель и пуговиц – все это скопление товаров видится мне сплошной черной массой. Все, что выражено в больших числах, подвергается слишком большой опасности, масса должна оставаться чем-то абстрактным, формулой из какого-то учения, которой можно оперировать, должна обладать чистотой математики, только математика признает красоту миллиардов, но миллиард яблок несъедобен, а тонна кофе наводит уже на мысль о бесчисленных преступлениях, миллиард людей – это что-то немыслимо испорченное, жалкое, мерзкое, впутанное в черный рынок, с ежедневной потребностью в миллиардах булок, картошек и порций риса. Даже когда еды давно уже было вдоволь, я еще долго не могла по-настоящему есть, да и сейчас я тоже могу есть только с кем-нибудь за компанию или совсем одна, когда передо мной лежит всего одно яблоко и один кусок хлеба, когда остался один ломтик колбасы. Что-то должно оставаться.
Малина: Если ты не перестанешь об этом говорить, то сегодня вечером мы уже никакой еды не получим. Я бы мог съездить с тобой на Кобенцль, вставай, одевайся, не то будет поздно.
Я: Пожалуйста, не надо забираться так высоко. Я не хочу видеть город у своих ног, зачем нам нужно, чтобы у наших ног сразу оказался целый город, когда мы всего-навсего хотим поесть. Пойдем куда-нибудь поближе. К «Старому Хеллеру».
Это началось уже тогда, в Париже, после первого моего бегства из Вены. Какое-то время мне было больно ступать на левую ногу, и боль вызывала у меня стоны: «Ах, Боже мой, о Боже». Так эти опасные, чреватые последствиями приступы нередко сначала затрагивают тело, исторгая у человека известные слова, ибо до этого я только на семинарах по философии свела абстрактное знакомство с Богом, так же, как с понятиями Бытие, Ничто, Сущность, Существование, Брахма.
В Париже у меня чаще всего не было денег, но всякий раз, когда деньги у меня подходили к концу, я испытывала потребность устроить на них что-нибудь необыкновенное, это и теперь так, нельзя просто потратить деньги, у меня должна появиться заключительная идея, как мне следует их потратить, ведь если мне что-нибудь подобное приходит в голову, то секунду-другую я сознаю, каким образом сонаселяю эту планету и составляю частицу ее постоянно сильно прибывающего и слабо убывающего населения, и как эта планета, переполненная алчущим населением, которое невозможно накормить досыта и которое живет в неизбывной нужде, вращается во Вселенной, так что если я, благодаря земному притяжению, держусь на ней с пустым карманом и с идеей в голове, то знаю, что делать.
Тогда, невдалеке от улицы Монж, по дороге на площадь Контрэскарп, я купила в маленьком бистро, которое было открыто всю ночь, две бутылки красного вина, а потом еще бутылку белого. Я подумала, а вдруг кто-то не любит красное, в конце концов нельзя же приговорить человека к красному вину. Бродяги спали или делали вид, будто спят, я подкралась к ним и положила бутылки возле них, достаточно близко, чтобы исключить ошибку. Они должны были понять, что бутылки принадлежат им по праву. В другую ночь, когда я сделала это опять, один из клошаров проснулся и что-то сказал про Бога: «que Dieu vous…», а позднее в Англии я услышала что-то вроде «…bless you»[81]81
Да благословит вас Бог (фр., англ.).
[Закрыть]. Подробности я, разумеется, забыла. Я допускаю, что одни блажные и больные так обращаются к другим и потом продолжают где-то жить, как продолжаю где-то жить я, покрытая всеми возможными болячками.
Один из тех мужчин в Париже, только не знаю, тот ли, что проснулся тогда ночью, звался Марсель, у меня в памяти осталось только его имя, ключевое слово в числе других подобных слов, как улица Монж, как два-три названия гостиниц и номер комнаты – 26. О Марселе же мне известно, что его больше нет в живых и что смерть его была необычной…
Малина перебивает меня, он меня оберегает, но, боюсь, это его желание меня оберегать приведет к тому, что я никогда не приступлю к рассказу. Малина – вот кто не дает мне рассказывать.
Я: Ты полагаешь, что в моей жизни ничего больше не изменится?
Малина: О чем ты на самом деле думаешь? О Марселе, или все об одном – о том, что заставляет тебя нести этот крест?
Я: Что это ты вдруг про крест? С каких пор ты употребляешь такие расхожие выражения?
Малина: Пока что ты вполне хорошо меня понимала, с выражениями или без оных.
Я: Дай-ка мне сегодняшнюю газету. Ты мне испортил весь рассказ, ты еще пожалеешь о том, что не узнал про весьма удивительный конец Марселя, ведь рассказать о нем кроме меня нынче уже некому. Другие живут где-то или где-то померли. Марселя наверняка забыли.
Малина протянул мне газету, которую он иногда приносит из Музея. Я переворачиваю первые страницы и заглядываю в гороскоп. «Немного больше мужества – и вы одолеете возникающие у вас трудности. Будьте осторожней с уличным движением. Спите, сколько вам хочется». В гороскопе Малины что-то говорится о его сердечных делах, которые развиваются очень бурно, но вряд ли его это интересует. Кроме того, ему надо беречь бронхи. Я никогда не думала о том, что у Малины могут быть бронхи.
Я: Как поживают твои бронхи? У тебя вообще-то есть бронхи?
Малина: Почему же нет? И как их может не быть? Бронхи есть у каждого человека. С каких это пор ты беспокоишься о моем здоровье?
Я: Я просто спрашиваю. Как ты провел сегодняшний день, очень бурно?
Малина: Где? Не в Арсенале же. Я, во всяком случае, не заметил. Я подшивал документы.
Я: И все же немножечко бурно? Быть может, если ты хорошенько подумаешь, то признаешь, что чуточку бурно.
Малина: Почему ты так недоверчиво на меня смотришь: ты мне не веришь? Да это же просто смешно! И что ты уставилась в одну точку, что ты видишь? Тут нет ни паука, ни тарантула, это пятно ты посадила сама, несколько дней назад, когда наливала кофе. Что ты видишь?
Я вижу, что на столе кое-чего не хватает. Чего именно? Здесь очень часто кое-что лежало. Здесь почти всегда лежала неполная пачка любимых сигарет Ивана, он намеренно ее забывал, чтобы, когда понадобится, сразу найти у меня сигарету. Я вижу, что на этом месте он давно уже ничего не забывал.
Я: Ты никогда не думал о том, что мы могли бы жить в каком-нибудь другом месте? Где больше зелени. Вот, например, в Хицинге скоро освобождается прекрасная квартира, Кристина это знает от друзей, чьи друзья оттуда выезжают. У тебя было бы больше места для книг. Здесь же вообще больше нет места, с полок уже все валится, из-за твоей мании, я ничего против твоей мании не имею, но это именно мания. И еще ты уверял, что в коридоре все еще пахнет кошачьей мочой от Фрэнсис и Троллопа. Лина говорит, она этого больше не замечает, это просто твоя особая чувствительность, ты ведь очень чувствителен.
Малина: Я ни слова не понял. Почему это мы должны ни с того ни с сего переехать в Хицинг? Ни один из нас никогда не стремился жить в Хицинге, или в районе Метеостанции, или в Дёблинге.
Я: Только не Метеостанция, пожалуйста! Я сказала Хицинг. Мне кажется, раньше ты ничего не имел против Хицинга!
Малина: Да эти места похожи одно на другое, об этом вообще не может быть и речи. Но только не начинай сразу плакать.







