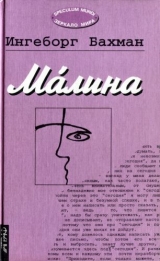
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Малина: Значит, я для тебя большей частью не живу?
Я: Ты живешь. Даже большей частью живешь, но ведь ты и доказываешь мне, что живешь. А что мне доказывают другие? Решительно ничего.
Малина: «…бархатная чернота бездонного неба».
Я: Это можно бы использовать. Звучит так, словно тот, кто это написал, живет. Вот, наконец-то, сюрприз.
Малина: «Перед глазами стали проплывать немигающие звезды на фоне темно-фиолетового с переходом в бархатную черноту бездонного неба. В некоторых случаях в поле зрения попадали только по две звезды».
Я: О! Как этот автор точен в описаниях.
Малина: «Вид звезд сменялся видом Земли и Солнца. Солнце было очень ярким и представлялось как бы вколоченным в черноту неба»[83]83
A.A. Леонов, В.И.Лебедев. Восприятие пространства и времени в космосе. М, Наука, 1968.
[Закрыть].
Я: Кто этот мистик?
Малина: Алексей Леонов, который на десять минут выходил в открытый космос.
Я: Неплохо. Но вот «бархатная чернота», не знаю, сказала бы я «бархатная» или нет. Что, этот человек еще и поэт?
Малина: Нет, в свободное время он занимается живописью. Долгое время он не мог решить, кем ему стать – художником или космонавтом.
Я: Это понятные сомнения при выборе профессии. Но говорить потом о космосе, как говорил бы странствующий подмастерье у романтиков…
Малина: Люди не так уж меняются. Что-то всегда их захватывает, если только это бесконечно, или невообразимо, или необъяснимо, бархатная чернота, они гуляют в лесу или выходят в космос, блуждая среди тайны со своей собственной тайной.
Я: И это передается потомкам! Так что можно бы перестать удивляться прогрессу. Со временем Леонов получит дачу и начнет разводить розы, а через много лет люди с мягкой улыбкой будут слушать, как он опять рассказывает про «Восход-2». Дедушка Леонов, расскажи, пожалуйста, как это было тогда, в первые минуты, там, снаружи! Жила-была Луна, на которую все хотели полететь, только Луна была очень далеко и совсем не обустроена, но в один прекрасный день явился Счастливец Алексей, и смотри-ка…
Малина: Довольно странно, что он не заметил Урала, так как именно в эту минуту кувыркался в мировом пространстве рядом с кораблем.
Я: Это было неизбежно. Кувыркаешься большей частью тогда, когда хочешь что-то разглядеть или понять, Урал или подобающее слово, какую-то мысль или подобающие слова. Со мной происходит совершенно то же самое, что с нашим дедушкой, от меня все время что-то ускользает, но только у меня внутри, когда я исследую бесконечное пространство, которое есть во мне. Не столь уж многое изменилось с того доброго старого времени, когда люди впервые отправились в космос.
Малина: Бесконечное пространство?
Я: Конечно. Разве может это пространство не быть бесконечным?
Я должна прилечь на часок, из которого в конце концов получаются два, оттого что долгих разговоров с Малиной я не выдерживаю.
Малина: Ты обязательно должна как-нибудь навести у себя порядок, разобрать все эти пыльные, выцветшие бумаги и бумажонки, ведь со временем никто в них ничего не поймет.
Я: Что ты сказал? Что это значит? Никто и не должен в них что-нибудь понимать. У меня найдутся причины для того, чтобы все это больше и больше запутывать. Но если кто-нибудь и вправе взглянуть на эти «бумажонки», то это ты. Однако ты ничего в них не поймешь, дорогой мой, с годами для тебя станет полнейшей загадкой, что означает та или эта.
Малина: Но дай мне хотя бы попробовать.
Я: Тогда уясни себе, почему сверху опять оказался старый листок, я могла бы уже по формату бумаги – DIN-A4[84]84
DIN – Deutsche Industrienorm – германский промышленный стандарт, здесь – формат бумаги.
[Закрыть] – определить, где я ее купила: в деревенской лавочке невдалеке от известного озера, а речь тут идет о тебе, о поездке в Нижнюю Австрию. Но читать все я тебе не дам, ты можешь взглянуть только на два слова, написанные сверху.
Малина: «Личины смерти».
Я: Но на следующем листке, DIN-A2, написанном двумя годами позже, значится: «Причины смерти». Что я хотела этим сказать? Возможно, это описка. Отчего она произошла, когда и где? А вот угадай, что я написала про тебя и про Атти Альтенвиля? Ни за что не угадаешь! Впереди вас тогда по извилистой дороге медленно поднимался в гору большой грузовик с бревнами, ты заметил, что плохо закрепленные бревна начали скатываться назад, ты увидел, как весь грузовик стал откатываться назад, прямо на вашу машину, и тогда, и тогда… Ну говори же!
Малина: Как ты могла все это вообразить? Ты, наверно, была не в себе.
Я: Я и сама не знаю, но это вовсе не воображение, ведь вскоре за тем опять кое-что случилось, ты, Мартин и Атти пошли ночью поплавать в Вольфгангзее, ты заплыл дальше всех, и левую ногу тебе свело судорогой, и тогда, и тогда… Ты что-нибудь еще об этом знаешь?
Малина: Как ты могла об этом проведать, просто невероятно, что тебе это стало известно, тебя ведь там не было.
Я: Пусть меня там и не было, но ты все-таки отчасти признаешь, что я могла там быть, даже если меня там и не было. А история с розеткой? Почему тогда, ночью, ты не захотел у себя в комнате вставить вилку в розетку, почему сидел в темноте, что такое случилось вдруг со всеми выключателями, отчего тебе пришлось так часто оставаться в темноте?
Малина: Я часто оставался в темноте. В ярком свете тогда была ты.
Я: Нет, это я выдумала, просто так.
Малина: Однако это правда. Ну, и откуда ты это знаешь?
Я: Знать я этого не могу, так как же это может быть правдой?
Я не могу говорить дальше, – Малина берет два листка бумаги, комкает и бросает мне в лицо. Хотя бумажный комок не причиняет боли и сразу падает на пол, я его почему-то боюсь. Малина берет меня за плечи и встряхивает, он мог бы еще ударить меня кулаком в лицо, но этого он не сделает, ему и без того придется кое-что услышать. Но затем следует оплеуха, которая приводит меня в чувство, я опять сознаю, где я.
Я: (accelerando) Нет уж, я не засну.
Малина: Где это было? На подъездах к Штокерау?
Я: (crescendo) Перестань! В каком-то месте недалеко от Штокерау, не бей меня, пожалуйста, только не бей, это было под самым Корнойбургом, но перестань меня спрашивать. Ведь раздавили меня, а не тебя!
Я сижу, лицо у меня пылает, разгораясь все ярче, и прошу Малину подать мне пудреницу из сумочки. Наступаю на комки бумаги и отбрасываю их ногой, но Малина подбирает их и тщательно разглаживает. Не заглядывая в эти бумажки, он кладет их обратно в ящик. Мне надо в ванную, ведь пока у меня такой вид, мы не сможем выйти, надеюсь, фонаря под глазом не будет, на лице только красные пятна, а я хочу сейчас непременно пойти к «Трем гусарам», Малина мне обещал, ведь у Ивана нет времени. Малина считает, что страшного ничего нет, надо только нанести побольше тонального крема «под загар», вдобавок я слегка смазываю щеки fond de teint[85]85
Увлажняющий крем (фр.).
[Закрыть], Малина прав, страшного ничего нет и по дороге, на свежем воздухе, все пройдет. Малина обещает мне спаржу под sauce Hollandaise[86]86
Голландский соус (фр.).
[Закрыть] и еще снежки с шоколадом. В этот ужин я больше не верю. Пока я второй раз намазываю ресницы тушью, Малина спрашивает:
– Откуда ты все знаешь?
Сегодня ему больше не следует меня спрашивать.
Я: (presto, prestissimo) Но я хочу спаржу под sauce Mousseline[87]87
Соус с взбитыми сливками (фр.).
[Закрыть] и Crème Caramel[88]88
Крем-карамель (фр.).
[Закрыть]. Я не ясновидящая. Просто я выстояла. Это я чуть было не утонула, а не ты. Я хочу не Crème Caramel, а Crêpes surprise[89]89
Блинчики «сюрприз» (фр.).
[Закрыть].
Ибо из подобных желаний в эти минуты, когда жизнь Малины начинает теснить мою, еще складывается жизнь.
Малина: Что ты понимаешь под жизнью? По-моему, ты хочешь еще кому-то позвонить, или давай лучше пойдем к «Трем гусарам» втроем. Кого бы тебе хотелось позвать – Александра или Мартина, может, тогда тебе придет в голову, что ты понимаешь под жизнью.
Я: Да, если бы я еще что-нибудь под этим понимала… Ты прав, лучше позвать кого-нибудь третьего. Я надену старое черное платье с новым поясом.
Малина: Накинь еще шарф, ты знаешь какой. Сделай мне такое одолжение, раз уж ты никогда не надеваешь платье в полоску. Почему ты его никогда не надеваешь?
Я: Я еще разок его надену. Пожалуйста, не спрашивай меня сейчас. Я должна себя перебороть. Но вообще мне нравится жить только с тобой, с этим шарфом, который ты подарил мне в самом начале, и со всеми вещами, что последовали за ним. Жить – это значит читать страницу, которую прочел ты, или смотреть тебе через плечо, когда ты читаешь, читать вместе с тобой и не забывать ничего из прочитанного, как ничего не забываешь ты. Это значит также расхаживать в том пустом пространстве, в котором все уже нашло свое место – дорога к Глану и дороги вдоль Гайля, я разлеглась по всей Гории со своими тетрадями и опять заполняю их каракулями: «Кто знает, Зачем нам жизнь дана, найдет Как сладить с ней». Я переживаю вновь даже самые ранние свои времена с тобой, словно мы были вместе изначально, переживаю всегда заодно с нынешними, пассивно, ничего не затевая, ни к чему не взывая. Я просто позволяю себе жить. Пусть все возникает и воздействует на меня одновременно.
Малина: Что такое жизнь?
Я: То, чем невозможно жить.
Малина: Что это?
Я: (più mosso, forte) Оставь меня в покое.
Малина: Что?
Я: (molto meno mosso) To, что ты и я можем сложить вместе, и есть жизнь. Тебе этого достаточно? «Оба» и так далее и тому подобное.
Малина: Я было подумал, что тебе не нравится прежде всего «Я».
Я: (soavemente) Разве тут есть противоречие?
Малина: Есть.
Я: (andante con grazia) Противоречия нет до тех пор, пока я тебя хочу. Не себя мне хочется, а тебя, и как ты это находишь?
Малина: Это было бы самым опасным твоим приключением. Но оно уже началось.
Я: (tempo) Да, верно, началось давно и давно было жизнью, (vivace) Знаешь, что я сейчас у себя заметила? Что кожа у меня не такая, как раньше, она просто стала другой, хоть я и не могу обнаружить ни одной новой морщины. Морщины все те же, они появились у меня еще в двадцать лет, только они становятся глубже, резче. Если это признак, то чего? В общем, известно, куда это ведет, – к концу. Но какими мы придем к концу? Под каким морщинистым лицом скроешься ты, скроюсь я? Не старение поражает меня, а та неизвестная, которая последует за прежней неизвестной. Какой я буду тогда? Я задаю себе этот вопрос, как с незапамятных времен человек спрашивал себя, что будет с ним после смерти, ставя всегда большой вопросительный знак, а он лишен смысла, потому что это невозможно себе представить. Рассуждая разумно, я тоже не могу ничего такого себе представить. Я знаю только, что я уже не такая, какой была раньше, ничуть не более известная мне самой и ни на йоту не ближе. Просто за мною следом всегда кралась неизвестная, оборачиваясь следующей неизвестной.
Малина: Не забудь, что у этой неизвестной сегодня еще что-то на уме, у нее еще кто-то на уме, возможно, она любит, кто знает, возможно, ненавидит, возможно, хочет еще раз кому-то позвонить.
Я: (senza pedale) Это тебя не касается, ибо не относится к делу.
Малина: Очень даже относится, так как весьма ускорит дело.
Я: Да, этого тебе бы хотелось, (piano) Увидеть еще одно поражение, (pianissimo) Еще и это.
Малина: Я же тебе сказал только, что это все ускорит. Ты себе больше не будешь нужна. Мне ты не будешь нужна тоже.
Я: (arioso dolente) Кто-то мне уже говорил, что у меня нет никого, кому я нужна.
Малина: Этот «кто-то», видимо, имел в виду нечто другое. Не забудь, что я думаю иначе. Ты слишком давно забыла, как я существую рядом с тобой все это время.
Я: (cantabile) Чтобы я – и забыла? Забыла тебя?
Малина: Как ловко ты умеешь обманывать меня своей интонацией и одновременно как бы невзначай выбалтывать правду!
Я: (crescendo) Чтобы я – и забыла тебя?
Малина: Пошли. Ты все взяла?
Я: (forte) Всего я никогда не беру, (rubato) Обо всем думай сам. О ключе, о том, чтобы запереть дверь, чтобы выключить свет.
Малина: Сегодня вечером мы еще поговорим о будущем. Необходимо как-нибудь навести у тебя порядок. Иначе в этом хаосе никто не разберется.
Малина уже у дверей, а я торопливо иду обратно по коридору, потому что перед уходом должна еще раз позвонить, из-за этого мы никогда не выходим вовремя. Я должна набрать номер, это наваждение, фантазия, в голове у меня только один номер, но это не номер моего паспорта, не номер отеля в Париже, не дата моего рождения, не сегодняшнее число, и невзирая на нетерпение Малины, я набираю 726893, число, которое кто-то просто держит в голове, а я могу продекламировать, пропеть, просвистеть, проплакать, беззвучно прохохотать, мои пальцы в темноте могут найти его на диске, и мне даже не надо повторять этот номер про себя.
Да, это я
Нет, только я
Нет. Да?
Да, ухожу
Я позвоню тебе позже
Да, значительно позже
Я еще позвоню тебе попозже!
Малина: Скажи, наконец, откуда у тебя берутся такие мысли. Ведь я никогда не ездил в Штокерау с Атти, никогда не плавал с Мартином и Атти ночью в Вольфгангзее.
Я: Я всегда все вижу перед собой совершенно отчетливо, я это себе расписываю, так ведь говорят, – например, в точности представляю себе массу длинных бревен на грузовике, все они сразу начинают скатываться назад, а я сижу в машине с Атти Альтенвилем, эта масса скатывается прямо на нас, а подать назад мы не можем, – вплотную за нами выстроилась целая вереница машин, и я понимаю – сейчас эти кубометры леса рухнут на меня.
Малина: Но мы же оба сидим здесь, и, говорю тебе еще раз, я никогда не ездил с ним в Штокерау.
Я: Тогда откуда ты знаешь, что я имела в виду дорогу на Штокерау? Ведь вначале я вовсе не упоминала Штокерау, а говорила вообще о Нижней Австрии, я только о ней и думала, из-за тети Мари.
Малина: Я в самом деле боюсь, что ты сошла с ума.
Я: Не совсем. И не надо говорить, как (piano, pianissimo) Иван.
Малина: Не говорить, как кто?
Я: (abbandonandosi, sotto voce) Люби меня, нет, более того, люби меня больше, люби меня безоглядно, чтобы скорей пришел конец.
Малина: Ты все про меня знаешь? И про всех других – тоже все?
Я: (presto alla tedesca) Да нет, ничего я не знаю. Про других-то уж точно ничего! (non troppo vivo). Что я себе все расписываю, это одни слова, я вовсе не хотела говорить о тебе, специально о тебе. Ведь именно ты никогда, никогда не знал страха. Мы действительно оба сидим здесь, но я боюсь, (con sentimento ed espressione) Я бы не стала тебя давеча ни о чем просить, если бы ты когда-нибудь испытывал такой страх.
Я положила голову на ладонь Малины, он ничего не говорит, не шевелится, но и не проявляет никакой нежности к моей голове. Другой рукой он зажигает сигарету. Моя голова больше не лежит на его ладони, и я пытаюсь сидеть прямо, так, чтобы по мне ничего не было заметно.
Малина: Почему ты опять прикладываешь руку к затылку?
Я: Да, кажется, я это делаю часто.
Малина: Это у тебя из-за того самого, с того времени?
Я: Да. Да, теперь я уверена. Это определенно из-за того самого, а потом еще много чего было. И оно постоянно повторяется. Мне приходится поддерживать голову. Но я это делаю так, чтобы по возможности никто ничего не заметил. Я запускаю руку под волосы и подпираю ею голову. Другой человек тогда думает, что я особенно внимательно его слушаю, а это мое движение – нечто вроде закидывания ноги на ногу или подпирания рукой подбородка.
Малина: Но это может выглядеть и как дурные манеры.
Я: Такая у меня манера цепляться за самое себя, когда я не могу уцепиться за тебя.
Малина: Чего ты добилась в последующие годы?
Я: (legato) Ничего. Вначале ничего. Потом я начала снимать напластования лет. Это было самое трудное, потому что во мне царила такая растерянность, у меня даже не хватало сил отсечь то, что случайно примешалось к моему несчастью. До самого несчастья я не добралась, мне пришлось убирать уйму второстепенного – аэропорты, улицы, рестораны, магазины, определенные блюда и вина, множество людей, всевозможные сплетни и разговоры. Но главное – фальсификация. Я вся была фальсифицирована, мне сунули в руки фальшивые документы, гоняли с места на место, потом снова пригласили сотрудничать для того, чтобы я просто присутствовала, чтобы одобряла то, чего раньше никогда бы не одобрила, чтобы подтверждала, оправдывала. Все это были совершенно чуждые мне направления мысли, которым я вынуждена была подражать. Под конец я стала сплошной фальшивкой, узнаваемой, пожалуй, только для тебя.
Малина: И какой урок ты из этого извлекла?
Я: (con sordina) Никакого. Мне это ничего не дало.
Малина: Это неправда.
Я: (agitato) И все-таки правда. Я опять начала разговаривать, ходить, что-то чувствовать, вспоминать более давнее время, то есть предшествующее тому, о котором я не хочу вспоминать, (tempo giusto) А в один прекрасный день у нас с тобой все опять стало хорошо. С каких пор мы с тобой, собственно, так хорошо ладим?
Малина: По-моему, мы всегда ладили.
Я: (leggermente) Как вежливо, как мило, как любезно с твоей стороны мне это сказать, (quasi una fantasia) Иногда я воображала, будто из-за меня ты часто, самое малое, триста шестьдесят дней в году, по разу в день, испытывал смертельный страх. Будто ты вздрагивал от каждого звонка, в каждой тени возле себя видел опасного человека, грузовик с бревнами впереди твоей машины был для тебя особенно серьезной угрозой. От звука шагов позади ты едва не падал замертво. Когда ты читал, тебе казалось, что вдруг открылась дверь, и ты в смертельном страхе ронял книгу, потому что я больше не имела права читать книги. Я воображала, что ты сотни, нет, тысячи раз умирал, и это сделало тебя позднее таким необыкновенно спокойным, (ben marcato) Как сильно я заблуждалась.
Хоть Малина и знает, что я охотно выхожу с ним по вечерам, но этого не ждет и не удивляется, если у меня находится причина для отказа, иной раз из-за порвавшихся чулок, и, разумеется, в моей нерешительности часто виноват Иван, потому что Иван не знает, пока не знает, как у него сложится вечер, а иногда возникают трудности с выбором ресторана, есть такие, куда Малина ни ногой, грохота он не переносит, цыганскую музыку и старые венские песни терпеть не может, спертый воздух и приглушенный свет в ночных клубах ему не по вкусу, он не может есть все подряд, как Иван, ест он, без какой-либо видимой причины, очень умеренно, он не может пить, как Иван, курит он только от случая к случаю, можно сказать, мне в угоду.
В те вечера, когда Малина бывает в гостях без меня, я знаю, что говорить он будет мало. Будет помалкивать, слушать, заставит кого-то заговорить и в конце концов вызовет у каждого ощущение, будто бы тот сказал кое-что поумнее обычных расхожих фраз, будто он показал себя несколько более значительным человеком, ибо Малина умеет возвысить другого до себя. Тем не менее он будет соблюдать дистанцию, поскольку он – воплощенная дистанция. Ни слова не проронит он о собственной жизни, никогда не станет говорить обо мне и, однако, не создаст у людей впечатления, будто он о чем-то умалчивает. Малина и впрямь ни о чем не умалчивает, ведь ему, в лучшем смысле слова, нечего сказать. Он не участвует в плетении большого текста, в работе над текстурой распускаемых слухов, и в венской паутине есть несколько прорех, образовавшихся только благодаря Малине. Поэтому он воплощает также предельную нетерпимость к стычкам, объяснениям, сплетням, опровержениям, оправданиям, да и в чем Малине оправдываться! Он может быть обаятельным, произносит вежливые, блистательные фразы, отнюдь не слишком любезные, проявляет, скажем, прощаясь, чуть-чуть сердечности, она едва из него выглянет и тут же спрячется обратно, ибо он сразу поворачивается и уходит, уходит он всегда очень быстро, он целует руки дамам и, когда надо им помочь, на минутку берет их под локоток, его прикосновение столь легко, что ни одна из них при этом ничего не подумает и все-таки не сможет не подумать. Вот Малина собирается уходить, люди смотрят на него с изумлением, им непонятно, по какой причине он уходит, он ведь не говорит в смущении, почему, куда и зачем ему надо вот прямо сейчас. Но никто и не осмелится его спросить. Просто исключено, чтобы к Малине кто-нибудь подступился с вопросами, какие постоянно задают мне: «Что вы делаете завтра вечером? Ради Бога, неужели вы уже уходите! Вы непременно должны познакомиться с таким-то, с такой-то!» Нет, с Малиной этого не случится, у него шапка-невидимка и почти всегда опущенное забрало. Я завидую Малине и пытаюсь ему подражать, но мне это не удается, я попадаюсь в каждую сеть, сама навлекаю на себя вымогательство, в первый же час становлюсь рабыней Альды, а вовсе не ее пациенткой, хотя она вроде бы врач, однако первым делом я узнаю, что не ладится у нее самой, что приходится переживать ей, а в следующие полчаса я должна, ради Альды, подыскать учителя пения для некоего господина Крамера, нет, для его дочери, потому что та больше не желает иметь дела с отцом, с этим самым господином Крамером. Я не знаю ни одного учителя пения, мне они никогда не требовались, но я уже почти призналась в том, что знаю кое-кого, кто наверняка знает, должен знать учителей пения, я ведь живу в одном доме со знаменитой певицей, правда, я с ней незнакома, но найдется уж какой-нибудь способ помочь дочери этого господина Крамера, которому, вернее, его дочери, Альда хочет услужить. Что поделаешь! Некий доктор Веллек, один из четырех братьев Веллеков, именно тот, из которого ничего путного не вышло, сейчас имеет шанс устроиться на телевидении, от этого зависит все его будущее, так вот, если бы я, быть может, замолвила за него словечко, хотя я в жизни своей не молвила ни единого словечка никому из деятелей Австрийского телевидения, тогда… Должна ли я пойти на Аргентиниерштрассе и там обронить словечко? Неужели господин Веллек без меня жить не может и я его последняя надежда?
Малина говорит:
– Даже для меня ты не последняя надежда. А господин Веллек и без твоего участия сумеет сделаться достаточно непопулярным. Если же ему еще кто-то поможет, то вскоре он совсем разучится помогать себе сам. Ты только добьешь его своим словечком.
Сегодня я жду Малину у Захера, в Синем баре. Он долго не идет, но потом все-таки приходит. Мы идем в большой зал ресторана, Малина разговаривает с метрдотелем, как вдруг я слышу собственный голос:
– Нет, я не могу, пожалуйста, только не здесь, я не могу сесть за этот столик!
Малина считает, что это очень приятное место, маленький столик в углу, который я часто предпочитала столам побольше, потому что здесь я могу сидеть, скрытая от зала выступом стены, и метрдотель тоже так считает, ведь он меня знает, я люблю это укромное место. Я говорю пресекающимся голосом:
– Нет, нет, разве ты не видишь?
– Что такого особенного можно здесь увидеть? – спрашивает Малина.
Я поворачиваюсь и медленно выхожу, пока на нас не начали обращать внимание, приветственно киваю Иорданам и Альде, которая сидит за большим столом с американскими гостями, киваю еще кое-каким людям, которых я тоже знаю, только фамилий их не припомню. Малина спокойно идет позади меня, я чувствую, что он просто следует за мной и тоже раскланивается с людьми. Подойдя к гардеробу, я позволяю ему накинуть мне на плечи пальто и в отчаянии смотрю на него. Неужели он не понимает? Малина тихо спрашивает:
– Что ты увидела?
Я еще не знаю, что я увидела, и неожиданно иду обратно в ресторан, я думаю, что Малина наверняка голоден, что время уже позднее, и торопливо объясняю:
– Прости меня, и давай вернемся, я смогу есть, просто на какой-то миг мне стало невмоготу!
Я действительно сажусь за тот столик, и вот теперь я знаю: это тот самый стол, за которым Иван будет сидеть с кем-то другим, Иван будет сидеть на месте Малины и заказывать, а кто-то другой будет сидеть с ним рядом, справа, как я сижу справа от Малины. Это существо будет сидеть справа, будет однажды сидеть здесь по праву. За этим столом я сегодня ем обед приговоренного к смерти. Опять кусок отварной говядины с яблочным хреном и соусом из зеленого лука. Потом я могу еще выпить чашечку черного кофе, нет, десерта не надо, сегодня я от десерта отказываюсь. Вот стол, за которым это произойдет и будет происходить в дальнейшем, и так делается перед тем, как человеку отрубят голову. До этого дозволяется еще раз поесть. Моя голова катится на тарелку в ресторане Захера, кровь брызжет на скатерть из белоснежного камчатного полотна, моя голова скатилась с плеч, и ее показывают гостям.
Сегодня я останавливаюсь на углу Беатриксгассе и Унгаргассе, не в силах двинуться с места. Я гляжу вниз на свои ноги, которыми не могу шевельнуть, потом на тротуар вокруг и на перекресток, где все перекрашено. Я точно знаю, это и есть то самое место, из-под свежей коричневой краски уже сочится влага, я стою в луже крови, это явно кровь, я не могу вечно стоять здесь так, подпирая рукой затылок, не могу видеть то, что вижу. Я кричу то тише, то громче: «Алло! Пожалуйста! Ну прошу вас, остановитесь же!» Какая-то женщина с хозяйственной сумкой, которая прошла было мимо, оборачивается и недоуменно смотрит на меня. В отчаянии я спрашиваю: «Вы не могли бы, пожалуйста, будьте так добры, постойте со мной минутку, я, должно быть, заблудилась, не знаю, куда мне теперь идти, мне эти места незнакомы, пожалуйста, вы не знаете, где находится Унгаргассе?»
Ведь эта женщина может знать, где Унгаргассе, и она говорит: «Да вы же стоите на Унгаргассе, какой номер дома вам нужен?» Я показываю вниз, за угол, но не на свою сторону, а на дом Бетховена, возле Бетховена я чувствую себя в безопасности, а от дома 5 перевожу взгляд на дом напротив, на ставшие мне чужими ворота, на которых значится номер 6, вижу перед ними г-жу Брайтнер, мне бы не хотелось сейчас с ней сталкиваться, но г-жа Брайтнер – человек, вокруг меня люди, так что со мной ничего случиться не может, и я смотрю на другой берег, я должна сойти с тротуара и добраться до того берега, проезжает, позванивая, трамвай О, это сегодняшний трамвай, все как всегда, я жду, пока он проедет, и, дрожа от напряжения, вынимаю из сумочки ключ: я начинаю переходить и уже изображаю улыбку, чтобы адресовать ее г-же Брайтнер, вот я перебралась на другой берег и тащусь мимо г-жи Брайтнер, моя прекрасная книга будет предназначена ей тоже, г-жа Брайтнер не улыбается мне в ответ, но хотя бы здоровается, и вот я наконец добралась до дома. Я ничего не видела. Я пришла домой.
У себя дома я ложусь на пол и думаю о своей книге, она куда-то пропала, никакой прекрасной книги на свете нет, я больше не способна написать прекрасную книгу, я давно уже перестала о ней думать, без всяких на то причин, мне не приходит в голову ни единой фразы. А ведь я была так уверена, что эта прекрасная книга существует и что я найду ее для Ивана. День не настанет, люди не смогут никогда, поэзия не сможет никогда и люди тоже, у них сделаются черные, мрачные глаза, их руками сотворится разрушение, придет чума, та чума, что есть во всех, та чума, которой поражены они все, она скоро унесет их, и это будет конец.
Красота больше не исходит от меня, а могла бы исходить, она волнами притекала ко мне от Ивана, ибо он красив, я знала одного-единственного красивого человека, я все-таки еще видела Красоту, напоследок я все же один-единственный раз стала красивой, благодаря Ивану.
– Вставай! – говорит Малина, который находит меня на полу, и он не шутит. – Что ты там бормочешь о Красоте? Что красиво?
– Но я не могу встать, я опираюсь головой о «Великих философов», а они твердые.
Малина вытаскивает книгу и поднимает меня.
Я: (con affetto) Я должна тебе наконец сказать. Нет, ты должен мне объяснить. Если какой-то человек безупречно красив и зауряден, почему лишь он один приводит в движение фантазию? Я никогда тебе не говорила, ведь я никогда не была счастлива, вообще никогда, только в редкие минуты, но напоследок я все же видела Красоту. Ты можешь спросить: а на что этого хватит? Одного этого хватит на все. Я видела так много другого, но другого никогда не хватало. Дух не приводит в движение дух, разве что дух, подобный себе; прости, Красота для тебя второстепенна, однако она приводит в движение дух. Je suis tombée mal, je suis tombée bien[90]90
Я неудачно попала, я удачно упала (фр.).
[Закрыть].
Малина: Не все же падать. Встань. Развлекись, пойди куда-нибудь, не обращай на меня внимания, делай что-то, что-нибудь делай!
Я: (dolcissimo) Чтобы я что-то делала? Чтобы я оставила тебя без внимания? Чтобы я тебя оставила?
Малина: Разве я что-нибудь сказал о себе?
Я: Ты – нет, это я говорю о тебе, я думаю о тебе. Я встаю тебе в угоду, я буду опять есть только тебе в угоду.
Малина пожелает куда-нибудь со мной пойти, отвлечь меня, он будет на этом настаивать, будет настойчив до конца. Как мне сделать для него понятным что-нибудь из моих историй? Поскольку Малина, вероятно, переодевается, я переодеваюсь тоже, я могу опять выйти, я подбираю себе перед зеркалом внешний вид и должным образом ему улыбаюсь. Но Малина говорит (разве Малина что-то говорит?), Малина говорит: «Убей его! Убей его!»
Я что-то говорю. (Но говорю ли на самом деле?) Я говорю: «Его единственного я не могу убить, его одного». Малине я резко заявляю:
– Ты ошибаешься, он – это моя жизнь, моя единственная радость, я не могу его убить.
Но Малина говорит неслышно и во всеуслышанье: «Убей его!»
Я развлекаюсь и совсем мало читаю. Поздно вечером под тихие звуки проигрывателя я рассказываю Малине:
– В Институте психологии на Либихгассе мы все время пили чай или кофе. Я знала там одного человека, который постоянно стенографировал все, что кто-либо говорил, а иногда и другие вещи. Я не владею стенографией. Иногда мы испытывали друг друга тестами Роршаха[91]91
Роршах Герман (1884–1922) – швейцарский психиатр.
[Закрыть], Сонди[92]92
Сонди Липот (1893–1986) – венгерский психиатр.
[Закрыть], ТАТ'а[93]93
Thematic Apperception Test – испытание на тематическую апперцепцию.
[Закрыть] и давали определения характера, личности, занимались наблюдениями за нашими успехами, поведением и исследовали манеру выражения. Однажды он спросил, со сколькими мужчинами я уже спала, а я не вспомнила ничего, кроме того одноногого вора, который сидел в тюрьме, и засиженной мухами лампочки в отеле с почасовой оплатой на Марияхильфе, но сказала наугад: «С семью!» Он засмеялся от неожиданности и заявил, что тогда он, конечно, хотел бы на мне жениться, у нас наверняка будут очень умные дети, к тому же очень красивые, так что я об этом думаю? Мы поехали в Пратер, и мне захотелось покататься на колесе обозрения, потому что в то время я не ведала страха, зато меня часто охватывало чувство счастья, как бывало со мной позднее, при полетах на планере или катании на лыжах, я могла часами смеяться от полноты счастья. Позднее мы, разумеется, больше никогда об этом не говорили. Вскоре за тем я должна была сдавать Rigorosum[94]94
Экзамены на степень доктора (от лат. rigor – строгость, жёсткость).
[Закрыть], и утром, перед тремя основными экзаменами, в Институте философии выпал из печки весь жар. Какие-то куски угля и дров я затоптала ногами, потом побежала за совком и веником, потому что уборщицы еще не пришли, пол горел и дымился, а я не хотела, чтобы возник пожар, я топтала и топтала пламя ногами, и еще много дней после этого в Институте пахло гарью, туфли свои я подпалила, но ничего не сгорело. Окна я открыла тоже. Тем не менее я успела вовремя, к восьми часам, на первый экзамен, мне надо было явиться вместе с другим соискателем, но он не пришел, ночью у него сделалось кровоизлияние в мозг, я узнала об этом еще до того, как предстала перед экзаменатором, чтобы он проверил, хорошо ли я знаю Лейбница, Канта и Юма. Старый надворный советник, который в то время был также ректором, сидел в грязном шлафроке; незадолго до этого он получил какой-то орден из Греции, за что – не знаю, и он начал меня спрашивать, крайне раздраженный отсутствием второго соискателя по причине его кончины, однако я, по крайней мере, была на месте и еще не умерла. Однако от злости он забыл, о каком разделе философии у нас должна была идти речь, между тем кто-то позвонил ему по телефону, думаю, его сестра, – мы как раз говорили о неокантианцах, потом вернулись к английским деистам, но были все еще довольно далеко от самого Канта, да и знала я не так уж много. После телефонного разговора дело пошло лучше, я начала говорить прямо на заданную тему, а он этого не заметил. Я робко задала ему вопрос, касавшийся проблемы пространства и времени, честно говоря, тогда этот вопрос еще не имел для меня такого значения, однако ему очень польстило, что у меня есть вопрос, и он меня отпустил. Я побежала обратно к себе в институт, где ничего не горело, и в должное время пошла сдавать два следующих экзамена. Я выдержала их все. Но с проблемой пространства и времени в дальнейшем я так и не справилась. Она все росла и росла.







