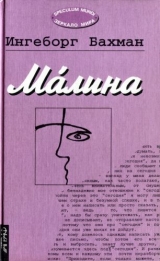
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Auprès de ma blonde
Я
Что ты?
я
Что?
Я счастлива
Qu'il fait bon
Ты что-то говоришь?
Я ничего не сказала
Fait bon, fait bon
Я тебе потом скажу
Что ты хочешь потом?
Я тебе никогда не скажу
Qu' il fait bon
Скажи уж
Слишком шумно, так громко я не могу
Что ты хочешь сказать?
Громче, я не могу
Qu' il fait bon dormir
Скажи уж, ты должна сегодня сказать
Qu' il fait bon, fait bon
Что я воскресла
Потому что пережила зиму
Потому что я так счастлива
Потому что уже вижу Городской парк
Fait bon, fait bon
Потому что явился Иван
Потому что Иван и я
Qu' il fait bon dormir![13]13
Строки французской народной песни: «Рядом с моей белокурой подружкой так сладко спится, так сладко спится, спится мне…»
[Закрыть]
Ночью Иван меня спрашивает: «Почему существует только Стена плача, почему никто еще не построил Стену радости?
Счастлива. Я счастлива.
Если Иван так хочет, я построю Стену радости вокруг всей Вены, там, где были старые бастионы и где проходит Рингштрассе, я готова еще построить Стену счастья вокруг безобразного Гюртеля – Венского кольца. Тогда мы сможем каждый день ходить к этим стенам, изливать там радость и счастье, потому что это – счастье и мы счастливы.
Иван спрашивает:
– Погасить свет?
– Нет, одна лампа пусть горит, одну оставь!
– Но в один прекрасный день я потушу у тебя все лампы, спи, наконец, будь счастлива.
– Я счастлива.
– Если ты несчастлива…
– Что тогда?
– Тогда тебе не удастся сделать ничего хорошего.
А я думаю про себя: счастливая я смогу это сделать.
Иван тихо выходит из комнаты и гасит за собой весь свет, я слышу его шаги, я лежу спокойно, я счастлива.
Я вскакиваю и включаю лампу на тумбочке, в ужасе стою посреди комнаты, с всклокоченными волосами, с искусанными губами, я выбегаю из спальни и зажигаю одну за другой все лампы, наверно, Малина уже дома, я должна немедленно с ним поговорить. Почему не существует Стены счастья и Стены радости? Как называется та стена, к которой я опять иду ночью? Малина с удивлением выходит из своей комнаты и смотрит на меня, качая головой. «Стоит ли еще со мной?..» – спрашиваю я, но Малина не отвечает, он ведет меня в ванную, берет салфетку, смачивает ее теплой водой, обтирает мне лицо и мягко говорит: «На кого ты похожа? Что с тобой опять стряслось?» – Малина размазывает мне по лицу тушь для ресниц, я его отстраняю, ищу масленую салфетку и подхожу к зеркалу. Исчезают пятна, черные следы туши и бурые следы крема. Малина задумчиво за мной наблюдает.
– Ты задаешь мне слишком много вопросов и слишком рано, – говорит он. – Стоит ли еще с тобой?.. Пока нет, но со временем, возможно, будет стоить.
Во Внутреннем городе, возле церкви Святого Петра я видела старинную конторку в лавке антиквара, цену он не сбавляет, но мне все же хочется ее купить, тогда я могла бы написать что-нибудь на старинном пергаменте, какого теперь нет, настоящим пером, какого теперь не бывает, чернилами, которых теперь не найдешь. Я хотела бы, стоя за этой конторкой, написать инкунабулу, ибо сегодня – двадцать лет с тех пор, как я полюбила Ивана, а тридцать первого числа этого месяца будет уже год, три месяца и тридцать один день, как я его знаю, но я хочу еще поставить здесь громоздкую латинскую дату – Anno Domini MDXXLI, но только ни один человек никогда ее не поймет. В буквице я красными чернилами нарисую чалмовидные лилии, а спрятаться могу в легенде про женщину, которой никогда не было на свете.
Тайны принцессы Кагранской
Жила-была принцесса Шагрская или Шагеранская, принадлежала она к роду, который в более поздние времена именовался Кагран. Ибо Святой Георгий, убивший дракона на болотах, дабы после гибели чудовища мог быть основан город Клагенфурт, подвизался и здесь, в старинном селе Мархфельд, на другом берегу Дуная, и о нем напоминает посвященная ему церковь, невдалеке от пойменной долины.
Принцесса была очень молода и очень красива, и был у нее вороной конь, на котором она всегда летела впереди всех. Люди из ее свиты увещевали и упрашивали ее остаться дома, так как страна на Дунае, где они жили, находилась в постоянной опасности и не было еще границ там, где позднее образовались Реция, Маркомания, Норикум, Мезия, Дакия, Иллирия и Паннония. Не существовало тогда ни Циз-, ни Транслейтании, потому что все еще продолжалось переселение народов. Однажды в те края прискакали венгерские гусары из пушты, из обширной Угрии, уходившей в неизведанные дали. Они ворвались туда на своих диких азиатских лошадях, таких же быстрых, как принцессин вороной, и все очень напугались.
Принцесса лишилась власти и не раз попадала в плен, – она не сражалась, но и не хотела быть отданной в жены старому королю гуннов или старому королю аваров. Ее держали в плену как добычу и стерегли силами множества красных и синих всадников. Эта принцесса была настоящей принцессой и потому скорее лишила бы себя жизни, нежели позволила бы отвести себя к старику-королю, и ей надо было набраться мужества до исхода ночи, ибо наутро ее собирались увезти в замок короля гуннов или даже короля аваров. Она замыслила побег, и надеялась, что ее стражи на рассвете заснут, но эта надежда постепенно угасала, Вороного у нее тоже отняли, и она не знала, как ей выбраться из военного лагеря и вернуться в родную страну с синими холмами. Без сна лежала она в своей палатке.
Глубокой ночью ей показалось, будто она слышит какой-то голос, он пел, но не говорил, а шептал и усыплял, но потом перестал петь для других, а звучал только для нее, на языке, который завораживал ее, в котором она не понимала ни слова. И все-таки она знала, что голос этот существует только для нее и что он ее зовет. Принцессе не нужно было понимать слова. Очарованная, она поднялась со своего ложа и открыла палатку. Она увидела бесконечное темное небо Азии, а первая же звезда, какую она заметила, сорвалась и полетела вниз. Голос, проникавший ей в уши, сказал, что она может себе что-нибудь пожелать, и она от всего сердца кое-что себе пожелала. Вдруг она увидела перед собой незнакомца, закутанного в длинный черный плащ, он не принадлежал к числу красных или синих всадников, лицо его скрывала тьма, и хотя принцесса не могла его видеть, она знала, что он о ней печаловался и пел ей, внушая надежду, голосом, не слышанным прежде, и явился он, чтобы ее освободить. Он держал в поводу ее вороного, и она, одними губами, спросила: «Кто ты? Как зовут тебя, мой спаситель? Как мне тебя отблагодарить?» Он приложил палец к губам, и она поняла – он приказывал ей молчать, потом сделал знак следовать за собой и окутал ее своим черным плащом, чтобы никто ее не увидел. Они были чернее черного в ночи, и он повел ее и коня, который тихо ступал копытами и не ржал, через лагерь и еще на какое-то расстояние в степь. У принцессы в ушах все еще звучало его чудесное пение, она была во власти этого голоса и хотела услышать его вновь. Она хотела попросить его поехать с ней вверх по течению реки, но он ей не ответил и отдал повод. Она по-прежнему была в величайшей опасности, и он сделал ей знак, чтобы она ускакала. Так он похитил ее сердце, а ведь лица его она все еще не видела, потому что он его прятал, но она ему повиновалась, ибо не могла иначе. Она вскочила на коня, молча посмотрела вниз на незнакомца и хотела сказать ему что-нибудь на прощанье на своем и на его языке. Она сказала это глазами. Однако он отвернулся и скрылся в ночи.
Вороной пошел рысью в сторону реки, – о близости ее давал ему знать влажный воздух. Принцесса плакала первый раз в жизни, – позднейшие переселенцы нашли в этой местности речные жемчужины, которые они отнесли своему первому королю и которые по сей день красуются в короне Святого Стефана[14]14
Основатель Венгерского королевства Стефан Первый (ок. 970 – 1038) в 1001 году возложил на себя корону, присланную ему в дар папой римским Сильвестром II. В 1087 году был причислен церковью к лику святых. Корона Святого Стефана стала символом власти над Венгрией и священной реликвией.
[Закрыть] вместе с древнейшими драгоценными камнями.
Когда принцесса очутилась в безлюдной местности, то много дней и ночей скакала берегом реки, вверх по течению, пока не достигла равнины, где река делилась на бесчисленные рукава, разбегавшиеся во все стороны. Она попала в огромное болото, поросшее корявым ивняком. Вода была еще на своем обычном уровне, кусты с шуршанием качались и гнулись под ветром, беспрестанно гулявшим по равнине, отчего ивы не могли распрямиться, а так и оставались корявыми. Они тихонько колебались, как трава, и принцесса совсем растерялась. Казалось, будто все пришло в движение, волны ивняка, волны травы, равнина жила, но в ней не жил ни один человек, кроме нее. Воды Дуная, вырвавшиеся из плена неотступных берегов, проложили себе собственный путь, теряясь в лабиринте каналов, чьи разветвления прорезали в наносных островках широкие русла, куда с грохотом устремлялась вода. Стоя среди бурных пенящихся потоков, пучин и водоворотов и чутко прислушиваясь, принцесса поняла, что вода подмывала песчаный берег и поглощала целые куски его вместе с ивами. Она заливала одни острова и наносила другие, ежедневно менявшие величину и форму, и такую переменчивую жизнь предстояло вести этой равнине до большого паводка, когда набухшие потоки накроют ивы и острова, не оставив от них и следа. На небе виднелось какое-то дымное пятно, но нигде принцессе не открывались гряды синеющих холмов ее страны. Она не знала, где она, ей незнакомы были Девенские высоты, отроги Карпат, еще не имевшие названий, она не видела Моравы, которая прокрадывается здесь в Дунай, а еще меньше догадывалась она о том, что со временем река обозначит здесь границу между двумя странами, у которых будут имена. Ведь тогда еще не было ни стран, ни границ между ними.
На полосе гальки принцесса спешилась – вороной совсем выбился из сил, она увидела, что потоки несут все больше ила, и перепугалась, так как это признак половодья, она уже не чаяла выбраться из этого дикого края, где были только ветлы, ветер и вода, и медленно вела коня в поводу, одурманенная этим царством одиночества, замкнутым, заколдованным царством, в котором она очутилась. Она стала озираться в поисках места для ночлега, ибо солнце уже садилось, а огромное живое существо, каким была эта река, повышало голос, усиливая звуки и стуки, нарастающий хохот у прибрежных камней, нежный шепот в тихой излучине, шипящее кипение, постоянный рокот на дне, подо всеми поверхностными шумами. Вечером слетелись стаи серых ворон, кормораны обсели берега, аисты ловили рыбу в воде, а болотные птицы всех видов кружили с раздраженными криками, которые далеко разносились вокруг.
В детстве принцессе рассказывали про этот суровый край на Дунае, про его волшебные острова, где человек умирал от голода, но при этом ему являлись видения, и в гибельном забытьи он испытывал величайший восторг. Принцессе казалось, что остров движется вместе с нею, но причиной одолевшего ее ужаса был не грохочущий водный поток, а страх и удивление в ней самой и доселе неведомая ей тревога, которую внушали ивы. От них исходила какая-то затаенная угроза и тяжким гнетом ложилась принцессе на сердце. Она очутилась на краю мира, обитаемого человеком. Принцесса наклонилась к вороному, который, обессилев, повалился набок и испустил жалобный стон, так как тоже понимал, что выхода нет, и уже гаснущим взглядом просил у принцессы прощения за то, что не смог нести ее дальше по воде и через воду. Принцесса легла в ложбину рядом с конем, исполненная такого ужаса, какого еще не знала, а ивы вокруг все громче шелестели, они шептались, пересмеивались, резко вскрикивали и стонали, вздыхая. Рать солдат больше не преследовала ее, но она была окружена ратью неведомых существ, мириады листьев порхали над растрепанными кронами ив. Принцесса была в долине реки, в той ее части, что ведет в царство мертвых. Широко раскрытыми глазами смотрела она, как на нее надвигается мощная колонна призрачных существ, и, чтобы не слышать жуткого воя ветра, на миг обхватила голову руками, но тотчас же вскочила, встревоженная каким-то шлепающим и скребущим звуком. Она не могла двинуться ни вперед, ни назад, она могла выбирать только между водой и всевластием ветел, но в непроглядной тьме перед ней вдруг блеснул свет, и поскольку она знала, что свет этот не человеческий, а призрачный, то пошла ему навстречу в смертельном страхе, но околдованная и завороженная.
То был не свет, то был цветок, выросший этой разгулявшейся ночью, он был краснее красного и поднялся не из земли. Принцесса протянула руку к цветку, но рука ее коснулась не только цветка, а и какой-то другой руки. Ветер и хохот ив умолкли, и под взошедшей луной, которая заливала белым и странным светом затихавшие воды Дуная, она увидела перед собой незнакомца в черном плаще, он держал ее за руку, а палец другой руки приложил ко рту, чтобы она не спросила его опять, кто он, но его темные и теплые глаза улыбались ей. Он был чернее той черноты, что только что окружала ее, и она припала к нему и в его объятьях опустилась на песок, он положил ей на грудь цветок, словно мертвой, и распростер над ними обоими свой плащ.
Солнце стояло уже высоко, когда незнакомец пробудил принцессу ото сна, подобного смерти. Истинно бессмертных, стихии, он заставил умолкнуть. Принцесса и незнакомец принялись беседовать, словно никогда и не переставали, и один из них говорил, другой улыбался. Они говорили друг другу слова светлые и темные. Вода спала, и еще до захода солнца принцесса услышала, как ее конь поднимается, фыркает и пускается рысью через кустарник. Испуг пронзил ее до глубины сердца, и она сказала:
«Я должна ехать дальше, вверх по течению, поедем со мной, не покидай меня больше!»
Но незнакомец покачал головой, и принцесса спросила: «Ты должен вернуться к твоему народу?»
Незнакомец улыбнулся: «Мой народ древнее всех народов мира и рассеян во все концы света».
«Так поедем же со мной!» – воскликнула принцесса в горе и нетерпении, но незнакомец сказал: «Терпение, имей терпение, ты ведь знаешь, ты знаешь». За ночь принцесса обрела второе зрение и потому сказала сквозь слезы:
«Я знаю, мы еще увидимся».
«Где? – с улыбкой спросил незнакомец. – И когда? Ведь истинна лишь бесконечная скачка».
Принцесса взглянула на погасший, вянущий цветок, который остался лежать на земле, и, закрывая глаза, на пороге сна сказала: «Дай мне всмотреться!»
Она медленно начала рассказывать: «Это произойдет выше по реке, снова начнется переселение народов, это будет в другом столетии, попробую угадать, в каком… Более чем через двадцать столетий, и ты будешь говорить на языке людей: Любимая…»
«Что такое столетие?» – спросил незнакомец.
Принцесса взяла горсть песка и пропустила его сквозь пальцы. «Это и есть приблизительно двадцать столетий, – сказала она, – потом наступит время, когда ты придешь и поцелуешь меня».
«Значит, это будет скоро, – отвечал незнакомец. – Рассказывай дальше!»
«Это будет в некоем городе, а в том городе – на некой улице, – продолжала принцесса, – мы с тобой будем играть в карты, я буду зачарованно глядеть на тебя, в зеркале будет воскресенье».
«Что такое город и улица?» – спросил пораженный незнакомец.
Принцесса удивилась. «Но мы скоро это увидим, я знаю только слова, мы ведь это увидим, когда ты всадишь мне в сердце шипы, мы будем стоять у окна, дай мне договорить! Это будет окно, полное цветов, и на каждое столетие там придется по цветку, всего двадцать штук, по этому признаку мы узнаем, что мы на верном месте, а все цветы будут такие, как этот!»
Принцесса вскочила на своего коня, тучи стали для нее непереносимы, ибо незнакомец молча замышлял их первую смерть, свою и ее. Он больше ничего не спел ей на прощанье, и она поскакала навстречу своей стране с синими холмами, которые всплыли вдали, в ужасающей тишине, потому что он уже всадил ей в сердце первый шип, и она упала с коня, истекая кровью, во дворе своего замка, среди преданных слуг. Но она улыбалась и лепетала в лихорадке: «Я же знаю, я знаю!»
Старинную конторку я не купила, она обошлась бы мне в пять тысяч шиллингов, к тому же ее привезли из монастыря, это мне тоже не по душе, а писать за ней я бы все равно не могла, ведь пергамента и чернил больше нет, да и фрейлейн Еллинек была бы отнюдь не в восторге, она привыкла к моей пишущей машинке. Листы с рассказом о принцессе Кагранской я поспешно сую в папку, чтобы фрейлейн Еллинек не увидела, что я написала, мне ведь гораздо важнее, чтобы мы наконец-то с чем-нибудь «покончили», и я сажусь позади нее на одну из трех ступенек, ведущих в мою библиотеку, складываю по порядку несколько листков и начинаю диктовать:
«Глубокоуважаемые господа!»
Мой адрес и сегодняшнее число вверху листа фрейлейн Еллинек наверняка уже написала, она ждет, а мне ничего в голову не приходит, и я говорю:
– Дорогая фрейлейн Еллинек, пожалуйста, пишите, что вам будет угодно, – хотя сбитая с толку фрейлейн Еллинек не может понять, что в данном случае означает «будет угодно». И я устало говорю: – Напишите, например, «по состоянию здоровья» – а-а, это у нас уже было? Ну тогда что-нибудь насчет обязательств, – тоже было, и слишком часто? Тогда просто – «благодарю и наилучшие пожелания».
Фрейлейн Еллинек порой удивляется, но этого не показывает, она не знает никаких «глубокоуважаемых господ», а знает только господина доктора Краванья, по специальности невропатолога, который в июле собирается на ней жениться, сегодня она мне это сообщила, я приглашена на свадьбу, она поедет в Венецию, но между тем как ее потаенные мысли устремлены к поликлинике и благоустройству квартиры, она заполняет для меня формуляры, копается в архиве, где царит невероятный хаос, обнаруживает там письма от 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 годов, тонны писем, она видит всю тщетность своих усилий навести у меня какой-то порядок, который она попеременно заклинает словами: «разложить», «подшить», «рассортировать по темам», она хочет ввести алфавитную систему, хронологическую систему, отделить деловые письма от частных, фрейлейн Еллинек способна все это сделать, но я не могу прямо сказать ей, что с тех пор, как я знаю Ивана, мне кажется бессмысленным расточать время на подобные затеи, мне надо еще привести в порядок самое себя, а разборка этого бумажного хлама становится мне все более безразличной. Я еще раз делаю усилие над собой и диктую:
«Глубокоуважаемые господа!
Благодарю вас за ваше письмо от 26 января».
«Глубокоуважаемый господин Шёнталь!
Особы, к которой вы обращаетесь, которую вы, по вашему мнению, знаете и даже приглашаете к себе, – этой особы не существует. Я хочу попытаться, – хотя сейчас шесть утра и мне это время кажется подходящим для объяснения, какое я обязана дать вам и еще столь многим людям, – хотя сейчас шесть утра и мне давно пора бы спать, но есть так много всего, что совсем не дает мне спать. Ведь вы пригласили меня не на детский праздник, не на мышиную свадьбу, а любые мероприятия и торжества, разумеется, вытекают из потребностей общества. Вот видите, я всячески пытаюсь взглянуть на это дело и с вашей точки зрения тоже. Я знаю, мы с вами назначили время, я должна была по крайней мере вам позвонить, но у меня нет слов, чтобы описать мою ситуацию, да и приличия этого не позволяют, ибо запрещают говорить о некоторых вещах. Тот приветливый фасад, который вы видите и на который я иногда полагаюсь сама, к сожалению, все меньше мне соответствует. В то, что у меня дурные манеры и я, стало быть, заставляю вас ждать просто из невоспитанности, вы не поверите, ведь манеры – это едва ли не единственное, что у меня осталось, и если бы в школах когда-нибудь включили в программу «манеры», то это, конечно, был бы самый подходящий для меня предмет, по которому я бы лучше всего успевала. Но, глубокоуважаемый господин Шёнталь, вот уже несколько лет, как я не способна – иногда неделями – дойти до дверей своей квартиры, или снять телефонную трубку, или кому-нибудь позвонить, я это сделать не в силах и не знаю, как можно было бы мне помочь, вероятно, помочь мне уже нельзя.
Я также совершенно не способна думать о вещах, о которых мне положено думать, – о каком-то сроке, о работе, о назначенной встрече, – сейчас, в шесть утра, мне как нельзя более ясна чудовищность моего несчастья, ибо неутихающая боль со всей силой, точно и равномерно поражает каждый мой нерв во всякое время. Я очень устала, я позволю себе сказать вам, как я устала…»
Я снимаю трубку и слышу механический голос: «Прием телеграмм, ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа». Тем временем я набрасываю на листке: «Д-ру Вальтеру Шёнталю, Виландштрассе, 10, Нюрнберг. К сожалению, приехать не могу тчк Посылаю письмо».
«Прием телеграмм, ждите ответа, ждите ответа.» Что-то щелкает, и живой, молодой женский голос бодро спрашивает: «Ваш номер, пожалуйста? Спасибо, я вам позвоню».
У нас с Иваном есть целый набор «усталых» фраз, ведь Иван часто бывает ужасно усталым, хоть он намного моложе меня, ну и я тоже очень устала. Иван слишком долго мотался, ездил с какими-то людьми в Нусдорф, где они до пяти утра пили молодое вино, потом поехал с ними обратно в город, они ели суп-гуляш, наверно, это было в то время, когда я написала двухсотое письмо Лили и еще кое-что, по крайней мере, дала телеграмму, и вот Иван звонит в полдень, после работы, голос его почти неузнаваем.
Устал, до смерти устал
Я просто мертвая
Нет, не думаю, я только что
Я прилегла, я просто
Наконец-то, наконец-то я высплюсь
Сегодня я лягу спать совсем рано, а ты
Я уже засыпаю, но сегодня вечером
Ну так ложись разок пораньше
Как дохлая муха, даже передать тебе не могу
Конечно, раз ты так устал
Да вот только что был жутко, смертельно усталый
Тогда сегодня вечером лучше не надо
Конечно, если бы ты была не такая усталая
Мне кажется, я ослышалась
Так прислушайся хорошенько
Ты же засыпаешь
Сейчас, конечно, нет, я просто устал
Так тебе надо отдохнуть и выспаться
Я оставил парадную дверь открытой
Устать-то я устала, но ты, похоже, еще больше
…
Конечно, сейчас, а когда же
…
Я хочу, чтобы ты немедленно пришла ко мне!
Я бросаю трубку, стряхиваю с себя усталость, бегу вниз по лестнице и наискось через улицу. Двери дома номер 9 только прикрыты, дверь комнаты только прикрыта, и теперь Иван снова повторяет все свои фразы про усталость, а я свои, пока мы оба не чувствуем себя слишком усталыми и измотанными для того, чтобы жаловаться друг другу на степень своей измотанности, мы перестаем разговаривать и не даем друг другу уснуть, невзирая на страшную усталость, и пока еще не зазвонила телефонная служба – будильник 00, я не перестаю в полутьме смотреть на Ивана, которому можно еще четверть часа поспать, я продолжаю надеяться, молить и воображать, будто услышала фразу, продиктованную не одной лишь усталостью, фразу, которая застрахует меня в этом мире, но я вдруг начинаю моргать, отделение желез так ничтожно, что не наберется даже по слезинке в каждом глазу. Разве одной фразы довольно, чтобы застраховать человека, для которого все уже кончено? Это должна быть какая-то нездешняя страховка.
Когда у Ивана за целую неделю не нашлось для меня времени, что только сегодня дошло до моего сознания, я теряю власть над собой. Это накатывает на меня неведомо откуда, это безнадежно, я ставлю перед Иваном его стакан с тремя кубиками льда, но, взяв свой, тотчас встаю и подхожу к окну, мне надо бы найти возможность выйти из комнаты, может быть, под предлогом, что я иду в ванную, по дороге я могла бы сделать вид, будто ищу в библиотеке какую-то книгу, хотя между книгами и ванной нет связи. Прежде чем мне удается выйти из комнаты, прежде чем я начинаю внушать себе, что в доме напротив глухой Бетховен все же сочинил Девятую симфонию, и еще многое другое, а я-то ведь не глухая, я могла бы как-нибудь рассказать Ивану, сколько всего еще, кроме Девятой симфонии, – Иван успевает заметить, поскольку плечи у меня вздрагивают, поскольку маленького носового платка мне уже не хватает, чтобы осушить слезы, и теперь мне ни за что не выйти; в этом стихийном бедствии виноват Иван, даже если он ничего не сделал, ведь так безудержно плакать просто невозможно. Иван берет меня за плечи и ведет к столу, я должна сесть и выпить, а я пытаюсь, плача, извиниться за свой плач. Иван крайне удивлен, он говорит: «Как то есть не должна плакать, да плачь, когда тебе угодно, плачь, сколько можешь, тебе просто надо выплакаться».
Я выплакиваюсь, а Иван выпивает еще порцию виски, он ни о чем меня не спрашивает, не берется утешать, не дергается и не злится, – он ждет, как ждут окончания грозы, слышит, что рыдания затихают, еще пять минут, – и он может намочить платок в ледяной воде и приложить мне к глазам.
– Надеюсь, это все же не ревность, сударыня.
– Нет, не ревность.
Я опять начинаю плакать, но лишь потому, что сейчас это приносит мне такое облегчение.
– Конечно, не ревность. Никакой причины вообще нет.
Причина, конечно, есть. Для меня это была неделя без инъекций реальности. Я бы не хотела, чтобы Иван спрашивал меня о причине, но он и не спросит, только время от времени будет давать мне выплакаться.
Выплакаться! – прикажет он.
Я живу как полудикарь в этом оживленном мире, впервые свободная от суждений и предубеждений окружающих меня людей, готовая уже отнюдь не к тому, чтобы осудить мир, а только к мгновенному отклику, к плачу и рыданиям, к счастью и радости, к голоду и жажде, ибо я слишком долго не жила. Моя фантазия, рождающая больше образов, чем галлюциногенный напиток, благодаря Ивану наконец-то начинает работать, благодаря ему меня заполонило огромное чувство, и теперь оно светится во мне, я постоянно озаряю мир, который в этом нуждается, озаряю из одной этой точки, где сосредоточена не только моя жизнь, но и моя воля к «процветанию», чтобы снова стать полезной, ведь мне хочется, чтобы я была нужна Ивану, как он нужен мне, и чтобы этого хватило на всю жизнь. Иногда я и впрямь бываю ему нужна, он звонит в дверь, я открываю, он стоит с газетой в руках, на минутку заходит и говорит:
– Я должен сию же минуту уйти, скажи, сегодня вечером тебе понадобится твоя машина?
Иван уходит с ключами от моей машины, но даже это короткое явление Ивана снова приводит реальность в движение, каждая его фраза действует на меня, на океаны и светила, я жую на кухне бутерброд с колбасой и ставлю тарелки в мойку, в то время как Иван все еще мне говорит: «Я должен сию же минуту уйти», я чищу пыльный проигрыватель и бархатной подушечкой осторожно протираю лежащие вокруг пластинки, «я хочу, чтобы ты немедленно пришла ко мне», говорит Иван, едущий на моей машине к Метеостанции, так как ему надо поскорее увидеть детей, – Бела вывихнул руку, однако Иван сказал: «я хочу, чтобы ты немедленно пришла ко мне», и эту опасную фразу я должна пристроить между поглощением бутерброда с колбасой, вскрытием писем и вытиранием пыли, поскольку посреди обыденных дел, переставших быть обыденными, в любую минуту может произойти взрыв. Я тупо смотрю в одну точку, прислушиваюсь и составляю список:
Электрик
Счет за электричество
Корундовая игла
Зубная паста
Письма к Д.К. и к адвокату
Чистка
Я могла бы включить проигрыватель, но мне слышится: «Я хочу, чтобы ты немедленно пришла ко мне!» Я могла бы подождать Малину, но лучше лягу в постель, я смертельно устала, жутко устала, до смерти измоталась, «хочу, чтобы ты немедленно…». Иван должен сию же минуту уйти, он только занес мне ключи, Бела вовсе не вывихнул руку, его мать преувеличила, я удерживаю Ивана в коридоре, и он спрашивает:
– Что это с тобой, чего ты так идиотски улыбаешься?
– О, ничего, просто мне идиотски хорошо, от этого я делаюсь идиоткой.
– Это называется не идиотски хорошо, – возражает Иван, – а просто хорошо. Как ты себя чувствовала раньше, когда тебе бывало хорошо? Разве от этого ты всякий раз делалась идиоткой? – Я качаю головой, Иван шутя заносит руку, чтобы ударить меня, тут ко мне возвращается страх, я сдавленно говорю:
– Нет, прошу тебя, только не по голове.
Через час озноб у меня проходит, и я думаю, что надо было сказать Ивану, но Иван такую дикость не поймет, а раз про убийство я ему сказать не могу, значит, я опять отброшена назад, к самой себе, и это навсегда, я только пытаюсь вырезать, выжечь эту язву ради Ивана, я не могу валяться в этой луже, среди этих мыслей об убийстве, с помощью Ивана мне удастся их вытравить, он избавит меня от этой болезни, он должен меня спасти. Но раз Иван меня не любит и, стало быть, я ему не нужна, то с какой стати он вдруг взял бы и полюбил меня или я бы стала ему нужна? Он видит только, как у меня разглаживается лицо, и радуется, когда может меня рассмешить, он опять примется мне объяснять, что мы застрахованы от всего, как наши автомобили, от землетрясений и ураганов, от краж и несчастных случаев, от пожаров и от града, но я застрахована лишь одной фразой и больше ничем. В этом мире для меня нет страховки.
Сегодня под вечер я собираюсь с силами и отправляюсь на лекцию во Французский культурный центр, конечно, я прихожу с опозданием и вынуждена стоять у дверей. Издали меня приветствует Франсуа, который работает в посольстве и как-то осуществляет культурный обмен между нашими странами, их примирение, взаимное обогащение, а как – он и сам толком не знает, мы оба не знаем, поскольку нам это не нужно, но нашим государствам это приносит пользу. Он делает мне знак подойти поближе, хочет встать, указывает на свое место, но я не хочу сейчас беспокоить людей и пробираться вперед, к Франсуа, потому что пожилые дамы в шляпках и множество пожилых мужчин, да и несколько молодых людей, которые стоят у стены рядом со мной, слушают благоговейно, как в церкви. До меня постепенно доходит одна-другая фраза, и я опускаю глаза, я все время слышу что-то насчет «la Prostitution universelle», замечательно, думаю я, да, как это верно, человек из Парижа с аскетически бледным лицом и голосом мальчика-певчего рассуждает о ста двадцати днях Содома, а я вот уже десятый раз слышу об универсальной проституции, и зал с толпой верующих, с его универсальной стерильностью начинает кружиться вокруг меня, но я бы хотела теперь наконец узнать, будет ли продолжаться универсальная проституция, и в этом храме маркиза де Сада я бросаю вызывающий взгляд на молодого человека, который, как во время богослужения, отвечает мне таким же кощунственным взглядом, мы еще целый час исподтишка переглядываемся, словно заговорщики в церкви времен инквизиции. Еще до того, как я начинаю смеяться, зажав рот платком, и до того, как мой подавленный смех переходит в судорожный кашель, я выхожу из зала, вызывая возмущение слушателей. Я должна сейчас же позвонить Ивану.
Как это было? Очень интересно
Ах так, ну-ну, и ты?
Ничего особенного, но было интересно
Ложись-ка ты пораньше спать
Так ведь зеваешь ты, это тебе пора спать
Не собираюсь, я еще не знаю
Нет, но я ведь должна утром
Ты действительно должна утром?
Я сижу дома одна и, заправив в машинку лист бумаги, бездумно печатаю: «Смерть придет»[15]15
Название рассказа Ингеборг Бахман, опубликованного посмертно.
[Закрыть].







