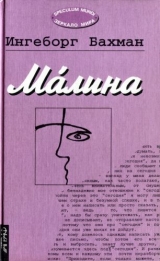
Текст книги "Малина"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
(Смущенное покашливание господина Мюльбауэра.)
Разумеется, я против всякой администрации, против этой всемирной бюрократии, под контроль которой попало все, от людей с их изображениями до колорадских жуков с их размножением, в этом вы можете не сомневаться. Но здесь дело в другом – в культовом управлении царством мертвых, я не знаю, по какой причине вы или я должны гордиться – да еще хотим привлечь к себе внимание всего мира – фестивалями, праздниками, музыкальными неделями, годовщинами, днями культуры, мир поступил бы как нельзя лучше, если бы умышленно от этого отвернулся, чтобы не испугаться, ведь у него могли бы открыться глаза на то, что еще его ожидает в лучшем случае, и чем тише здесь все совершается, чем таинственней работают наши гробокопатели, чем более скрытно все происходит, чем неслышнее все разыгрывается и договаривается до конца, тем сильнее, возможно, разгорится истинное любопытство. Духовная миссия Вены – это крематорий, видите, мы с вами все же отыскали эту миссию, стоило только хорошенько разговориться, но об этом лучше помолчим, здесь, на самом непрочном своем месте, век воспламенил некоторых мыслителей и сжег их, дабы способствовать их воздействию на людей, но я задаюсь вопросом, и вы несомненно тоже, не приводит ли всякое новое воздействие к новым недоразумениям…
(Замена пленки. Господин Мюльбауэр залпом осушает свой стакан.)
6-й вопрос:………………? (Вторично. Повторение.)
Ответ: Мне всегда было особенно по душе выражение «Австрийский дом», ибо оно лучше объясняло мне природу моей привязанности, нежели все другие выражения, какие мне могли предложить. Наверно, я жила в этом доме в разные времена, потому что я мгновенно узнаю улочки Праги, порт Триеста, я мечтаю по-чешски, по-словенски, по-боснийски, в этом доме я всегда была дома, но у меня нет ни малейшего желания, разве что во сне, поселиться опять в этом доме моих снов, получить его во владение, предъявить права, ведь это ко мне отошли коронные земли, это я отреклась от престола, я сложила с себя древнейшую корону в церкви Ам Хоф[29]29
Ам Хоф (При дворе) – одна из старейших площадей Вены, где раньше стоял замок средневековых властителей Австрии герцогов Бабенбергов. В настоящее время на этой площади, в числе других исторических зданий, находится церковь Девяти ангельских хоров, с балкона которой в 1806 г. было объявлено об упразднении Священной Римской империи.
[Закрыть]. Представьте себе, что после двух последних войн через деревню Галиция почему-то каждый раз прокладывали новую границу. В аккурат на Галицию, которая никому кроме меня не известна, которая для других людей ничего не значит, которой никто не посещает и которой никто не восхищается, каждый раз приходился росчерк пера на штабных картах союзников, однако оба раза, сперва по одной, потом по другой причине, она оставалась за неким образованием, каковое мы ныне называем Австрией, граница пролегает всего в нескольких километрах оттуда, в горах, а летом 1945 года долгое время тянули с принятием решения, – я была туда эвакуирована и все гадала, что со мной будет дальше, причислят ли меня к словенцам в Югославии или к каринтийцам в Австрии, стала жалеть, что клевала носом на уроках словенского, ведь французский давался мне легче, даже к латыни я проявляла больше интереса. Галиция все равно осталась бы Галицией, под любым флагом, и сказать нам по этому поводу, в сущности, было нечего, поскольку о расширении пространства мы вообще никогда не думали, в семье у нас всегда говорили: скорей бы все это кончилось, тогда мы опять поедем в Липицу, надо будет навестить нашу тетушку в Брюнне[30]30
Брно.
[Закрыть], что там сталось с нашими родичами в Черновцах, во Фриули воздух лучше, чем здесь, когда ты вырастешь, то непременно съезди в Вену и в Прагу, когда вырастешь…
Я хочу этим сказать, что мы всегда хладнокровно и апатично принимали реальные факты, нам было совершенно все равно, какие населенные пункты какими странами поглощены и еще будут поглощены. Тем не менее, в Прагу я ехала с другим чувством, чем в Париж, только в Вене всегда жила пусть не настоящей, но и не напрасной жизнью, только в Триесте не была чужачкой, но это становится все безразличней. Не так уж обязательно, но мне хотелось бы как-нибудь и поскорее, возможно, еще в этом году съездить в Венецию, которой мне никогда не узнать.
7-й вопрос:……………………………………………………..?
Ответ: Я полагаю, что это недоразумение, я могла бы начать сначала и ответить вам поточнее, если вы будете со мной терпеливы, а случись опять недоразумение, так оно, по крайней мере, будет новым. Усугубить путаницу мы уже не можем, нас ведь никто не слышит, где-то в другом месте сейчас тоже спрашивают и отвечают, имея в виду еще более странные проблемы, их каждый день заказывают для дня грядущего, проблемы изобретают и пускают в оборот, на самом деле этих проблем не существует, слышишь о них разговор и подхватываешь его. Я тоже просто слышала о проблемах, иначе у меня бы их не было, мы с вами могли бы сидеть сложа руки и пить, как бы это было приятно, господин Мюльбауэр, верно? Однако ночью, в одиночестве, возникают горячечные монологи, они навязчивы, ибо человек – существо темное, он сам себе хозяин только во мраке, а днем возвращается в рабство. Вы теперь мой раб, вы и меня превратили в свою рабыню, вы раб своей газеты, которой лучше бы не называться «Ночным выпуском», этой вашей рабски зависимой газете для тысяч рабов…
(Господин Мюльбауэр нажимает кнопку и выключает магнитофон. Я не услышала от него «Благодарю вас за беседу». Господин Мюльбауэр в величайшей растерянности, он готов повторить интервью, прямо завтра. Будь здесь фрейлейн Еллинек, я бы знала, что сказать, – что буду занята, или больна, или в отъезде. У меня окажется неотложное дело, свидание. Господин Мюльбауэр потерял со мной полдня, он дает мне это понять, в расстроенных чувствах убирает аппарат и откланивается со словами: «Целую ручку».)
Ивану, по телефону:
О, ничего особенного, я просто
Какой у тебя голос, ты что, спала
Нет, просто вымоталась, весь день
Ты одна, эти люди
Да, ушли, и весь день
Я весь день пытался
Я потеряла весь день
Иван более подвижен, чем я. Если он не измотан, он весь – движение, но если он устал, то он куда более усталый, чем я, и только тогда его злит разница в возрасте между нами, он сознает, что зол, ему хочется быть злым, а уж сегодня он должен особенно на меня злиться.
Здорово ты защищаешься!
А почему ты защищаешься?
Надо нападать, так нападай же на меня!
Покажи мне руки, нет, не ладони
Я ведь не хиромант
Это видно по коже тыльной стороны
У женщин я это замечаю
Однако на сей раз я выиграла, по моим рукам ничего не видно, кожа на них не морщинистая. Но Иван опять нападает.
Я это часто вижу по твоему лицу
В тот раз ты выглядела старой
Иногда ты выглядишь совсем старой
Сегодня ты выглядишь на двадцать лет моложе
Больше смейся, меньше читай, больше спи, меньше думай.
Тебя же старит то, чем ты занимаешься
Серые и коричневые платья тебя старят
Пожертвуй свои траурные платья Красному Кресту
Кто позволил тебе носить эти похоронные платья?
Конечно, я злюсь, мне хочется злиться
Сейчас ты у меня будешь выглядеть моложе, я из тебя возраст вытравлю!
Иван, заснувший было, просыпается, а я возвращаюсь с экватора, еще взволнованная событием, свершившимся миллионнолетие тому назад.
Что это с тобой?
Ничего, я изобретаю
Это будет что-нибудь стоящее!
Я почти всегда что-нибудь изобретаю. Иван прикрывает рот рукой, чтобы я не заметила, как он зевает. Ему надо сию же минуту уйти. Время – без четверти двенадцать. Наступает полночь.
– Я только что изобрела, как мне все-таки переделать мир!
– Что? И ты туда же? Переделать общество, условия жизни? Да люди сейчас прямо наперегонки это придумывают.
– Тебе правда неинтересно, что я изобретаю?
– Сегодня наверняка нет, на тебя, похоже, нашел стих, а изобретателям нельзя мешать, когда они работают.
– Тем лучше, значит, я изобрету это одна, но позволь мне изобрести это для тебя.
Ивана не предостерегли против меня. Он не знает, с кем общается, не знает, что имеет дело с существом, способным его морочить, я не хочу сбивать Ивана с толку, но ему никогда не увидеть, что я двойная. Я ведь еще и создание Малины. Иван беззаботно вверяется внешнему облику, моя телесность для него – точка опоры, возможно, единственная, но мне она мешает, пока мы говорим, я стараюсь не давать волю мысли, что через какой-нибудь час, вечером или поздно ночью мы будем лежать в постели, – стены же могут внезапно оказаться стеклянными, может быть сорвана крыша. Предельное самообладание позволяет мне перед тем сидеть напротив Ивана, молчать, курить, разговаривать. Ни единого жеста, ни единого слова, по которому кто-то мог бы судить, что это возможно, что это произойдет. В какое-то мгновенье есть Иван и есть я. В другое – мы. Потом опять: ты и я. Это два существа, которые не строят друг с другом никаких планов, не стремятся к сосуществованию, к прорыву куда-то еще, в другую жизнь, но и не к разрыву, но и не к признанию преимущества того или иного языка. Мы обходимся и без толмача, мне ничего не узнать про Ивана, ему ничего не узнать про меня. Мы не производим товарный обмен чувствами, не занимаем властных постов, не ждем поставок оружия для поддержки и охраны собственной личности. Почва под нами рыхлая, добротная, и что падает на мою землю – принимается, я размножаюсь словами и, продолжая свою жизнь, продолжаю и жизнь Ивана, я создаю новый род, из моего соединения с Иваном на свет родится нечто угодное Богу:
Птица-Феникс
Лазурит
Блуждающие огни
Капли нефрита
Глубокоуважаемый господин Целый!
Первое, что стало меня в вас раздражать, был ваш оттопыренный мизинец, когда вы представлялись за столом, в большой компании, и щеголяли своими остротами, которые мне и всему застолью казались свежими, но скоро перестали таковыми казаться, ибо я еще не раз слышала их от вас в других компаниях. Вы прямо искрились юмором. Но что меня под конец стало злить, и злит по сей день, так это ваша фамилия. Написание вашей фамилии дается мне с трудом, если я слышу ее от других – сразу начинается головная боль. Когда думать о вас для меня неизбежно, я нарочно называю вас про себя «господин Цельный» или «господин Целина», как-то пробовала уже вариант «Цельник», но лучшим выходом остается все же «господин Целик», так я почти не отклоняюсь от вашей фамилии, но, придавая ей некоторую диалектальную окраску, делаю ее чуточку смешной. Я вынуждена наконец вам это сказать, потому что слово «целый» встречаешь ежедневно, люди часто его произносят, я и сама не могу без него обойтись, в газетах и книгах оно попадается то и дело. Мне надо было поостеречься, хотя бы из-за вашей фамилии, с которой вы продолжаете вторгаться в мою жизнь и отягощать ее сверх всякой меры. Звались бы вы Копецки или Вигеле, Ульман или Апфельбек – у меня была бы более спокойная жизнь и я могла бы подолгу о вас не вспоминать. Даже если бы вы прозывались Мейер, Майер, Майр или Шмидт, Шмид, Шмитт, у меня была бы возможность думать не о вас, когда произносятся эти фамилии, а вспоминать кого-то из моих друзей, кого тоже зовут Мейер, или некоторых людей с фамилией Шмидт, сколь бы различно она ни писалась. В компании, за столом я изображала бы изумление или любопытство, я и в самом деле могла бы в спешке, в разгар этих пошлых, подлых разговоров, спутать вас с другим Мейером или другим Шмидом. Какая идиосинкразия! – скажете вы. Недавно, когда меня прямо-таки пугала мысль о встрече с вами, – в то время как раз возникла новая мода на платья из металла, рубашки из цепей, бахрому из колючек и украшения из проволочных заграждений, – я почувствовала себя вооруженной для этой встречи, даже уши не оставила свободными, а подвесила к мочкам два здоровенных пучка терновника прекраснейшего серого цвета, которые при каждом движении головы причиняли мне боль или соскальзывали, оттого что в раннем возрасте мне забыли проколоть ушные мочки, которые у нас в деревнях беспощадно буравили всем остальным девочкам в самом нежном возрасте. Вот только я не понимаю, почему этот возраст называют самым нежным. Но в этом платье-панцире, в такой броне, я была бы неуязвима, защищая свою жизнь, свое тело, от описания коего вы меня избавите, ибо когда-то его знали…
Глубокоуважаемый господин…
Я никогда не могла произнести ваше имя. Вы часто меня этим попрекали. Но не из-за этого в мысли о новой встрече с вами кроется для меня что-то неприятное. Раньше я могла над этим не задумываться, ведь так уж оно сложилось, я была не в силах себя перебороть и выяснила, что неспособность произносить некоторые имена, даже чрезмерно страдать по этой причине, исходит не от самих имен, а связана с инстинктивным, изначальным недоверием к какой-то личности, на первых порах неоправданным, но в конце концов всегда себя оправдывающим. Мое глубокое недоверие, которое могло выразиться только таким образом, вы, без сомнения, истолковали неправильно. Теперь, когда новая встреча отнюдь не исключена и я временами не знаю, как оградить себя от этого навсегда, меня беспокоит еще только одна-единственная мысль: что вы начнете без церемоний опять говорить мне «ты», – «ты», которое вы навязали мне сами знаете при каких обстоятельствах и которое я вам разрешила на время незабываемо мерзкой интермедии, разрешила из слабости, чтобы вас не обидеть, чтобы не указать вам границы, которые я втайне вам поставила, не могла не поставить. Возможно, это принято – в подобных случаях переходить на ты, но по окончании такой интермедии оставлять в обиходе это «ты» непозволительно. Я не попрекаю вас теми невыразимо мучительными воспоминаниями, что вы у меня оставили. Однако ваша толстокожесть, ваша очевидная неспособность почувствовать мою реакцию на это «ты», вымогательство этого «ты» у меня и у других заставляют меня опасаться, что вы все еще не сознаете, что занимаетесь вымогательством, так как для вас оно «в целом» обыденное дело. Конечно, вы еще никогда не задумывались над этим «ты», с которым так легкомысленно обходитесь, равно и над тем, почему я скорее могу простить вам несколько трупов на вашем пути, чем применение этой нескончаемой пытки, которая состоит в обращении ко мне на «ты» – и в разговоре и в мыслях. С тех пор как я в последний раз вас видела, мне и в голову не приходило думать о вас иначе, нежели в корректнейшей форме, мысленно и вслух обращаться к вам иначе, нежели со словами «господин» и «вы», – вслух, правда, только если нельзя не сказать: «Когда-то я была немного знакома с господином Целым». Чтобы вы наконец потрудились ответить мне такой же учтивостью – вот единственная просьба, с какой я позволю себе когда-либо к вам обратиться.
С наилучшими пожеланиями
Вена… Неизвестная
Глубокоуважаемый господин президент!
Ваше письмо содержит адресованные мне поздравления с днем рождения от вашего имени и от имени всех остальных.
Простите, но я неприятно удивлена. Дело в том, что этот день, как мне кажется, касается интимных отношений двоих – моих родителей, которых вы и другие люди не знаете. У меня самой никогда не хватало смелости представить себе мое зачатие и рождение. Одно упоминание даты моего рождения, которая несомненно имела значение не столько для меня, сколько для моих бедных родителей, всегда казалось мне недопустимым нарушением некоего табу и выдачей тайны чужих страданий и радостей, а человек чувствующий и мыслящий воспринимает это почти как преступление. Мне следовало бы сказать: человек цивилизованный, поскольку наше мышление и чувствования некоторой своей частью, своей поврежденной частью, привязаны к цивилизации, к нашей цивилизованности, благодаря которой мы давно просвистели право ставить себя на одну доску даже с дичайшими из дикарей. Вы, такой видный ученый, лучше меня знаете, какое достоинство выказывают дикари – последние, еще не истребленные дикари – во всем, что касается рождения, инициации, зачатия и смерти, а здесь дело не только в наглости ведомств, которые лишают нас последних остатков стыда, – еще до обработки данных и заполнения анкет, опережая события, орудует некий столь же бесстыдный дух, который в предвкушении своей победы ссылается на так называемое «просвещение», уже причиняющее величайший урон сбитым с толку несовершеннолетним. После окончательного освобождения от всех табу человечество будет низведено до поголовного несовершеннолетия. Вы поздравляете меня, а я не могу мысленно не передать это поздравление дальше, одной давно умершей женщине, небезызвестной Йозефине X., которая значится в моем свидетельстве о рождении как акушерка. Надо было тогда поздравить эту женщину с ее искусством и благополучно прошедшими родами. Так или иначе, но однажды, много лет назад, я выяснила, что тот день пришелся на пятницу (и произошло это как будто бы вечером), открытие, отнюдь не сделавшее меня счастливой. Я не выхожу из дома по пятницам, если могу этого избежать, никуда в этот день не уезжаю, это день недели, который кажется мне опасным. Кроме того, известно, что я появилась на свет наполовину «в сорочке», соответствующего медицинского термина я не знаю, не знаю также, почему в народе сохранилась вера в то, что та или иная особенность новорожденного непременно обернется для него счастьем или бедой. Но я уже сказала, у меня была только половина сорочки, половина, считают люди, это лучше, чем ничего, однако этот половинный покров придал мне глубокую задумчивость, я была задумчивым ребенком; говорят, что задумчивость и привычка часами сидеть и молчать были самыми заметными моими признаками. Но сегодня я себя спрашиваю, – слишком поздно, слишком поздно, – что же могла моя достойная жалости мать поделать с этим двойственным сообщением – полупоздравлением с полусорочкой. Кто бы стал кормить своего ребенка грудью, стараться хорошо его воспитать, если бы он явился на свет, как нарочно, в половине сорочки. Что вы, глубокоуважаемый господин президент, стали бы делать с полупрезидентством, получествованием, полупризнанием, с половиной шляпы, да, что стали бы вы делать даже с этим полуписьмом? Мое письмо к вам не может быть целым еще и потому, что моя благодарность вам за добрые пожелания идет лишь от половины сердца. Приходится, однако, получать письма, на которые ты не счел бы кого-то способным, и ответные письма таковы, что на них, казалось бы, тоже никто не способен…
Вена… Неизвестная
Порванные письма лежат в корзине для бумаг, искусно перепутанные и перемешанные со скомканными приглашениями на какую-то выставку, на прием, на лекцию, перемешанные с пустыми пачками из-под сигарет, присыпанные пеплом и окурками. Копирку и бумагу для пишущей машинки я поспешила аккуратно сложить, чтобы фрейлейн Еллинек не увидела, чем я тут занималась до самого утра. Однако она забегает лишь на минутку, ей надо встретиться с женихом по поводу документов для оглашения. Тем не менее она не забыла купить две шариковые ручки, но опять не записала себе отработанные часы. Я спрашиваю: почему, Бога ради, вы их не записали, вы же знаете, какая я! И я роюсь в одной своей сумке, в другой сумке, я должна была попросить у Малины денег, позвонить ему в Арсенал, но в конце концов конверт обнаружился, он вполне заметно торчит из Большого Дудена[31]31
Немецкий энциклопедический словарь.
[Закрыть], помеченный тайным знаком Малины. Он никогда ничего не забывает, мне не приходится просить его дважды. В должное время на кухне лежит конверт с деньгами для Лины, на письменном столе – для фрейлейн Еллинек, в старой шкатулке у меня в спальне оказывается несколько денежных купюр на парикмахера и раз в два-три месяца несколько купюр побольше на обувь, белье и платья. Я никогда не знаю, в какой момент там появятся деньги, но если у меня износилось пальто, Малина сэкономит, чтобы купить мне новое еще до наступления первых холодов. Я не знаю, как Малина всегда ухитряется, даже если в доме порой нет ни гроша, обеспечивать наше с ним существование, и это при нынешней дороговизне, – он аккуратно платит за квартиру, большей частью также за свет, воду, телефон и за страховку машины, о которой должна заботиться я. Только раз или два нам выключали телефон, но лишь из-за того, что мы уезжали, а во время путешествий мы бываем забывчивы и не просим пересылать нам письма и счета. Я с облегчением говорю: «Ну вот, все опять обошлось, трудности позади, только бы сейчас не заболеть, только бы сейчас у нас не случилось чего-нибудь с зубами!» Много дать Малина мне не может, но он скорее позволит мне сэкономить хозяйственные деньги, чем пожалеет несколько шиллингов на те вещи, которые для меня важнее запаса продуктов в холодильнике. У меня есть немного карманных денег для того, чтобы я могла шататься по Вене, съесть сэндвич у Тшесневского, выпить чашечку кофе с молоком в кафе Захера, после ужина у Антуанетты Альтенвиль вежливо послать ей цветы, подарить Франциске Иордан на день рождения «My Sin»[32]32
«Мой грех» (англ.).
[Закрыть] и раздавать назойливым, заблудшим или потерпевшим крушение людям, которых я не знаю, железнодорожные билеты, деньги или одежду, особенно болгарам. Малина качает головой, но слово «нет» произносит только если улавливает из моего сбивчивого рассказа, что «дело», «случай», «проблема» разрастаются до таких масштабов, какие нам не под силу. Тогда Малина укрепляет уже зревшую во мне решимость сказать «нет». Тем не менее в последнюю минуту я иду на попятный, я говорю: «Разве мы все-таки не могли бы помочь – что, если, например, попросить Атти Альтенвиля, или если я скажу малышке Земмельрок, чтобы она поговорила с Бертольдом Рапацем, у него же миллионы, или если бы ты позвонил министерскому советнику Хубалеку!» В такие минуты Малина решительно говорит: «Нет!». Я должна финансировать восстановление какой-то женской школы в Иерусалиме, должна выплатить, в качестве скромного вклада, тридцать тысяч шиллингов комитету каких-то беженцев, возместить ущерб от наводнения в Северной Германии и в Румынии, участвовать в помощи жертвам землетрясения, должна финансировать революцию в Мексике, в Берлине и в Ла-Пасе; но ведь Мартину позарез нужно, не далее как сегодня, вернуть тысячу шиллингов, данных ему в долг только до первого числа, а он человек порядочный; Кристине Ванчура срочно нужны деньги для выставки работ ее мужа, только он не должен об этом знать, она надеялась взять деньги у матери, но сейчас, как на грех, между ними опять вспыхнула старая ссора. Трое студентов из Франкфурта не в состоянии оплатить счет за гостиницу в Вене, это срочно, но Лине еще более срочно надо внести очередную сумму за телевизор, – Малина достает деньги, Малина говорит «да», однако в случаях совсем уж грандиозных катастроф и неподъемных предприятий Малина говорит «нет». У него нет никакой теории, для него все сводится к вопросу «Иметь или не иметь». Будь его воля, мы жили бы в достатке и не знали бы нужды в деньгах, эту нужду приношу в дом я со своими болгарами, немцами, латиноамериканцами, со своими подругами, друзьями, знакомыми, со всей этой публикой, со сводкой новостей и сводкой погоды. Никогда еще я не слышала, – и это роднит Малину с Иваном, – чтобы люди обращались к Ивану и к Малине, такого просто не бывает, им это и в голову не придет, видимо, я притягиваю их сильнее, должно быть, я внушаю им гораздо больше доверия. Но Малина говорит: «Это может приключиться только с тобой, глупее им никого не найти». А я говорю: «Это срочно».
Болгарин ждет меня в кафе «Ландтман», Лине он сказал, что приехал прямо из Израиля и ему надо со мной поговорить. Я ломаю голову, кто же это шлет мне привет, с кем могло случиться несчастье, что сталось с Гарри Гольдманом, которого я давненько не вижу в Вене, надеюсь, это не связано с международными событиями, хотелось бы надеяться, что не организуется какой-нибудь новый комитет, что где-то не обнаружился долг в несколько миллионов, надеюсь также, что мне не придется брать в руки лопату, я видеть не могу лопаты и заступы после того, как тогда в Клагенфурте они поставили нас с Вильмой к стенке и хотели расстрелять, не могу слышать выстрелы ни после того карнавала, ни после той войны, ни после того фильма. Надеюсь, он передаст мне приветы. Конечно, все выйдет иначе, но, к счастью, у меня еще грипп и температура 37,8, так что я не могу отправляться на новые подвиги и во что-то ввязываться. Не могу видеть места событий; но как же я тогда говорю, что мое место на Унгаргассе? Это моя Унгаргассенляндия, которую я должна удержать, укрепить, моя единственная страна, которую я должна обезопасить, которую я защищаю, за которую дрожу, за которую борюсь, готовая умереть; и здесь тоже, переводя дух перед кафе «Ландтман», я держу своими бренными руками мою страну, которой грозит месть всех прочих стран. Обер-кельнер Франц кланяется мне, как только я появляюсь в дверях, он с сомнением оглядывает переполненное кафе, но я, коротко кивнув, прохожу мимо него в глубину зала, потом поворачиваю назад, ведь мне столик не нужен, меня уже добрых полчаса ждет здесь некий господин из Израиля, у него срочное дело. Какой-то человек держит в руке, демонстративно вытянув ее вперед, немецкий журнал «Шпигель», верхней обложкой к входящим, но с тем, моим, я условилась только о том, что в кафе к нему подойдет блондинка в синем весеннем пальто, правда, сейчас не весна, но погода каждый день меняется. Человек с журналом поднимает руку, но сам не поднимается, а так как больше мною никто не интересуется, то, возможно, это тот самый настойчивый господин. Это он и есть, он что-то шепчет на малопонятном немецком языке, я спрашиваю о моих друзьях в Тель-Авиве, в Хайфе, в Иерусалиме, но этот человек никого из моих друзей не знает, он не живет в Израиле, хотя еще несколько недель назад был там, ему пришлось проделать большое путешествие. Я заказываю кельнеру Адольфу большую чашку кофе с молоком и не спрашиваю: «Чего вы от меня хотите, кто вы? Где вы взяли мой адрес? Что привело вас в Вену?» Человек шепчет: «Я из Болгарии. Вашу фамилию я нашел в телефонной книге, это была моя последняя надежда». Столица Болгарии, насколько я знаю, София, но этот человек не из Софии, я понимаю, что не каждый болгарин может жить в Софии, больше мне касательно Болгарии ничего в голову не приходит, говорят, там все доживают до глубокой старости благодаря йогурту, но мой болгарин не стар и не молод, лицо его ничем не примечательно, он не перестает дрожать, ерзает на стуле, хватается за ноги. Вот он достает из портфеля газетные вырезки, все – из немецких газет, целая страница из «Шпигеля», он кивает, да, я должна это прочесть, прямо здесь и сейчас, в этих вырезках говорится о болезни – Morbus Buerger[33]33
Болезнь Бюргера (лат.).
[Закрыть], болгарин пьет маленькую чашку черного кофе, а я молча мешаю ложечкой свой кофе с молоком и быстро читаю, что написано про Morbus Buerger, писали, конечно, не специалисты, но тем не менее этот Morbus, должно быть, заболевание крайне редкое и необычное, я с нетерпением поднимаю глаза, я не знаю, почему болгары интересуются этим Morbus'ом. Болгарин слегка отодвигается от стола вместе со стулом и указывает на свои ноги – это же у него Morbus Buerger. Кровь ударяет мне в голову от волнения, пронзает дикая боль, мне это не снится, на сей раз удар метко нанес болгарин: что я буду делать в кафе «Ландтман» с этим человеком и каким-то жутким Morbus'ом, что сделал бы сейчас Малина, что бы он предпринял? Однако болгарин сохраняет полное спокойствие и говорит: просто необходимо, чтобы ему немедленно ампутировали обе ноги, но в Вене у него вышли все деньги, а ему надо ехать в Итцехо, где работают специалисты по этому Morbus'y. Я курю, молчу и жду, у меня при себе двадцать шиллингов, банк закрылся, Morbus налицо. За соседним столиком вопит, хрипя от бешенства, профессор Малер: «Счет подайте!» Обер-кельнер Франц радостно откликается: «Сию минуту!» – и убегает, а я бегу за ним. Мне надо немедленно позвонить. Франц говорит:
– Что-нибудь случилось, сударыня? Вы мне что-то не нравитесь, Пеппи, стакан воды для сударыни, только presto![34]34
быстро (ит.).
[Закрыть]
Возле гардероба я роюсь в сумочке, только записной книжки там нет, я ищу в телефонной книге номер моего бюро путешествий, младший кельнер Пеппи приносит мне стакан воды, я роюсь в сумочке и достаю таблетку, которую от волнения не могу разломать, сую в рот целиком и запиваю водой, но таблетка застревает у меня в горле, и мальчишка Пеппи кричит:
– Иисус-Мария-Иосиф, сударыня так кашляют, может, позвать господина Франца!..
Но я уже нашла номер, я звоню, жду и пью воду, меня соединяют, пошли звать, господин Сухи еще в конторе. Господин Сухи педантично, в нос повторяет:
– От вашего имени придет иностранный господин, билет в первый класс до Итцехо, это просто, и еще тысяча шиллингов наличными, ничего, это не к спеху, мы все сделаем, мне доставит удовольствие, не беспокойтесь, сударыня, целую ручку!
Я еще какое-то время стою у гардероба, курю, Франц, на бегу, с развевающимися фалдами фрака, ласково смотрит на меня, я ласково машу ему рукой, мне надо еще покурить и подождать. Через две-три минуты я возвращаюсь к столику с Morbus'ом. Я прошу болгарина сейчас же пойти в мое бюро путешествий, поезд отправляется в три часа, некий господин Сухи все устроит. Я зову: «Счет, пожалуйста!» Профессор Малер, которому я смущенно киваю в благодарность за то, что он меня узнает, кричит еще громче: «Счет, пожалуйста!» Франц пробегает мимо нас, откликаясь: «Сию минуту!» Я кладу на стол двадцать шиллингов и даю понять болгарину, что счет тем самым оплачен. Не знаю, что ему пожелать, но говорю:
– Счастливого пути!
Иван говорит:
– Вот ты опять дала себя облапошить.
– Но Иван!..
Малина говорит:
– Вот еще подарочек, тысяча шиллингов на дорожные расходы!
– Но ты же совсем не такой мелочный, – возражаю я, – я должна тебе объяснить подробней, это ужасный Morbus.
Малина снисходительно отвечает:
– Не сомневаюсь, господин Сухи мне уже звонил, твой болгарин действительно заходил к нему.
– Вот видишь! – говорю я. – Если у него нет Morbus'a и ему не отнимут обе ноги, то и слава Богу, но если у него все-таки есть этот Morbus, то ничего не поделаешь, мы должны заплатить.
– Не беспокойся, я уж как-нибудь это улажу, – отвечает Малина.
Ни минуты лишней не могла я сегодня просидеть в кафе «Раймунд» с прокаженным, мне хотелось сразу вскочить и поскорее умыть руки, не для того, чтобы избежать заражения, а чтобы избавиться от мысли о проказе, мысли, которая пришла ко мне с рукопожатием, а дома я хотела промыть глаза борной, чтоб они не воспалились после созерцания изъеденного лица. И еще перед моим единственным в этом году полетом в Мюнхен – всего на два дня, потому что на больший срок я не могу покидать Унгаргассе, – я заказала такси и слишком поздно заметила, что шофер без носа, мы уже ехали, потому что я успела легкомысленно сказать: «В аэропорт Швехат!», а когда он обернулся спросить, можно ли ему закурить, тут я и увидела; вот так, без носа, мы доехали с ним до Швехата, и там я вышла с чемоданом. Но в холле передумала, отказалась лететь и сейчас же на другом такси поехала обратно. Вечером Малина удивился, что я дома, а не в Мюнхене. Я не могла лететь, то было недоброе предзнаменование: оказалось, мой самолет так и не долетел до Мюнхена, а с опозданием и поврежденным шасси приземлился в Нюрнберге. Не знаю, почему такие люди попадаются мне на пути и почему некоторые все время от меня чего-то хотят. Сегодня явились два француза, чьих фамилий я толком не разобрала, с приветом от знакомых, и просидели у меня до двух часов ночи, не объясняя причин. Я просто не понимаю, почему люди приходят в дом и сидят часами, почему скрывают свои намерения. Возможно, у них и нет никаких намерений, но они не уходят, а я не могу позвонить по телефону. И тогда я радуюсь, что Фрэнсис и Троллоп пока еще у меня, на моем иждивении, они дают мне повод на полчаса выйти из комнаты, потому что им пора получить «китекэт» и мелко нарубленное свежее легкое, после чего они, довольные, разгуливают по квартире, привлекают к себе внимание гостей, наводя беседу на кошачью тему, и понимают, что их присутствие мне полезно.







