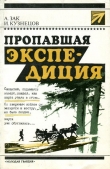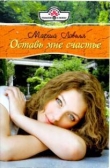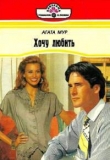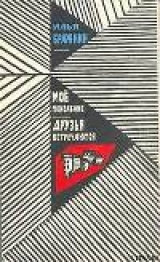
Текст книги "Моё поколение"
Автор книги: Илья Бражнин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Глава пятая. НАСТОЯЩЕЕ ПРОТИВИТСЯ БУДУЩЕМУ
Выстрел в комнате Никишина прозвучал стократным эхом в гимназических стенах. Газета произвела в гимназии сильное впечатление. В тот же день газета проникла в реальное училище, к гимназисткам и в фельдшерскую школу. Десять экземпляров Рыбаков передал Бредихину для мореходного училища. Занес он номер газеты и к Левиным.
Илюша лежал осунувшийся и молчаливый. Жар спал, но слабость ещё не прошла. Тем не менее Рыбаков не счел себя вправе скрывать от Илюши гимназические события. Он принес газету, и Илюша прочел её.
Софья Моисеевна укоризненно покачала головой и, отозвав Рыбакова в сторону, посетовала:
– Вчера у него была высокая температура, тридцать девять и одна. Зачем ему знать эти неприятности сейчас? Разве этого нельзя было отложить?
Софья Моисеевна грустно вздохнула.
– Беда не ходит одна. Вы не знаете, родители Никишина живы? Боже мой. Они берут ружье и стреляют и совсем не думают о других.
– Не всегда можно думать так, как другие этого хотят, мама, – сказала хмуро Геся,
– Не всегда можно… – Софья Моисеевна вытерла глаза ладонью. – А человеку можно стрелять в себя из ружья, как в зверя? Бедный мальчик. Надо бы сходить в больницу, может быть, ему что-нибудь нужно.
– Ему ничего не нужно, – сказала Геся, – по крайней мере сейчас.
Она подошла к Илюше и положила ему руку на лоб.
– Ну, как ты себя чувствуешь?
Илюша не ответил. Геся присела к нему на кровать. После вечера, когда неожиданно состоялся на кухне бал, отношения их стали совсем иными, чем прежде. Они как будто мало говорили друг с другом, но меж ними установились то внутреннее понимание, та подлинная близость, которые делают понятным без слов всякое душевное движение. Аня ещё больше их сблизила, а потом и Новиков. С той ночи, когда Геся вернулась, возвратив прочитанного Бебеля, заговор их перестал быть молчаливым. Они просидели тогда до рассвета, говоря о Новикове, об Ане, о товарищах и много, очень много о будущем. Геся уже тогда держала будущее в своих сильных руках.
У Илюши всё было иначе. Неурядицы мучительного сегодня вставали непроницаемым туманом над будущим, и будущее, в свою очередь, кидало хмурую тень на все дни его. Нет у человека и не может быть полноты настоящего, если нет будущего. Он сознавал это. Он как-то высказал эту мысль Рыбакову.
– А ведь это верно, – сказал Рыбаков, – чертовски верно. У нас нет человеческого будущего, и потому все мы мучимся. Но если так, постой, Илья, если так, то, значит, тот, кто найдет его, перестанет мучиться. А значит, ты следи, значит, поиски будущего – это, значит, и устройство настоящего, и человеку, уверенному в завтра, не страшны никакие сегодняшние трудности и неурядицы. Черт возьми! Я понимаю теперь, почему Новиков улыбался, уезжая с жандармами к черту на кулички. Илья, ты мудрец! Понимаешь, ты мудрец! Это тебе не «арбуз больше вишни». Это лучшая из всех твоих крупинок мудрости. Это не крупинка, это целая гора мудрости.
Илюша улыбался. Но эта была невеселая улыбка. Если так пойдет дальше, он, чего доброго, совсем разучится улыбаться. Геся утешала его как могла. Она хотела передать ему свою твердость. Но есть вещи, которые даны одним и не даны другим. Он рассказал сестре всё. Она знала и о том, что делается в глухом толстостенном доме на Архиерейской, она знала и о сцене объяснения Ани с Софьей Моисеевной.
Она сидела у Илюшиного изголовья и заботливо стерегла его малейшее движение. Потом внезапно она наклонилась к самому его лицу и тихо спросила:
– Позвать?
Он тотчас понял, и в усталых глазах его мелькнул живой огонек.
– Да, да, – шепнул он пересохшими губами и слабо сжал её руку.
Геся поднялась. Она оделась и вышла на морозную улицу. Городом шла густая, верткая метелица. Ветер, неистовый и слепящий, гулял по пустынным улицам.
Промерзшая и задыхающаяся, добежала Геся до дома на Архиерейской, торопливо поднялась на крыльцо и резко позвонила, спустя минуту грохнул тяжелый засов, и в дверную щель просунулась повязанная темным платком голова бабки Раисы.
– Дома Аня? – спросила Геся.
Бабка недружелюбно оглядела Гесю. Видимо, в этом доме не любили новых людей. Кто их знает – какие они, новые. И без них жили, да и спокойней…
– Нету её, – буркнула бабка.
– Нету? – Геся удивилась, куда могла уйти Аня в такую непогоду, и тотчас распахнула дверь. – Можно её подождать?
Не дожидаясь ответа, она вошла в дом, и бабке Раисе ничего не оставалось, как провести её в кухню. Тут принялась она перетирать блюдца, ворча что-то себе под нос и недружелюбно поглядывая на гостью. Но Геся не усидела долго на кухне. Она спросила, где Анина комната, и поднялась в мезонин.
Бабка, стоя в низу лестницы, неодобрительно следила за уверенной поступью гостьи.
«Ишь, большеротая какая, – думала она, возвращаясь в кухню, – то покажи, другое покажи. И глазом не моргнет. Девки нонче, прости господи, чисто солдаты».
Бабка поджимала синие губы и, тряся головой, говорила на всю кухню. В этой одинокой привычной воркотне она забыла уже о назойливой гостье, когда дверь кухни вдруг снова распахнулась и на пороге встала Геся. Щеки её были мертвенно бледны, а в руках дрожал незапечатанный конверт.
– Чего ещё? – переполошилась бабка.
– Мне нужен отец Ани, – сказала Геся глухо.
– Вот те на, – вытянула бабка, вытирая полотенцем рот. – К чему тебе он занадобился?
– Мне нужен отец Ани, – повторила Геся громко и настойчиво. – И как можно скорей. Немедленно. Позовите его сейчас же сюда или проведите меня к нему.
Бабка рассердилась и угрожающе взмахнула кухонным полотенцем.
– Так и побежала сейчас.
Но гостью, видимо, трудно было сбить с толку или напугать.
– Хорошо, – сказала она холодно, – если вы не хотите, я сама найду его.
Она резко повернулась и пошла в комнаты.
Глава шестая. ВЫБОР СДЕЛАН
Утром она встала и сказала себе: «Сегодня я умру».
Потом принялась убирать волосы. Они упали к её коленям, тяжелые и желтые как светлая бронза.
– Какие хорошие волосы, – сказала Аня, и это были первые слова, обращенные к себе как к чужой.
Она как бы освобождалась от собственного «я», уходила от него. Она отбросила его сразу, она отходила понемногу, медленно, тихо, раздумчиво.
Так она жила. Так умирала.
Она подошла к зеркалу и внимательно себя оглядела.
– Ей было семнадцать лет, – сказала она негромко и монотонно, – блондинка, глаза голубые, лицо круглое, нос курносый, особых примет никаких…
Она стояла и пристально всматривалась в зеркало, будто впервые видела эту девушку и старалась запомнить её черты, чтобы унести их с собой. Потом принялась одеваться. Надевая шубку, заметила, что одна пуговица висит на ниточке. Она достала иголку, нитки и старательно, крепко пришила пуговицу. Положив иголку на место, она надела шубку и плотно застегнула её снизу доверху – на улице холодно…
Не торопясь спустившись вниз, она вышла на улицу. Над городом лежало низкое пасмурное небо. От реки порывами набегал резкий ветер.
Был воскресный день. Вразвалку шатались по улицам подвыпившие с утра мастеровые. Глухо темнели закрытыми ставнями лавки. Она шла по улицам, как ходят заезжие иногородцы. Она осматривалась вокруг, читала вывески, останавливалась, шла дальше.
В Ограде она посидела на скамейке, напротив магазина Щепетовой. Здесь они часто сиживали вместе и подолгу. Она прошла по Троицкому к Пинежекой. На этом вот углу она отдала ему книгу. Он ещё отморозил ухо, а она согревала его ухо рукой. Аня сняла рукавичку и поглядела на свою руку…
Она спустилась к реке, ушла далеко от города, к самому Кегострову, и долго стояла одна среди широкого снежного поля. Так стояли они в первый свой вечер.
Она вернулась в город.
Она шла, как паломник по святым местам, и говорила себе время от времени: «Здесь» – и останавливалась…
Она прошла на Поморскую и долго стояла возле знакомого дома. Что он сейчас делает? Она ждала в Ограде. Он не пришел. Впервые за многие недели она легла в постель, не повидав его. Это было третьего дня. Вчера он снова не пришел. Сегодня тоже. Почему? Она не знала. Но пусть так. Это, пожалуй, даже лучше. Пусть так. Без него легче было пройти снова по целой жизни и принять решение.
– Прощай! – сказала она тихо и пошла прочь.
Потом вернулась к себе я прибрала комнату.
Потом села за стол, взяла чистый лист бумаги, расправила загнувшийся уголок и медленно выписала:
«В смерти моей прошу никого не винить. Так вышло, и ничего не поделаешь. Так уж у нас в жизни устроено. Душно мне, душно, и никто мне помочь не может. Раньше как-то и не думалось об этом, привыкла к духоте. Но потом, потом… Когда я почувствовала, что у меня есть сердце, мне подумалось, что мир весь раскрылся передо мной, что я могу свободно дышать, свободно двигаться, свободно отдаваться своим стремлениям. И вот теперь я вижу – нет, это только кажется. Нельзя быть свободной, нельзя уйти из плена, нельзя выбирать свободно душе, ни поступать как хочешь, ни любить, ничего нельзя: всюду закрытые двери, и перегородки всякие, и нету сил выскочить из них. Я не вижу света, не вижу правды человеческой, ничего не вижу впереди. А если нет всего этого, то и жить не стоит, потому что ведь везде одно и то же, и дома, и в гимназии, не лучше, и везде вообще.
Папа, не сердись на меня за то, что я сделала. И чувствую, что я должна была бы сказать тебе что-то по-хорошему, и нет слов. После того, что было, не могу быть с тобой как раньше. Я любила тебя, а ты растоптал мою душу. Может, ты и не виноват, я тебя не виню. Тебя ведь тоже не учили жить. Тебя учили наживать, ты и наживал, а больше-то ничего и не знал. Ты прости меня и не думай, что я учу тебя. Нет. Это просто мысли вслух. Ужасно хочется хоть раз быть откровенной и говорить как думаешь. А впрочем, больше мне и нечего сказать тебе, да и не хочется, признаться. Что-то надорвалось в моей душе, и по-прежнему с тобой не могу. Я ведь такая же, как ты, негнущаяся, хоть по виду и тихая. Со мной иначе надо было. Ну, ладно. Будет об этом, поправить ничего уже нельзя ведь. Прости ещё раз за мой поступок, но иначе не могу. Передай то же маме и бабке, моей милой, ворчливой и заботливой бабке. Не бросай её, береги, если любишь ещё меня хоть чуточку.
Альма, подружка моя. Помнишь девичник наш? Разошлись мы, как видишь. Ты выбрала замужество, а я… я прорубь. Спасибо за всё хорошее, что ты мне делала всегда, за ласку твою. Не осуждай свою Аньку, не думай, что это оттого, что я размазня. Нет, Аленька, нет, не размазня я. Просто так вышло. Желаю тебе счастливой, хорошей жизни.
Гесенька, спасибо тоже и вам за дружбу. Вы из таких, которые могут через всё пройти и душу сохранить нетронутой. Я знаю – вы сильная и не согнётесь. Порадуюсь хоть за вас. Поцелуйте за меня Софью Моисеевну. Пусть не вспоминает обо мне плохо. Прошу у неё прощения за всё горе, что причинила ей. Пусть верит, что хотела сделать так, чтобы всем, всем было хорошо. Но этого никак нельзя. Верно она сказала, что и добрые всё равно зло приносят, так устроена жизнь. Я не хочу зла приносить, особенно тем; кого люблю душой.
И ты, Илюшенька, тебе-то всего трудней писать. Я хотела бы, чтобы ты понял меня. Я хотела бы, чтобы ты не осуждал меня и не очень жалел. Ведь ничего, кроме страдания, не было бы, если бы я осталась жить, – посмотрим в глаза правде, мой милый. Так ведь оно и есть, так и было бы. Уж я знаю. Есть на свете девушки, которые лучше меня в сто раз, которые смогут дать тебе счастье. Я глупая и слабая, не сумела принести его. Ты умный и смелый – найдешь. Твоя жизнь должна быть такой же прекрасной, как твоя душа, как весь ты. Всё, всё, что только есть в ней лучшего, пусть будет для тебя. Боже мой, боже мой, только сейчас, в эту минуту я поняла, как много я оставляю. Вот и слезы набежали. Но это ничего. Ты не думай, что мне тяжело. Нет. Теперь, когда всё решено, я уже не так страдаю.
Я с тобой до последней минутки. Прости меня, глупую, прости твою скверную Елку, не сумевшую дать тебе счастья. Не стоит жалеть о ней. Не надо. А если всё же потом, когда-нибудь вспомнишь обо мне, вспомни по-хорошему.
Прощай, прощай… Не знаю, не знаю, как оторваться от тебя. Прощай же. Прощай…»
Аня отложила перо, и впервые за весь день дрогнуло её сердце. Может быть, она делает не то, что нужно? Может быть, надо всё-таки жить, жить во что бы то ни стало и брать счастье хоть урывками, хоть минутками?
Но тогда что же? Тогда надо разорвать себя на частицы и жить одной частицей существа и быть мертвой другими. Может она это сделать? Умеет она это делать?
Нет. Она может жить только целиком, только всем, что есть в ней.
Она откидывает назад косу, и медленные слезы текут по её щекам. Ей жаль уходящую из жизни девушку.
Наконец она встает из-за стола, вытирает глаза и одевается в свое лучшее платье. Потом обходит комнату. Она прикасается к одной вещи, к другой. Держит их в руках, поглаживает, прижимается к ним щекой, приникает всем телом. Вещи обступают её, как старые, испытанные друзья. Комната дышит давно забытыми и вновь возникающими мыслями…
– Прощайте! Прощайте, – говорит она, качая головой, и надевает шубку.
Потом подходит к зеркалу и надевает шапочку, старательно подбирая под неё выбившиеся прядки светлых волос. В последний раз она оглядывает стоящую в зыбком стекле девушку и кивает головой.
– Прощай, – говорит она ласково. – Прощай.
Потом еще раз оглядывает все вокруг и говорит вздохнув:
– Вот и всё.
Потом поворачивается и выходит из комнаты.
Бабка стоит возле крана и ополаскивает какую-то миску. Аня пробегает мимо неё и, перехватив на лету укоризненный и вопрошающий взгляд, выскакивает на крыльцо.
В ноги ударяет неровный свистящий ветер. Густая белесая метелица заволакивает двор, улицу, высокий забор. В нижнем этаже кто-то из приказчиков тренькает на балалайке.
Она сбегает с крыльца и идет сквозь плотный наволок метели недальней своей дорогой. Дойдя до набережной, она спускается к реке. Здесь, на просторе, ветер зло и остервенело кидается ей навстречу. Она останавливается, низко нагибает голову и снова идёт вперед, в гудящую тьму. Под рыхлым свежим наметом лежит накатанный пласт дороги. Значит, она идет правильно… Это, должно быть, где-то близко, шагах в ста от берега…
Она вглядывается в снежную заволоку, прикрыв глаза рукой. Влево что-то в самом деле темнеет.
Она оставляет дорогу и сразу проваливается по колено в снег. Она падает на бок, и ветер закидывает её густой снежной россыпью. Она поднимается и упрямо идёт вперед. Темное пятно густеет и распадается. Она различает торчащие из снега елки. Это вешки, которыми обставлена прорубь. Сюда, с двоеручными корзинами на низких саночках, приходят днем бабы полоскать белье. Для них и прорублен близ берега этот водяной лаз.
Увидев вешки, она кидается вперед. Шубка распахивается. Ветер подхватывает разлетающиеся полы, тянет назад. Она хватается руками за вешку. Колючая хвоя царапает кожу. Она отдергивает руку. Меж пальцев застревает оборванная резким движением веточка – темная, обледенелая, шершавая.
Аня смотрит на неё жалостливыми глазами и прячет за вырез платья к теплой груди – пусть пригреется.
Потом она поворачивается, и глаза её останавливаются на зияющей черноте проруби.
Она содрогается и отступает. За пазухой, как пичуга, трепыхается колкая веточка.
– Елка, – говорит она, – елка, – и, прижимая руки к груди, вдавливает в тело холодную упругую веточку. – Елка.
Потом делает шаг вперед и, закрыв глаза, катится по обледенелому скату вниз, к темной, стылой воде…
Глава седьмая. САМОУБИЙСТВО ОТМЕНЕНО
Гроб стоит в церкви. Он сделан по особому заказу, обит глазетом и парчой. Свечной чад и густое дыхание толпы подымается к высоким церковным сводам. На хорах трубно отхаркиваются громоподобные басы с пунцовыми носами и львиными шевелюрами. Подростки-дисканты в синих балахонах пощипывают исподтишка друг друга и, отвернувшись, фыркают. Соборный хор в полном составе.
Давно не видали архангелогородцы столь богатых и пышных похорон.
– Тыщи в полторы, поди, вскочила Матвею Евсеичу покойница-то, – шепчет соседу плотный рыбнорядец.
Сосед истово крестится и, скосив глазок на приятеля, бросает солидно:
– Полторы? А я так смекаю, и тремя не обошлось.
– Ну-у? – почти испуганно шепчет рыбнорядец. – Ай да Матвей Евсеич.
Он вытягивает шею и приподымается на цыпочки, чтобы взглянуть через плотный частокол голов на щедрого родителя. В глазах его – нескрываемое уважение, почти восторг.
Матвей Евсеевич высится возле гроба неподвижной огромной тушей. Как вошел в церковь, как стал на этом месте, так и стоит каменной глыбой. Всей церемонией распоряжается старший приказчик Матвея Евсеевича – расторопный и хлипенький человечек с бородкой клинышком и блудливыми глазками. Время от времени он подступает лисьими, крадущимися шажками к хозяину и, приподнявшись на носки, что-то шепчет ему на ухо. Матвей Евсеевич поводит густой бровью и снова застывает в мертвой неподвижности. Он не видит ни приказчика, ни всхлипывающей рядом Агнии Митрофановны, ни повязанной черным платком бабки Раисы, стоящей возле гроба на коленях, ни блеска свечей, ни потной толпы, набившей церковь жарким комом до самой паперти… Нагнув тяжелую голову, он смотрит прямо перед собой на невысокий холмик гроба.
Перед ним в тяжелом дубовом ларе ногами к востоку лежит легкое и тихое тело, позади – суетливая и обессмысленная жизнь, и день терзаний, и страшная фантастическая ночь… Он не дочитал принесенного Гесей письма, он понял только одно слово «прорубь». Он не помнил, как очутился на улице, как стоял в метельной мгле перед черной дырой водяного лаза и звал назад свою наследницу, как молотил кулаками в двери приказчичьих комнат. Он ревел как раненый бык и сулил все богатства земли метавшимся вокруг него людям.
Через час вокруг проруби раскинулся ночной лагерь. Дрожали чадные факелы, скрипели санные полозья, яростно долбили зеленый лед остроносые пешни.
Вниз по течению прорубали широкую полынью, обшаривали баграми неглубокое дно и рубили дальше. Ветер относил к берегу густые хлопья метели, осколки льда, надсадные вскрики людей. Вырубленные продолговатые льдины оттаскивали на санках в сторону, и они стояли, блестя крутыми боками, как сказочные хрустальные гробы.
К рассвету её нашли. Молоденький кудрявый приказчик, дрожа от холода и страха, нечаянным движением багра вскинул к краю черной ямины светлое пятно. Кто-то подхватил его, кто-то выкинул наверх. Глухо ударилось негнущееся тело о вытоптанный снег. Суетливо заметался старший приказчик, покрикивая: «А ну, взяли, взяли, братцы!»
Но никто не брал. Сняв шапки, стояли в дрожащем свете факелов молчаливые искатели возле страшной находки.
Потом круг разомкнулся, и в него вошел Матвей Евсеевич – без шапки, в шубе нараспашку.
Он молча поднял распростертое у его ног тело и, не замечая его тяжести, не замечая бегущей ручьями воды, понес к берегу.
Несколько часов спустя вокруг этого безучастного ко всему тела разыгралась бурная церковно-полицейская интермедия.
Вначале появился околоточный, потом пристав, потом даже полицмейстер. Сам губернатор был обеспокоен происшествием, хотя казалось бы, что его-то вовсе не касались душевные переживания гимназистки, приведшие к катастрофе.
Но обстоятельства сложились так, что внушали беспокойство. В городе уже распространились слухи о беспорядках в гимназии. Дерзкие требования гимназистов и короткая забастовка старшеклассников усилили беспокойство. Было известно и об участии гимназистов в проводах ссыльного Новикова. Выстрел Никишина внес ещё больше смуты. Сведения обо всём начали просачиваться в газеты и внушили начальству серьезные опасения. В довершение всего в руки начальства попал экстренный выпуск гимназической газеты с политическим воззванием; стало известно, что у реалистов появились первые признаки брожения.
Самоубийство гимназистки сразу после истории с Никишиным давало новый повод к брожению и волнениям – и не только среди учащихся. Председатель родительского комитета посетил директора гимназии, выразил протест против того, что в эти чреватые событиями дни родительский комитет намеренно отстранен от участия в разрешении больных вопросов и представитель его не был приглашен на заседание педагогического совета, решившее судьбу двух гимназистов. Тут же взволнованный председатель настоял на экстренном созыве родительского комитета.
Все эти события обеспокоили и высокое начальство. Губернатор для поддержания в городе должного порядка пришел к счастливой мысли уничтожить повод к новым волнениям. Самоубийство гимназистки отменялось и вместо того приказано было установить естественную смерть от неотвратимого недуга, которая, как известно, не может вызвать никаких общественных волнений.
Были приняты соответствующие меры гражданского порядка. Но существовала в этом деле ещё одна заинтересованная сторона. Дело в том, что гражданская отмена самоубийства ещё не исчерпывала вопроса. Самоубийца, согласно существовавшим установлениям, лишался права на церковное погребение. Священнослужители не шли за его гробом, останки его кидались в могильную яму без молитв и песнопений. Такие похороны, конечно, раскрыли бы всё, что хотели скрыть обеспокоенные начальники, и отсутствие духовенства, особенно на похоронах наследницы известного в городе человека, сразу стало бы скандальным. Нужно было поэтому привлечь к покрытию греха местных духовных пастырей, и к архиерею был послан для переговоров по щекотливому делу чиновник особых поручений при губернаторе.
Соответствующие инструкции получил и полицмейстер, отправившийся к Матвею Евсеевичу с выражением соболезнования, с советом не поскупиться на даяния и с планом необходимых в этом случае действий.
Матвей Евсеевич, которому зазорно было бы бросить дочь в безвестную могилу на краю кладбища, с готовностью пошел на всё, что ему предлагали.
Тотчас были собраны все до единого участники ночного похода к проруби. Господин пристав сделал всем строжайшее внушение, к этому Матвей Евсеевич прибавил по четвертному билету на брата. Хрустящие бумажки и страх перед полицией навеки запечатали уста нежеланных свидетелей. Но были и другие – и среди них особо неприятные, вроде потревоженного ночью врача и невесть откуда взявшегося репортера.
Юркий газетчик, уже взбудораживший общественное мнение заметкой о Никишине, возмечтал на этот раз о большем. Ему виделась отпечатанная энергичным шрифтом статья под названием «В тупике», негодующие строки которой будят равнодушные сердца и открывают путь к славе мужественному публицисту. Это была давняя честолюбивая мечта маленького репортерского сердца. И вот свершилось, вот пришел долгожданный случай, вот готово смелое гражданское выступление, штраф, может быть, отсидка редактора и конфискация номера газеты, шум, сенсация и слава, слава, слава…
Но, увы, слава не состоялась, и гражданское мужество также. Репортер получил сто рублей и, тяжко вздохнув, отложил гражданские доблести до другого случая.
Врач был независимей репортера, упрямей и храбрей. Он получил поэтому пятьсот рублей в обмен на свидетельство о том, что не было страшной ночи, не было последнего человеческого отчаяния, не было стылой и черной воды проруби, а было всего-навсего острое и заразное заболевание. Острота наскоро сочиненного заболевания должна была оправдать молниеносность катастрофы, а заразность необходима была для того, чтобы получить право не открывать в церкви гроб и скрыть от нескромных взоров синее, распухшее лицо утопленницы.
Всё, таким образом, было предусмотрено, и на этом участке никаких осложнений не предвиделось. Несколько большие опасения вызывала неясная сперва позиция архиерея, представляющего в губернии божественную благодать и строгую церковную десницу. Но и тут в конце концов дело обошлось без осложнений. К дипломатическим и тонким доводам чиновника особых поручений при губернаторе Матвей Евсеевич приложил пять тысяч рублей, и божественная благодать была возвращена усопшей. И вот она лежит в церкви головой к дверям, ногами к востоку, и синие дисканты выпевают над ней грустные песнопения.
Всё идет положенным чином. Служба близится к концу. Гроб поднимают.
Жарким потоком хлынула толпа через тесный церковный притвор на морозную улицу. Дисканты прозвенели «Святый боже…». Мальчишки, опережая всех, гурьбой высыпали к церковной ограде.
Тут ждало их новое зрелище. Мимо промчался пышный свадебный поезд. Толпа, любопытствуя, шарахнулась к церковной ограде, к воротам. Погребальный чин несколько сбился. Колыхнулся остановившийся на самом выезде гроб.
Колыхнулся флердоранж на фате невесты. Мелькнули быстрые санки, застланные дорогим ковром. «В день свадьбы встретимся», – писала три дня тому назад Альма, и вот они встретились и разминулись…
Геся, по странной случайности ставшая как бы душеприказчицей Ани, своевременно озаботилась доставить Альме относящуюся к ней часть Аниного письма и свою объяснительную приписку, но письмо не дошло по назначению – и не по её вине.
Дважды Геся заходила к Штекерам и не заставала Альмы, проводившей последний девичий день у любимой тетки в пригородной Соломбале. Вечером она передала письмо Рыбакову, который взялся доставить его через Жолю Штекера.
Жоля был удивлен передачей, так как Рыбаков в поклонниках его сестры не числился. Тем больше заинтересовало письмо – неужели и Рыбакова Альма полонила? Вот они – серьезные-то политики, тоже исподтишка записочки перекидывают. Жоле страх как захотелось заглянуть в письмо, чтобы узнать, как это «серьезные» объясняются гимназисткам, и потом хорошенько подзудить Рыбакова. Колебания Жоли были не слишком долгими, так как он никогда не был особенно обременен совестливостью. Вернувшись после уроков домой, он пришел к себе в комнату и, замкнув дверь на ключ, осторожно расклеил конверт.
То, что он прочел, было совсем не то, чего он ожидал, и повергло Жолю в сильнейшее затруднение. Как ни был он неразборчив и легкомыслен, всё же и ему неловко было бы передать сестре такое письмо перед самой свадьбой. Кроме всего прочего, он нарушил бы этим существовавший семейный заговор. Слушок о происшествии на Архиерейской улице, вопреки принятым начальством мерам, быстро распространился по городу и достиг дома Штекеров. Тогда-то и составился вокруг Альмы заговор молчания. Тетка, портнихи, прислуга – все, кто соприкасался в этот день с Альмой, получили от её матери строжайшие инструкции, и Альма ничего не знала о судьбе подруги. В заговор вовлекли бывшую одноклассницу Альмы – бойкую и разбитную Петрушкевич. Перед самым венчанием Петрушкевич сообщила Альме, что Аня простудилась и на свадьбе не будет. Альма сперва растревожилась было, но потом в свадебной суете всё забылось. Молодые сели за свадебный стол, потом их отвезли на вокзал и посадили в купе вагона первого класса. Так началось их свадебное путешествие в Петербург.
В самую последнюю минуту, когда на перроне заверещал переливчатый свисток главного кондуктора, Жоля сунул сестре письмо, не сказав, от кого оно, и прыгнул с вагонных ступенек вниз. Поезд тронулся. Альма, даже не взглянув на конверт и думая, что это какое-нибудь запоздалое поздравление, небрежно сунула его в сумочку и тотчас забыла о нём. Под ногами застучали колеса. Низкие вокзальные строения остались позади. Впереди был блестящий, приманчивый Петербург.