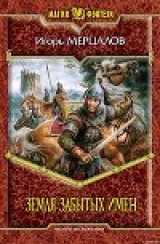
Текст книги "Земля Забытых Имен"
Автор книги: Игорь Мерцалов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
И тем не менее Яромир по-прежнему на свободе, не захватила его зловещая демоница! Везение выручает? Или Тьма просто играет с ним? Стремится не столько убить, сколько… сломить?
Нехлад не видел в этом никакого смысла.
До Перекрестья добрались к рассвету. Небо на востоке налилось румянцем, однако над головами сгущались тучи. Недобрые тучи, точь-в-точь та хмарь в Ашете. Разглядев их. Нехлад стиснул зубы. Неужели будет что-то еще?
Селение гудело. Уже сейчас оно более чем наполовину было застроено постоялыми дворами, где находили отдых обозы после перехода через Согру. Работники из Новосельца, добравшиеся сюда вчера, уже собирались идти дальше, к месту будущей Опорной заставы. Однако Нехлад быстро разглядел, что отнюдь не только сборы занимали людей.
Старосту искать не пришлось, тот сам навстречу вышел и, едва поздоровавшись, сказал:
– У меня гонец из Новосельца, тебя искал, Нехлад Булатович.
Люди с тревогой провожали взглядами сына Владимира и его товарищей, побывавших в бою, иногда слышались вопросы: кто посмел напасть, не немарцы ли вновь просочились? Яромир отвечал коротко: «Скоро все узнаете, скоро».
Пока сельчане осторожно снимали с седел убитых и раненых, староста увлек Нехлада в горницу. Навстречу ему поднялся десятник Волоча из числа ближников Владимира. Серое лицо его в свете непогашенной лучины казалось маской.
– Ты здесь, Булатыч? Этого я и боялся…
– Волоча, что в Новосельце? – воскликнул Нехлад.
– Бежать тебе надо немедля. Бежать!
* * *
Совсем не весенним холодом тянуло из приоткрытого окна, но Владимир заметил это, лишь когда вздрогнул всем телом. Бесцветный голос Некраса убаюкивал, но усыпить не мог.
– Счел я, как ты просил: чтобы за пять – семь лет каменную стену выстроить, требуется нам повозок вдвое против того, что сейчас имеем. Каменотесных работ на тысячу двести золотых произвести требуется, плотницких – на пятьсот, разнорабочих на столько же, корма для тяглового скота на четыреста. Сподручья всякого на двести… Знаешь, Булат, – прервал себя счетовод, – о чем мне думается? А что, если выписать каменщиков из Хаража? Ведь тамошние мастера чудо как хороши, камень в руках у них послушен, как дерево под ножом резчика! Новоселец никогда не будет большим городом, так пусть он будет красивым и могучим… Да ты меня не слушаешь совсем, Булат! – наконец-то заметил он и, отложив бумагу, покачал головой: – Сам ведь хотел заняться делами обыденными.
– Прости, – ответил боярин. – Не могу сосредоточиться.
– Ну так ложись и спи.
– И сон нейдет. Холодная нынче ночь, а?
Он встал, чтобы притворить ставни, но, подойдя к окну, услышал стук копыт и выглянул наружу. Во внутренний двор терема, освещенный факелами, въехал всадник, сопровождаемый дружинником из караула. Лих. Куколь надвинут на лоб, плащ прикрывает маленькую фигуру, сидящую перед ним.
Через минуту в горницу вошел Волоча.
– Боярин! Лих приехал с запада, к тебе просится, по делу важному. Просил передать, что его Дайнуром зовут.
– Приведи его, – быстро сказал Владимир.
Дайнур, один из проводников! Тот, что сбежал… Неужели он сумел прорваться сквозь ряды навайев?
Дайнур появился со своей спутницей. Голова ее была низко опущена, бледная рука держала полы плаща на груди. Из-под куколя виднелся только черный локон. Почему-то вместе с ними вошли в горницу и дружинник, что проводил гостей от ворот, и Волоча. Лих коротко поклонился в знак приветствия, но рта не открыл, просто встал, вперив во Владимира немигающий взгляд.
– Возвращайтесь на свои места, – сказал Булат воинам.
– Не надо, – тихо сказала девушка. – Ни к чему.
И, к безмерному удивлению Владимира, воины не тронулись с места. Они стояли неподвижно, во все глаза глядя на девушку.
Он с трудом оторвал взор от ее бледной руки.
– Что это значит, Дайнур?
Лих заговорил, и боярин услышал, как застонал счетовод. Лицо Дайнура, мелово-бледное, не было лицом живого человека! Берестяная личина оскалилась…
– Моей госпоже нужен твой сын, – сказал Дайнур. – Где он?
– Воины! – воскликнул Владимир, чувствуя, как вязкая тяжесть сковывает члены. – Взять их!
Волоча шевельнулся, но тут девушка откинула куколь – и… мир перестал существовать. Остались только безумные звезды ее очей на белом лице. Холод усилился, и казалось, что даже светильники в горнице пригасли.
– Никто никого не будет хватать, – сказала она, по-прежнему тихо, на грани шепота, но слышалась в ее низковатом голосе ужасающая сила. – Мне нужен юноша Нехлад. Приведите его – и довольно.
– Ты никогда не получишь его, ведьма! – выдавил Булат, едва ворочая языком.
– Не надо лишних слов. Приведи Нехлада.
– Зачем он тебе, ведьма?
– Даю тебе последнюю возможность сказать. Дайнур! Лих, стоявший до этого неподвижно, метнулся к счетоводу, выхватывая нож. Раздался короткий вскрик.
– Мне долго ждать? – спросила упырица.
Хриплое карканье, вырвавшееся из горла Волочи, сложилось в слова:
– Он не здесь… Он там, на востоке!
– Молчи! – крикнул Владимир.
И крик его расколол оцепенение. Ожили руки, рванули меч из ножен, но Дайнур молниеносным движением ушел от замаха, исчез из поля зрения; и тотчас спину боярина пронзила боль. Владимир упал на бок и, наверное, видел, как Волоча и второй дружинник тоже схватились за мечи. Дайнур, перепрыгнув через боярина, метнулся навстречу. Они сошлись, сверкнула сталь. Дружинник осел на пол, держась за живот. Клинок десятника вонзился в лиха, но тот едва покачнулся! Обхватив пальцами заточенную сталь, Дайнур рванул меч из рук Волочи, вытянул из страшной раны – ни капли крови не было на клинке.
От удара в грудь нож сломался, но пробил доспех, опрокинув десятника наземь. Лих склонился над ним, отшвырнув меч… и вонзил зубы в шею. Волоча взвыл, но пальцы Дайнура легли ему на рот, вырваться из хватки было невозможно.
Что было дальше, Волоча не помнил, а может, просто не мог рассказать. Он говорил о том, как мчался к конюшне, крича, чтобы все немедленно бежали на восток, потом мчался очертя голову через Новоселец в окутавшую равнину ночь. Но связности в его рассказе не было, и он все время возвращался к тому последнему мигу…
* * *
– Ничего не помню… Он пил мою кровь! Присосался и пил! – всхлипывая, повторял Волоча. – Я не мог противиться ей… Когда очнулся, уже скакал во весь опор из города… Он же кровь мою пил… прямо из шеи!
– Дай-ка посмотреть, – сказал Ворна и протянул руку, чтобы взять его за подбородок.
Волоча как-то по-щенячьи взвизгнул, опуская голову и закрывая шею руками.
– Нет! Надо бежать, скорее! Нехлад, я ведь сказал ей, что ты здесь! Прости меня, Нехлад…
Яромир не ответил. Его отец погиб или – невыносимо думать! – попал в лапы упырицы, стал таким же, как Дайнур… Что там Волоча говорил про холод? Холод – это не чары, это боль и тоска. Отец!
Вместо Нехлада заговорил Ворна:
– Брось! Не много ума нужно упырице, чтобы скумекать, в какой стороне Нехлада искать. А себя не вини – что ты мог сделать против чар?
– Я – против чар?!.. Ничего, конечно, ничего! Я же не Булат, это он не поддался, а я…
– Так зачем она тебя отпустила? – слыша себя будто со стороны, спросил Яромир. – Ведь не для того же, чтобы предупредил?
– А? Нет-нет, она… что-то говорила – я не помню что… Наверное, просто хотела напугать вас!
– И внести разлад, – закончил Ворна. – Что ж, надо спешить. По коням! Нехлад…
– Уезжайте. Я остаюсь.
– А ну не дури! Ты что, решил поверить лживой ведьме, мол, ты один только ей и нужен? Будь это правда, твой отец остался бы жив! Выбрось это из головы, ученик! Если она тебя получит, значит, жертва Владимира была напрасна.
– Ворна! – в тоске воскликнул Нехлад. – Ее все равно не остановить! Так будет хоть надежда, что люди уцелеют, а иначе она и в Нарог за мной придет! Пойми ты, я ведь сам жить не смогу, если не посмотрю этой мрази в лицо…
– А на меня бесчестье повесить – это ладно? Если я тебя не уберегу, как на том свете в глаза Булату посмотрю?.. Вот что, Нехлад! – уже не сдерживая ярости, воскликнул дядька. – Или идешь сам, или я тебя сей же час оглушу и кину поперек седла! После казни как знаешь, но я тебя отсюда вытащу…
Яромир отвернулся. Говорить он не мог – тоска беспросветная перехватила горло. Холод… холод накатывает со всех сторон…
Безумный крик заставил его вздрогнуть. Торопча медленно отступал от десятника с тряпицей в руке, а тот рвал на груди рубаху, крича:
– Где кровь? Почему нет крови?
– О боги… – простонал Ворна.
И замер. Со двора послышался стук копыт, в открытом окне мелькнули два всадника. Трудно было что-то разглядеть в сером сумраке недоброго утра, еще труднее – выделить конскую поступь среди шумов проснувшегося селения. Но этот холод, разлившийся в безветренном воздухе…
Кровь стучала в ушах. Нехлад вышел на крыльцо. Перед ним стояли два всадника: Дайнур и упырица. Как и говорил Волоча, в сером плаще, на светлом красавце-лихаче. Плащ соскользнул с левого плеча, стало видно, что на ней и впрямь обычная рубашка, та самая, в какой она снилась, с тем же узким ножом на тонком пояске.
На рубахе Дайнура зияла прореха, сквозь которую виднелась страшная рана, кажется не причинявшая ему особого беспокойства.
Справа возник Ворна, замер – не оцепенел, как Нехлад, а как зверь перед прыжком напрягся. В тот же миг Торопча выпустил стрелу прямо через окно. Однако, невиданное дело, промахнулся. Стрела чиркнула по воздуху и с глухим стуком впилась в конек дома напротив. Как ни странно, никто не обратил на это внимания. Через невысокую ограду было видно, что по улице как раз едет обоз со строителями, однако ни один человек так и не повернул головы к жилищу старосты.
Упырица даже не шелохнулась, словно заранее знала, что стрела пойдет вкось, что даже тетива прозвенит не бойко, как всегда, а вяло и бессильно.
Нехлад спустился по ступеням.
– Ну вот он я, – проговорил он.
– Твой отец мертв, – произнесла она, неспешно оглядев Яромира с головы до ног. – Поедешь со мной?
– Сперва через меня перешагни, ведьма! – прорычал Ворна.
Упырица пожала плечами:
– Это нетрудно. Отступись, глупый старик, так будет лучше для всех.
Сил оглянуться не было, и Нехлад сказал, глядя в лицо противнице:
– Не надо, Ворна. Она меня не отпустит, так лучше закончить все прямо сейчас.
Упырица наклонилась в седле и, коротко улыбнувшись, сказала:
– Прекрасно. Вот теперь ты готов…
– Не давайся ведьме лживой, Яромир! Ты ей не достанешься! – воскликнул Ворна и бросился вперед, обнажая меч.
«Зачем, ну зачем? – мог бы сказать ему Нехлад. – Не имеет значения, пытаешься ты ее остановить или нет, ведь все равно не остановишь». Он даже хотел так сказать, но… не слишком сильным было это желание. Потому что и впрямь все равно ему стало. Да и сил слишком мало, чтобы тратить их на никчемные слова.
Дайнур ударил пятками коня и преградил Ворне дорогу. В руке его оказался славирский меч, взятый, должно быть, у десятника, погибшего рядом с Владимиром в Новосельце. Клинки сошлись, могучий удар Ворны был отбит, и лих, живой мертвец, уже готов был погрузить сталь в шею старого воина, как вдруг снова пропела тетива, и срезень почти начисто смахнул голову Дайнура – она повисла, как сброшенный на спину куколь.
Мертвый лих нелепо взмахнул руками. Ворна схватил его за кисть и сбросил наземь, вырывая из пальцев меч. Два клинка описали в воздухе свистящие круги и надвое рассекли тело Дайнура. Оно все еще билось, но уже не направлялось темной волей.
Из дома послышались звуки борьбы, а Ворна, выпрямившись, двинулся к упырице. Первый шаг его был тверд, второй уже неуверен, а на третьем он остановился.
Конечно, мог бы сказать ему Нехлад и, видят боги, чуть было не сказал. Ее чары сильнее. Кто может противиться черному колдовству? Как там Волоча сказал? «Я не Булат…»
Отец – мог. И Ворна – делает, что может. Ибо есть, есть оберег от самой лютой ворожбы!
«Да что со мной?» – подумал Нехлад, и вдруг вязкая тоска, что сковывала его, сменилась острой болью утраты. Отчего-то только сейчас, глядя, как дрожит, силясь сделать еще один шаг, мощное тело Ворны, он с предельной отчетливостью осознал, что лишился отца – человека, который мог сражаться до конца.
Впрочем, не было в его душе ни этих, ни подобных слов, не было ни мыслей, ни решения, а только самоубийственная вспышка – как прыжок в пропасть. Ярость всколыхнулась в крови вместе с болью. Он выхватил меч.
Дальнейшее Нехлад помнил смутно, как в бреду. До упырицы не добрался. Почувствовал толчок в спину, и ноги сразу подкосились, он упал. Приподнялся на ватной руке и увидел, как Волоча, почему-то охваченный огнем с левого бока, отворачивается от него и вонзает окровавленный меч в Ворну. Потом опять склоняется над Нехладом. Рот приоткрыт, зубы блестят… Резкий окрик упырицы:
– Не смей!
Вздрогнул Волоча, отшатнулся, но было поздно. Взбешенная ведьма взмахнула рукой, и десятник повалился обмякшей куклой. В следующий миг Тинар, дотоле ничем себя не проявивший, шагнул откуда-то из-за угла и звонко хлестнул кнутом коня упырицы. Конь взвился, чуть не сбросив всадницу. Тотчас выбежал на крыльцо Торопча с залитым кровью плечом и бросил ему под копыта светильник. Глина раскололась, полыхнуло разлившееся масло. Держали коня чары или нет, страх перед огнем оказался сильнее, скакун метнулся к воротам и помчался прочь. Было слышно, как кричат в испуге люди, уступая ему дорогу.
И тут же раздались крики:
– Пожар! Горим!
Какой еще пожар, откуда? Краем глаза Нехлад увидел всполохи огня в окне дома старосты. Как-то это связывалось в голове с разбитым светильником и образом горящего Волочи, но толком не связалось. Навалилось прежнее тупое оцепенение, заколотилась огненная боль под лопаткой, и Нехлад с облегчением позволил себе уйти во мрак беспамятства, думая о том, что уж теперь-то непременно умрет.
Часть вторая
Глава 1
Ветер был прохладным, но радостным, заповедный лес отзывался на него нетерпеливым говором, шуршал-шуршал о чем-то поспешно, взахлеб, торопясь и сбиваясь. И шелестела рябина над безымянным ручьем, рассказывая побратиму обо всем, что случилось в заповедном лесу за время его долгого отсутствия.
Наверное, обильны и важны были эти события. Вот и ручей-друг поддакивает своим вечным шепотком: теньк… все так, все так… чур, я! теньк…
Жать, Нехлад не мог разобрать лесного языка.
Впрочем, кое-что он все-таки понял, и если подумать, то совсем немало. Уж самое главное – точно. Первая мысль его была, когда он после долгого отсутствия впервые, срываясь на бег, дошел до рябины, первый вопрос: была ли здесь она на самом деле, въяве? Или только…
Только сон. мутная, морочная навь. Не ступала здесь нога упырицы. Ни следов чьего-то присутствия не нашел Нехлад, ни. упаси благие боги, погибели и запустения. Ни тени страшных воспоминаний в говоре листвы.
Успокоенный, он постоял в обнимку с рябиной, а потом прилег, прислонившись к ней и смежив веки. Рассказывай, побратим, вернее молвить, посестрея[25]25
Названая сестра.
[Закрыть]… Пусть будет твой мирный рассказ, и солнце пусть пятнает травы сквозь лиственные покровы. И ты, друг ручей, поучай, вразумляй – может, когда-то я и пойму тебя…
Да и меня послушай, рябина-сестрица… или все-таки брат, как раньше называл тебя? Или это не столь важно – а просто теперь во всем видится женский облик?..
Ты тоже послушай, мне ведь есть о чем поведать. Ну про то, что осиротели, не буду – слишком страшно вспоминать, как это было. Грустно и тоскливо вспоминать о долгом пути домой. Гадко – о том, что предшествовало возвращению…
Впрочем, теперь все представляется иначе. И может быть, муки и терзания стоили единственного просвета?
Вроде бы бесполезное теперь занятие – исчислять цену минувшего. А почему-то кажется, что именно это и важно.
С чего же начать, сестра?
Наверное, стоило бы по порядку, но в сердце солнечной каплей горит-трепещет воспоминание о том дне, когда он пробудился…
* * *
А пробудился он солнечным утром, и пробудила его песня. Или нет – музыка, серебристый напев струн, чем-то похожий на теньканье родного ручья. Радость утра отражалась в нежной переливчатой мелодии, но вместе с тем что-то горькое, затаенное в ней звучало, словно и не сама эта радость была, а только мечта о радости. Трудно сказать, достижимая ли…
Но сперва он подумал, что это продолжение сна.
Почему нет? И в затянувшемся сне были свои проблески света – особенно мучительные оттого, что остро напоминали о пережитых потерях, но все же по-своему прекрасные.
Наверное, неправильно было называть его прежнее состояние сном. Полусмерть – точное слово. Он не знал, сколько времени провел на краю, где клочки изорванной памяти мешались с пестрым листопадом призрачных видений, образуя дикий узор – больным умом изобретенная помесь яви и нави.
Заботливые руки друзей, их встревоженные лица – и тени павших между ними. Он, впрочем, не различал умерших и живых и часто, когда с ним разговаривали, отвечал то Торопче, то Ворне, то Тинару, то Кроху. Не раз под сенью деревьев глухоманья видел отца, но Владимир Булат почему-то не желал перемолвиться с ним.
Он кричал, звал его, но в редкие минуты просветления осознавал: надо просто подождать, когда сам скатится на ту сторону, – и там уже ничто не помешает им поговорить…
Он сознавал, что его везут на какой-то повозке, но ничуть не удивлялся, когда дебри Согры вдруг расступались и вокруг расстилалась равнина Ашета, затененная зловещими тучами с гор.
Прошлое и настоящее – все было рядом…
Часто приходила упырица со своей невысказанной загадкой. Что же ей было нужно от него? Порой чудилось, что ответ близок, уже найден – но забывался.
Потом он вдруг заметил, что никакой повозки под ним уже нет. Никуда он не едет, а лежит в уютной горнице с незнакомой резьбой на потолке, с полузнакомой вышивкой на занавесках… А из всех лиц чаще всего является лицо прекрасной девушки – совершенно незнакомое и вместе с тем как будто близкое…
Наступило не сразу осознанное прояснение, сузился круг навещавших его лиц.
Павшие больше не приходили.
Нехлад смирился с тем, что смерть отдалилась, однако и к жизни не стремился.
* * *
В музыку вплелся голос, настолько дивный, что у Нехлада дыхание перехватило. Сердце забилось в такт песне. Какое-то время он внимал ей, не слыша слов.
Как судьба со всех концов
Собирала молодцов
На почестей пир, веселье раздольное.
Привечала за столом,
Угощала их вином,
Подносила им сама чаши полные,
Чаша доблести терпка,
Чаша нежности сладка.
Чаша робости – в ней затхлость старинная.
Чаша ярости темна,
Чаша юных дум хмельна,
Чаша памяти – в ней горечь полынная,
Чаша памяти горька, Даже твердая рука
Дрогнет, поднося к устам зелье времени!
Что глоток – то стыд и боль,
Совесть жжет, как рану соль,
В чаше памяти – и скорбь, и прозрение.
Как же с этой чашей быть?
То ль для виду пригубить,
То ли выплеснуть те годы-мгновения?
То ли, сердце укрепив
И до капли осушив,
Навсегда оставить муки сомнения…
«Да ведь это же про меня!» – потрясенно подумал он, и жгучие слезы хлынули из глаз.
Что оплакивал? Словами не пересказать…
* * *
Яромир подошел к распахнутому окну. За ним открывался светлый сад, трепетно внимающий перебору струн. Казалось, и говор вишен и яблонь, и перекличка пичуг невольно подлаживаются под музыку – будто весь сад был одним большим сердцем…
Она сидела на скамье под вишней и, прикрыв глаза, играла на лебединке.[26]26
У славиров – крыловидные гусли.
[Закрыть] Но вот почувствовала взгляд, оглянулась и улыбнулась. Пальцы замерли, а музыка – словно бы нет.
– Как красиво ты поешь, – выговорил Яромир. Горло ссохлось от долгого молчания.
– Я рада, что тебе понравилось, – ответила она. Встала, положив гусли на скамью, и приблизилась. Нехлад смотрел во все глаза. Что в ней такого? Свежа и чиста, как все в ее летах, мила – но не более. А он глупо улыбался, не в силах отвести взор, и даже, наверное, зарделся, когда она простым и естественным движением положила теплую ладонь на его руку.
– Как хорошо, что ты встал, а то я уже боялась, что умрешь, – с легким упреком сказала она.
Вот теперь Нехлад точно покраснел. Чаша памяти горька… но он уже испил ее, а если остались несколько глотков – что ж, отыщет силы и сделает их!
– Ты смотри мне! – продолжала, пригрозив пальчиком. – Судьбу торопить – богов гневить.
– Как любит говорить Торопча, вперед себя никуда не поспеешь, – не совсем впопад сказал Яромир. – Не беспокойся, теперь не умру.
– Вот и молодец. Чего-нибудь хочешь? Да что я – конечно, хочешь, ты ведь слаб еще. Обожди, я скажу, чтобы тебе поесть принесли…
– Нет, погоди, еда не убежит. Лучше… – Он хотел сказать: «Спой еще что-нибудь», но почему-то выговорил иное: – Лучше скажи, где я.
– В моем поместье! – с шутливой гордостью ответила она. – В Затворье, что на юге от Верховида.
Стабучь! Теперь все ясно. Очень уж плох был в дороге Нехлад, не стали друзья рисковать, предпочли остановиться в Стабучи. вотчине завистников. Затворье. как он помнил, находилось всего в двенадцати верстах от Верховида – исконного боярского поместья, разросшегося до настоящего города.
– Знаю, то не радость для тебя, – вздохнула девушка. – Нет лада между нами…
– Радость! – перебил он. – Чья бы ни была тут земля, а смотреть на тебя – радость.
– Спасибо на добром слове. А Затворье – земля моя, и законы здесь мои, так что ни о чем не тревожься, Яромир.
– Знаешь меня?
– Конечно, – сказала она, и на лице ее промелькнула грусть. – Не только по слухам – твои друзья немало рассказали. Но ты обо мне, наверное, тоже слышат?
Нехлад кивнул.
– Ты – Милорада Навка. Великая целительница.
– Уж великая? – рассмеялась она. – Да, кое-что умею, но не верь всему, что говорят.
– Я верю себе, – сказал Яромир и, кажется, смутил ее: очаровательный румянец вспыхнул на щеках девушки. – Милорада… за что тебя так прозвали – Навкой?[27]27
У славиров – дух умершей женщины (дух мужчины – нав). обычно благосклонный, но некоторые славиры считают навок весьма злобными.
[Закрыть]
– Дело прошлое, – отмахнулась она. – Это с той поры, когда я еще не поняла, что могу лечить… Да мне все равно. Сказать по правде, я и имя-то свое не слишком люблю, что уж о прозвище спорить?
– Как можно не любить имя?
– Очень просто! – улыбнулась она. – По мне, так уж Мила или Рада, а вместе – какая-то бессмыслица получается. Что я мила – приятно слышать, но что я сама же этому рада? Почему у знатных людей обязательно должно быть двойное имя?[28]28
Имена, состоящие из двух корней, всегда были редки среди славиров. но Вячеслав Ветровой сделал их своеобразным знаком отличия и поначалу даже сам награждал отличившихся ближников новым прозванием. Позднее Вячеслав ввел закон: все лица боярской крови должны нарекаться т. и. «двойными» именами.
[Закрыть]
Нехлад засмеялся, даже не удивившись тому, как легко пришел смех.
– Как же мне тебя называть?
– А ты придумай! Но наверное, на пустой желудок и думается плохо, – спохватилась она. – Тоже мне великая целительница: сейчас Сама же и уболтаю тебя вусмерть! Так я сейчас распоряжусь… а еще лучше, идем-ка в трапезную! Из твоей горницы налево…
Яромир, не дослушав, перемахнул через подоконник. Сердце забилось неровно, но он не мог точно сказать – от слабости после долгой болезни или от близости Милорады. Навка, засмеявшись, подобрала гусли, взяла Нехлада за руку и повела вдоль дома.
Терем знаменитой целительницы, младшей дочери Ярополка Стабучского был, как и положено у славиров, добротным, основательным, кряжистым. И все же сквозило в его отделке что-то воздушное, строение точно сливалось с солнечным садом.
Чуть в стороне стояло капище. В нем, как слышал Нехлад, исцеленные рукой Навки оставляли богатые жертвы богам – сама Милорада не брала ни грошика, что, правда, не мешало злым языкам утверждать, будто пожертвования потом делятся в боярской семье. Но Нехлад, едва припомнив это, с гневом выбросил из головы поганую мыслишку.
Южнее виднелись крыши заставы. Затворье – тихое место, Стабучь умеет защитить себя, да и город с горделивым именем Верховид (не иначе, в пику Верхотуру, столице Нарога, назвали – мол, повыше вас глядим, поболее видим) совсем близко, но, конечно, оставить дочь без охраны Ярополк не мог. Посадил в дочернем поместье полсотни воинов.
Желания юной девицы жить в отрыве от родных Нехлад никогда не понимал. Как будто целительством нельзя заниматься в Верховиде! Однако же вот посмотрел своими глазами – и раньше разума сердцем понял: так и должно быть. Не место светлой Навке в мрачном гнездилище стабучан…
«Однако, что же я! – одернул он себя. – Хоть и нелады между нами, но зачем до глупости доходить: раз мне не по нраву, так уж и не люди, а навайи какие-то?» Так он подумал, сам не заметив, как легко проскочило в голове слово, от которого, казалось, должно бы потемнеть в глазах…
* * *
А потом в трапезную и товарищей моих пригласили. Она, конечно, позвала. Не сразу, пожалуй, даже непозволительно поздно, я заметил, что прислуга косится на нас недобро. Так уж, видно, у Ярополковых принято: если сурочцы им не по нутру, то и за одним столом сидеть постыдно.
Так-то, сестрица… Но об этом неохота вспоминать. Знаешь, тот день, наверное, из лучших, какие могут выпасть в жизни. Она другая, для нее как будто и не существовало ничего дурного, что может быть промеж людьми. Нет, это не глупость, ты не подумай… И боли людской, и злобы она насмотрелась в жизни. Просто рядом с ней даже прислуга смягчилась, нас потчевали, как дорогих гостей, только виночерпий, помню, хмурился: не по чину, мол, чтобы сама целительница для невесть каких приблуд пела.
Она пела для меня, Торопчи и Тинара – так, наверное, и Самогуд[29]29
Герой славирских былин, великий сказитель и песенник.
[Закрыть] для богов не пел. Что за голос у нее! – сама нежность, так и ласкает сердце, а струны под пальчиками сами звенят, а то рокочут, то стонут – ровно души оголенные… Нет, не умею сказать. Только голос ее – как звездная ночь, когда, если умеешь, как Радиша умеет, звезды читать, все становится ясно. Как ветер весенний, как запах цветов…
Что ты говоришь, рябинушка?
Что шепчешь, ручей?
Да, вы правы. Я влюбился. Только не будем об этом, ладно?
* * *
– Не извиняйся, Нехлад. За что?
– За то, что напомнил…
– Глупости. Как будто больше некому и нечему напомнить… Да, откуда тебе знать. Это ведь ее имение. Она приходилась отцу троюродной сестрой. До сих пор толком не знаю, как отцу удалось уговорить волхвов благословить брак. Но по-своему он был прав: богатый род Стабучан распадался, усиление родства помогло нам сплотиться. Впрочем, не мне судить о его поступках. Нрав у матери, правду молвить, был не самый покладистый. Ну а про то, что мой отец неуступчив, ты повсюду мог наслушаться. Все годы, что отмерили им боги вместе провести, ломал он ее, а она его. Вот – доломались… Занедужила как-то мать, а отец промедлил, лекарей не призвал… а я тогда ничего еще не умела, кроме как людей пугать.
– Ты – пугать?
– Еще как. А вперворяд себя. Виделось мне всякое… Иные видения оказывались вещими, а большинство – пустыми. Уже тогда меня Навкой называли – но за глаза. А после смерти матери все по-настоящему началось. Опять же благодаря ей. Она, после того как умерла, сильно изменилась…
– Что?
– Она приходила ко мне. Да-да, самой настоящей навкой. Правда, совсем другой стала, доброй, ласковой. В первое время это чуть не погубило меня: я совсем шальная сделалась, явь и навь перепутала. Но душа матери учила меня разбираться в том, что вижу. Оказалось, мне доступно многое, даже слишком многое. Пришлось учиться не только использовать возможности, но и отказываться от них. Постепенно все лишнее ушло. Она даже советовала мне полностью отречься от дара, но на это я не могла согласиться. Выбрала целительство. И пока не жалею…
– Ты улыбаешься, говоря это, а в глазах – грусть.
– Конечно. Я ведь тогда думала, что выбираю самый простой путь: творить добро без лишних усилий… Аж вспомнить стыдно! Оказалось, он труден, этот путь, и настолько, что, знай заранее, может, и не решилась бы. Но это, пожалуй, и хорошо, что мы не знаем своей судьбы наперед. Ведь мысль о трудностях порой пугает больше, чем сами они… Да, мне бывает трудно. Иной раз думаю: все, уж этого мне не снести. Но, как видишь, вот она я, перед тобой – ничего со мной не случилось.
– Что именно трудно в твоем деле?.. Ты молчишь – не хочешь говорить?
– Дело в другом. Представь, что я попросила тебя рассказать о трудностях, которые встретились тебе в Крепи – все то, о чем ты молчишь. Я ведь понимаю: тут не только горечь, но и слов недостает. Вот и мне нужные слова на ум не приходят.
– Однако вот эти еловая отлично понимаю! Да благословят тебя боги, Навка…
– Ой, брось, Нехлад! Не надо на меня смотреть, будто я… даже не знаю, какая мученица. Нельзя о трудностях думать больше, чем они заслуживают! Давай лучше я спою тебе, хочешь?
* * *
Ее песни… Знаешь, сестренка, ни одной разудало-веселой, ни одной плясовой, но все – о светлом, о каком-то чуде…
О том, как побеждают скорбь и пробуждаются к жизни. В общем, все – обо мне.
Ярополк ее конечно же любил и переживал сильно, но – стабучанская порода – о славе и процветании своего Верховида печься не забывал, хотя бы и за счет дочери. Хотел, видно, чтобы весь мир к его престолу на поклон приходил за исцелением. Но она наотрез отказалась, вернулась в имение матери, восстановила его и там теперь живет, там принимает страждущих. Правда, далеко не всех. На второй день, помню, к ней подошел волхв из капища, и она ему сказала: «Кто сегодня придет – всех в город отправляй, там хватает славных лекарей». Я сперва не понял, даже подумал, глупец, что она только на словах переживает за всех, кто ищет ее помощи…
И как могло такое на ум прийти? На самом деле она попросту шла навстречу тем, кому больше никто не мог помочь. На третий день, было дело, завтракали, а она вдруг сорвалась с места и к капищу. Почувствовала как-то, что нужна. И правда – оказалось, привезли человека со страшной хворью, на последнем издыхании. Прислуга говорила – она и среди ночи может так вскочить, если подвозят кого тяжелого…
Вроде бы и меня так же привезли, ночью. Это Торопча решил: стабучане, мол, стабучанами, но лучше уж к ним на поклон пойти, чем Яромира лишиться. И они с Тинаром повернули повозку.
Ярополк со своим братцем троюродным навестили меня почти сразу, но, конечно, говорить я с ними не мог. А ребята мои ровно замки на рты навесили – мол, встанет Нехлад, сам расскажет.
* * *
Славная лебединка – можжевельник и береза, струны жильные, точь-в-точь тугой лук, даже легкий изгиб крыльев напоминает грозное оружие. Нехлад устроил гусли на коленях, провел большим пальцем от нижней струны до верхней, вслушиваясь в лад. И выпустил из плена сомнений легкий наигрыш, никем еще не слышанный.
Он не был особо умелым игрецом, но запали ему в душу простые напевы лихов, и давно уже хотелось слить их с вольными песнями, которые принесли славиры во Владимирову Крепь. Мелодия складывалась медленно, мучительно и все никак не могла сложиться. Чего-то не хватало. Только в эти дни, проведенные рядом с Навкой, Нехлад наконец понял: да вот именно правды жизни недоставало. А то что – все воля, воля да приволье, колыхание трав степных… Конечно, так оно и было! Так и прожили счастливый год, а кто и все два, приехавшие в Безымянные Земли. Но расплата за безмятежное счастье, за расслабленность и слепую веру в удачу – это тоже правда.








