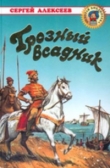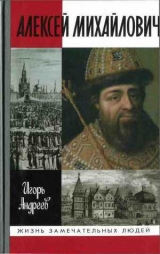
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 51 страниц)
Февральским указом 1646 года правительство даже опережало развитие налогообложения в ведущих европейских странах. Здесь центр тяжести в сборе налогов с прямых на косвенные будет перенесен лишь во второй половине столетия [95]95
См.: Вольф Ю.«…Об утверждении богоугодного равенства на вечные времена…» // Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. М., 1992.
[Закрыть]. Непосредственными причинами к тому станут бедственные последствия Тридцатилетней войны, более глубинными – распространение абсолютистской идеологии и практики.
В Европе новая модель налогообложения очень скоро даст свои положительные результаты. В Московском же государстве из этой затеи ничего не вышло. Модель просто не сработала. Резкое вздорожание соли вызвало протест и решительное неприятие подобного шага всеми слоями населения. При существующем типе домоводства, когда все делали запасы впрок, соль была не только важным продуктом питания, но приравнивалась к хлебу, привносила – в прямом и в переносном смысле – в повседневное бытие горьковатый привкус жизни. Соляной налог потому принимался как посягательство на привычный уклад и строй жизни. И трудно сказать, чего было больше в поднявшемся ропоте: сожаления по поводу непривычных расходов, ненависти к создателям нового налога или глубоко пессимистического взгляда на беспросветную, во всем стесненную жизнь.
Население скоро забыло, что отныне не надо платить обязательных стрелецких и ямских денег. Зато оно крепко помнило, что раньше соль обходилась дешевле. Первой реакцией стало резкое сокращение потребления соли. Не оправдались надежды получить большие деньги с имущих слоев, которые могли платить и которым соль действительно была нужна в больших количествах. Те предпочли обходиться своими запасами, которых, как оказалось, было немало. Одновременно приказы стали осаждать просьбами о разнообразных «соляных привилегиях». Особенно усердствовали монастырские власти, посылавшие во множестве своих стряпчих в столицу. По поводу одной такой челобитной дьяк И. Патрикеев, тот самый, что некогда «провинился» с датской посылкой, разъяснял властям Спасо-Прилуцкого монастыря: нынче «с такой де челобитной сводят в тюрьму и бьют кнутом» [96]96
Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вып. 6. С. 103.
[Закрыть].
Подобное заявление – свидетельство политической воли правительства Морозова, не желавшего идти ни на какие отступления. Но воля не может заменить деньги. Денежного половодья, в предвкушении которого в верхах уже потирали руки, не наступило. Возможно, имей правительство запас времени и терпения – все бы сдвинулось с мертвой точки. Но ничего этого не произошло. Зато осталась острая потребность в средствах и взращенная несвободой привычка к насилию – универсальному способу преодоления всех трудностей.
Соляной налог был признан мерой неудачной. В декабре 1647 года появился указ, извещавший о возвращении к прежней системе налогообложения. При этом население должно было уплатить ямские и стрелецкие деньги за прежние годы, пропущенные по причине «соляной затейки». Естественно, такая беззастенчивая ревизия собственного законотворчества лишь подлила масла в огонь. А памятником неудачного реформирования стала, по-видимому, невеселая присказка, унаследованная следующими поколениями: «Пошли было на хлебы, да соль своротила» [97]97
Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953. Т. 1. С. 434.
[Закрыть].
Финансовые тяготы, столь щедро взваленные на плечи населения, оказались вдвойне обременительными из-за их исполнителей. Взгляд на власть как на лучший способ приращения богатства издавна был усвоен и освоен правящим сословием. Но именно эпоха Морозова в сознании современников стала временем такого вымогательства и произвола, что перед ним блекли все предыдущие образчики приказного и воеводского самоуправства. Да и что можно было ожидать иного при сокращении или вовсе прекращении выплат служилым и приказным людям? То была прямая выдача населения на поток и разграбление воеводам и приказной братии.
Картины злоупотреблений и произвола были необычайно выразительны. С большой изобретательностью и ненасытной алчностью в приказах и съезжих избах кормились за счет просителей, прибегая к самым разнообразным приемам – от подлога до приказной волокиты. Торжествовало беззаконие и право сильного. «За кого заступы болшие, тем и дела чинятся», – констатировали люди вовсе не слабые, имеющие и деньги, и связи в приказах. Именно к этому времени относятся разговоры в народе о чудесном свитке, с которым только и можно отправляться в лапы приказных и судей: «Кто тот свиток учнет носить при себе и на суд пойдет, и того человека кривым судом не осудят» [98]98
Зерцалов А.О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском, 1648, 1662 и 1771 гг. С. 230; Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вып. 6. С. 120.
[Закрыть]. К посвисту батогов прибавлялся и ропот заволоченных, обманутых, не нашедших правды в судах просителей.
Сам Морозов являл пример для своего алчного окружения. Было бы неверно сказать, что царский воспитатель не устоял перед соблазном власти. Такой дилеммы для него просто не существовало. Дождавшись на склоне лет своего часа, Морозов этим «часом» – властью – и пользовался, мало чем отличаясь от большинства своих предшественников. Разве что хватка у него была пожестче и аппетит волчий.
Правда, трудно обвинить Бориса Ивановича во взяточничестве и мздоимстве. Зато он с лихвой пользовался своим исключительным положением царского воспитателя и свояка. Еще в 1638 году он владел 330 дворами, из которых 11 были в совместной собственности с младшим братом Глебом Ивановичем. То было неплохое, среднее состояние, обычное для пребывающего на вторых ролях боярина. С воцарением Алексея Михайловича все сдвинулось и пошло вперед со скоростью курьерского поезда. Борис Иванович не мелочился и счет приобретенному повел даже не на десятки и не на сотни крестьянских дворов, а на тысячи. В 1647 году во владениях боярина насчитывалось уже 6034 двора. Прошло еще шесть лет, и число дворов достигло цифры 7254. Мало кто из современников мог сравниться богатством с царским «дядькой». Разве только заклятый враг боярина, Никита Иванович Романов, владевший в 1653 году 7689 дворами, опережал его [99]99
Водарский Я. Е.Правящая группа светских феодалов в России в XVII в. // Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв. М., 1975. С. 93, 97.
[Закрыть]. Однако темпы его обогащения не шли ни в какое сравнение с морозовскими.
Состояние Морозова складывалось благодаря щедрым пожалованиям Алексея Михайловича. Это не мешало боярину при случае ущемить слабого соседа, переманить и укрыть за собой его крестьянина. В переписке с приказчиками и старостами он со знанием дела поучал их, как и каким образом обойти указ, отвадить настырного истца или сделать виновным безвинного ответчика. Стоя по своему положению на защите закона, боярин виртуозно же и нарушал его.
Неудивительно, что «новые господа», оказавшись у власти, взяли за образец своего лидера. Однако лишенные возможности получать щедрые царские пожалования, они по необходимости избрали другой путь обогащения – путь насилия и вымогательства. Все это окончательно дискредитировало политику правительства, а тяготы, с ней связанные, сделало непереносимыми.
Особую ненависть снискал глава Земского приказа Леонтий Степанович Плещеев. В ведении этого учреждения находились московские «черные слободы», так что именно с Плещеевым чаще всего приходилось сталкиваться столичному посадскому люду. Между тем Плещеев мало подходил для общения с простыми горожанами, на которых он смотрел исключительно с точки зрения собственного благополучия. Человек жестокий, с жилкой авантюриста, он в 1641 году был обвинен «в ведовстве и в воровстве», пытан, а затем сослан в Нарымский острог. Но и здесь он не успокоился – продолжал интриговать и похваляться, что вся Москва у него была в руке, а «я де и боярам указывал». При таком гоноре все закончилось тем, чем и должно было закончиться, – почти взаправдашней войной Плещеева с местным воеводой и новым судебным разбирательством [100]100
См.: Зольникова Н. Д.«Нарымское дело» 1642–1647 гг. // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 1982; Зерцалов А.О мятежах в городе Москве… С 185–186.
[Закрыть].
Приход к власти Морозова освободил Плещеева. Он был возвращен в столицу, посажен на Земский приказ, где развернулся так, что скоро вся посадская Москва стала досаждать власти, «чтобы он отрешен был от должности, а на его место посажен был честный человек» [101]101
Олеарий А.Указ. соч. С. 263.
[Закрыть]. Но Леонтий Степанович оставался неуязвим. Постепенно имя Плещеева приобрело нарицательный смысл. Достаточно было современнику сказать «плещеевщина», как всё подразумевавшееся под этим словом – насилия, злоупотребления, беззаконие – уже не требовало пояснения.
Сильное озлобление, но только не у посадских, а у служилых людей по прибору вызывало имя главы Пушкарского приказа, шурина Морозова, Петра Траханиотова. Это был человек совсем другого склада, чем Плещеев. Единственно, что сближало их, – чрезмерная жестокость. Но Траханиотов, редкий для XVII столетия случай, «не корыстовался» и не мздоимствовал. Зато в своем служении государю и государеву делу был бескомпромиссен и никому спуску не давал. Проводя в Суздале и в других городах «посадское строение», Траханиотов своей неуступчивостью так досадил церковным властям, что они буквально возненавидели неподкупного администратора.
Траханиотов и Плещеев – две крайности в окружении Морозова, но крайности очень характерные, ярко отражавшие существо той политики и тех методов, к которым имели склонность пришедшие к власти люди. Траханиотов – это осознание потребности в защите интересов государства, в обновленной и энергичной политике; Плещеев – это торжество своекорыстия, взгляд на власть как на средство обогащения.
Неплохо осведомленные о московских делах иностранцы сообщали о растущем богатстве царской казны, ее новых сокровищах, «каких не было в ней с самого царствования Иоанна Грозного» [102]102
Форстен Г.Сношения Швеции с Россией в царствование Христины // ЖМНП. 1891. VI. С. 371.
[Закрыть], об интенсивных военных приготовлениях и создании на юге мощных укреплений. Все это было связано с именем Морозова.
Но с именем временщика оказывалось связанным и растущее в обществе напряжение. Произвол, мздоимство захлестывали страну. «Всему великому мздоиманью Москва корень», – открыто говорили в столице и в провинции, отчаявшись сыскать наверху правду. Лицемерные дьяки, способные «в посмех поставить» саму царскую волю, бессовестное «крапивное семя» подьячих, ненасытная морозовская креатура – все это вкупе с жесточайшим налоговым прессом неумолимо вело к взрыву. Московское государство все более уподоблялось пороховой бочке, к фитилю которой уже был поднесен огонь [103]103
Внутренняя политика правительства Б. И. Морозова подробно разобрана в капитальных работах П. П. Смирнова. См.: Смирнов П. П.Правительство Б. И. Морозова и восстание в Москве 1648 г. Ташкент, 1929; Он же.Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. II. М.; Л., 1948.
[Закрыть].
Оставалось ждать взрыва.
Московское восстание
Растущее недовольство не ускользнуло от внимания Морозова. Но высокомерие, с каким верхи привыкли взирать на низы, мало помогало утверждению трезвого взгляда на вещи. Терпение народа казалось безграничным. Безнаказанность и вседозволенность притупляли чувство опасности. Застенок и стрелецкий бердыш воспринимались как несокрушимая сила, способная справиться со всеми трудностями. Разрыв между подлинными настроениями тягловых и служилых людей и тем, как все представлялось окружению Морозова, достиг угрожающих размеров.
В мае 1648 года Алексей Михайлович вместе с царицей отправился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Между тем в столице усиливалось брожение. Собиравшиеся у приходских церквей жители черных сотен и полусотен – административно-тягловых единиц – решили по возвращении государя вручить ему петиции. О содержании последних можно лишь догадываться. Перехваченные позднее стражей и придворными, они были разорваны и растоптаны. Но из дальнейших событий ясно, что главными пунктами майских челобитных стали жалобы на Л. С. Плещеева, произвол и самоуправство которого достигли высших градусов.
1 июня толпа москвичей окружила возвращавшийся в город царский поезд. Но вручить челобитные государю не удалось. Стрельцы разогнали народ, арестовав нескольких челобитчиков. Чуть позже такая же неудача постигла просителей со следовавшим за Алексеем Михайловичем поездом царицы. Однако настроена толпа была уже более решительно. В придворных, среди которых находился Морозов, полетели камни и палки.
Следующий день не принес успокоения. Напротив, возбуждение нарастало. По-видимому, составляя челобитные, посадские связали себя, как это часто бывало, общей записью – стоять «заединого», никого не выдавая. Потому «миры» готовы были вызволить своих челобитчиков. Момент показался вполне подходящим: на 2 июня был назначен крестный ход в Сретенский монастырь для празднования Сретения Владимирской иконы Божьей Матери.
Утром 2 июня Алексей Михайлович в сопровождении духовенства, московских служилых людей двинулся из Кремля на Сретенку. Во время хода челобитчики не досаждали царю. Основные события развернулись на обратном пути. Толпа окружила царя, оттеснила охрану и придворных. Самые отчаянные обвисли на узде коня, заставив Алексея Михайловича остановиться. По сообщению Адама Олеария, который черпал информацию в кругах, близких к Н. И. Романову, и у иностранцев, свидетелей восстания, царь был сильно напуган таким неожиданным нападением. И было отчего! Привыкнув к согбенным спинам и потупленным взглядам, Алексей Михайлович впервые столкнулся с распрямившимся народом.
Но это было только начало. Несколько дней московского гиля преподали второму Романову такой урок, какого он не получал за все прежние годы своего покойного и безмятежного царствования. И, пожалуй, именно в эти дни из-под Символа– царского сана, – пускай в смятении и страхе, впервые выглянул живой Человек– Алексей Михайлович.
В окружении негодующей толпы царь не решился отказать челобитчикам. Он пообещал рассмотреть жалобы и наказать виновных. Схваченных накануне челобитчиков, которых ждали застенок и пытка, освободили. Быть может, еще 1 июня эти обещания и успокоили бы народ. Но толпа уже почувствовала свою силу. Следом за царем москвичи ворвались в Кремль. Тогда Морозов приказал стрельцам разогнать чернь. Но этот последний довод королей в древнерусском варианте – стрельцы вместо пушек – дал неожиданный сбой. Стрельцы отказались «сражаться за бояр против простого народа» и даже объявили, что «готовы вместе с ним избавить себя от насилий и неправд».
В поведении стрельцов была своя логика. Им так же, как и жителям посадов, пришлось вкушать дорогую морозовскую соль и платить, если они имели торги, пятикратную стоимость за новые клейменые аршины и весы. Им так же, как уездным служилым людям, урезали и задерживали государево жалованье и корма. Всего этого было достаточно, чтобы оттолкнуть стрельцов от руководителя собственного Стрелецкого приказа и превратить их в силу, которая не защищает, а опрокидывает временщика.
Решение стрелецких приказов разом склонило чашу весов в пользу восставших. Лишившись вооруженной опоры, морозовское окружение лишилось и привычного пренебрежения в обращении с «чернью». Власти вынуждены были начать переговоры. Однако первых парламентеров, боярина князя М. М. Темкина-Ростовского и окольничего Б. И. Пушкина, приверженцев правителя, встретили так, что ободранные, они «одва… ушли в верх к великому государю» [104]104
Описание московского восстания 1648 г. в Архивном сборнике / Публ. В. И. Буганова // Исторический архив. 1957. № 4. С. 228.
[Закрыть]. В это время в Кремле и за его пределами начались погромы дворов Морозова и его сторонников.
Описание погромов попало почти во все повествования о восстании, вышедшие из-под пера иностранцев. При этом, естественно, внимание обращалось на то, что более всего поражало воображение западноевропейского читателя. Ворвавшись в хоромы Морозова, народ будто бы крушил драгоценную утварь, перетирал в пыль драгоценные камни и жемчуг и под крики «то наша кровь!» бросал все в огонь. Едва ли это было типично. Позднее боярскую рухлядь находили в самых отдаленных уголках страны. Но насколько же, надо думать, были потрясены восставшие богатством боярина, если часть захваченной добычи они жертвовали в церковь (так, к примеру, поступили с полой изодранного на части кафтана Бориса Ивановича, которую отдали на покров иконы). Но в необычном на первый взгляд поведении толпы был свой смысл: обращая в прах неправедно нажитое добро, «мир» утверждался в своей правде. Не разбойниками и татями выступали они, а судиями и мстителями.
Гнев народа настиг думного дьяка Назария Чистого. Ему припомнили разного рода финансовые и налоговые новшества, включая введение соляного налога. Накануне дьяк упал с лошади, ушибся и отлеживался в постели. По одной из версий, грозный рокот поднял его на ноги и заставил спрятаться в груде веников на чердаке. Один из холопов выдал своего господина. Дьяка выволокли из укрытия и убили. В доме была найдена печать – по-видимому, малая государственная, которую хозяин прикладывал к дипломатическим документам. Находка тотчас породила слухи об измене – одном из самых популярных «мотивов» народного бунта, когда восставшие находили оправдания содеянному в том, что «выводили» из государства измену и изменников.
3 июня народ уже не просил, а требовал, вполне освоившись с языком угроз и ультиматумов. И главным стало требование наказания самых одиозных фигур – Морозова, Плещеева и Траханиотова.
Царское окружение пребывало в отчаянном положении. Опереться на придворных и московское дворянство не было никакой возможности. Бунтовщики на всякий случай просто ссаживали с лошадей и разоружали ехавших на службу жильцов и дворян. Правда, у правительства еще оставались иноземцы, но их было слишком мало, чтобы задавить бунт. Потому оставалось только одно – продолжать переговоры. Но вот вопрос – кто их мог вести и к чьему голосу мог бы прислушаться народ? Поневоле пришлось вспомнить о придворной оппозиции, лидеры которой были популярны среди москвичей.
Московские события застали боярина Романова в одном из подмосковных сел. Умный боярин сразу смекнул, что движение может обернуться к его пользе. Не мешкая, Никита Иванович появился в столице. К тому времени стало ясно, что правителю ни за что не договориться с народом – одно появление Морозова приводило массы в ярость и сопровождалось криками, от которых у боярина, должно быть, леденела кровь: «Да ведь тебя нам и нужно!»
Иначе встречали низы бояр Н. И. Романова и Я. К. Черкасского. К 1648 году демонстративное неприятие правительственного курса создало Никите Ивановичу репутацию народного заступника, который «праведному государю во всем радеет и о земле болит». Так что его приезд вызвал волну энтузиазма.
Появившись в столице, Никита Иванович не спешил во дворец. Он повел себя как завзятый фрондер, выжидая, когда к нему придут из Кремля и поклонятся.Да он, собственно, и был фрондером, только на русский, доморощенный пошив. Стоит напомнить, что во Франции тем же летом начнется своя фронда, в которой принцы, также с помощью народа, примутся раскачивать и валить первого министра Мазарини. И так же, как и в России Романов с Черкасским, немало в этом поначалу преуспеют.
Алексей Михайлович вынужден был сделать первый шаг – послать за дядей. Ответ на приглашение, якобы принадлежавший Никите Ивановичу, звучал как дерзость: он заявил, что если государь в мирное время правил без него, то может это сделать со своими советниками и в дни мятежа. Насколько точны эти слова, сказать трудно. Известна высокая осведомленность иностранцев о происходящем в Кремле (это их особенно интересовало и было для них жизненно необходимо). Но известно и чрезмерно вольное обращение западноевропейских авторов с фактами. Определенно можно утверждать одно: Никита Иванович и его сторонники просто так роль посредников брать не собирались и выдвинули свои условия. Все еще более усложнилось: к социальному противостоянию прибавилась острая борьба придворных группировок за власть.
В Кремле молча проглотили оскорбительный выпад боярина – было не до «мелочей» – и возложили на Никиту Ивановича миссию переговоров с народом.
Переговоры, которые повели Романов и Черкасский в присутствии высшего духовенства и придворных, свелись (в пересказе А. Олеария) к призыву, «чтоб миром утолилися». «Утоление» предполагало исчезновение из царского окружения самых одиозных фигур. Для Романова это означало устранение удачливых соперников, для народа – торжество справедливости. Но такой поворот никак не устраивал ни царя, ни тем более Морозова. В государевых комнатах решено было, откупившись головою Леонтия Плещеева, спасти Морозова и Траханиотова.
Между тем в самой Москве ширились погромы. Восставшие, кажется, уже не особенно пытались разобраться в «партийной» принадлежности владельцев дворов. Разгрому подвергались дворы приказных, московских дворян. Очень скоро начались пожары. Огонь быстро распространился по Белому городу, от Неглинной до Чертольских ворот. Затем пламя перекинулось за Никитские и Арбатские ворота на Земляной город. Огненная стихия уже не делала никаких различий. Страдали все. Даже двор Н. И. Романова на Никитской выгорел без остатка. Тотчас поползли слухи, что огонь вспыхнул не просто так, а по морозовскому наущению.
В нашей по преимуществу «деревянной» истории поджог – средство универсальное и почти всегда безымянное. Едва ли историки получат возможность со всей определенностью утверждать, что в июне 1648 года Москву специально запалили или, напротив, Москва загорелась случайно. Но зато в этой неопределенности всегда присутствует вполне определенная позиция москвичей: сгорая от грошовой свечи, они предпочитали видеть в пожаре злой умысел и конкретного виновника – того, кого не любили, а лучше всего – кого ненавидели. Потому Борис Годунов, «убив» царевича Дмитрия, «повелел на Москве многих домы пожещи, дабы мир умолчал» [105]105
РИБ. Т. 13. СПб., 1909. С. 931.
[Закрыть]. То же мы видим и в июньской Москве 1648 года: жгут по повелению Морозова, чтоб людей отвлечь, и будто бы уже схвачены поджигатели, холопы Бориса Ивановича, покаявшиеся в содеянном. Всего этого было достаточно, чтобы кипение достигло наивысшего градуса.
Первый итог переговоров – казнь Плещеева. Утром 4 июня в сопровождении палача его вывели на Красную площадь. Разъяренная толпа бросилась на него, не дав довести даже до плахи. Бесстрастный летописец позднее отметил: Плещеева «убили всем народом каменьем и палками до смерти».
Пожары и расправа распалили низы. Они вновь заполнили Кремль, требуя выдачи Морозова и Траханиотова «за их великую измену и за пожог».
Траханиотова в Москве уже не было. Накануне с грамотой на воеводство в Устюжну Железнопольскую он благополучно выскользнул из столицы. Меньше повезло Морозову. Его попытка побега не удалась, и, узнанный в Дорогомиловской слободе, он едва унес ноги. Это событие стало прелюдией к «главному страху», который пришлось испытать кремлевским обитателям. Московская «чернь», посадские люди и стрельцы бушевали в Кремле, угрожая ворваться во дворец и расправиться с Борисом Ивановичем.
В этой ситуации довериться Черкасскому и Романову оказалось невозможно. Нетрудно было догадаться, что такие переговорщики были кровно заинтересованы в избавлении от всемогущего временщика руками народа. Причем так, чтобы никогда с Морозовым более не сталкиваться.
Восемнадцатилетний царь принужден был сам, без посредников, говорить с возбужденной толпой. Собственно, это был не разговор, а «умоление». Выйдя на крыльцо, Алексей Михайлович просил пощадить Бориса Ивановича, обещая навсегда удалить его из Москвы и более никогда не поручать ему никаких дел. По одному из свидетельств, царь будто бы даже плакал. Обещание было закреплено крестоцелованием.
Поступок царя произвел на всех огромное впечатление. Не случайно в провинциальном изложении московских событий это «слезное умоление» восставших неизменно оказывалось в центре повествования [106]106
Зерцалов А. Н.К истории мятежа 1648 г. в Москве и других городах. М., 1896. С. 32–33.
[Закрыть]. Так с народом давно не говорили. Но надо отметить и поведение самого Алексея Михайловича, готового преступить ради спасения своего «дядьки» даже через собственную гордость. Это искренняя, не на словах, а на деле, привязанность молодого государя к своему воспитателю, которого он почитал и любил как отца, приоткрывает чисто человеческие качества второго Романова, способного на благородный поступок.
Но спасение старого боярина было куплено не только царским челобитьем к народу, а и жизнью окольничего Траханиотова. Посланный вдогонку князь Пожарский настиг его близ Троице-Сергиева монастыря. Напрасно привезенный в лавру окольничий молил у раки преподобного Сергия о заступничестве. Связанный и посаженный в простую телегу, он был доставлен в Москву. 5 июня его вывели к плахе и отсекли голову. Официальная версия гласила, что Траханиотова казнили за многие вины, измену и поджог. Несколько месяцев спустя, когда движение пошло на убыль, его родственникам было объявлено, что Петр Тихонович сложил голову «без вины, государевы кручины и опалы» [107]107
РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 227. Л. 18–19.
[Закрыть]. Это, конечно, спасло репутацию Траханиотова, но не его имения, пошедшие в раздачу помещикам.
Происшедшее имело свой аналог – 1547 год. Ровно 101 год назад, в том же злополучном июне, после страшного пожара, который унес несколько тысяч жизней и 25 тысяч дворов, москвичи также ворвались в Кремль и выволокли из Успенского собора родного дядю царя Василия Глинского. Его тут же растерзали (как и Плещеева), но «не утешились» – в невероятных бедствиях винили всех Глинских – и 29 июня двинулись к подмосковному селу Воробьево, где после пожара приходил в себя Иван IV. Вид вооруженного народа, подступившего к подгородной царской резиденции, потряс Ивана. Видевший раньше лишь склонившуюся «чернь», Иван впервые столкнулся с иным народом – яростным, всесокрушающим, пред которым меркло даже величие его власти. Реакция царей Ивана и Алексея оказалась, по сути, одинаковой – страх и потрясение от собственного бессилия. Алексей Михайлович плачет и умоляет. Иван Васильевич позднее признается: «И от сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моа».
Сказано сильно! Правда, официальный источник прибавляет, что трепещущий от страха царь будто бы повелел наказать дерзких москвичей. Но, видимо, к истине все же ближе так называемый «Летописец Никольского»: первый царь отпустил москвичей по домам, «не учини им в том опалы». Произошло это, конечно, не от Иванова мягкосердечия, а от слабости: нечем и некем было вразумлять москвичей! Совершенно так же, как в 1648 году.
Но чувство страха и отчаяния – не единственное, что роднило двух царей в эти два памятных года – 1547-й и 1648-й. Бедствия подобного размера осмысливались в сознании людей того времени как Божественное «попущение», как наказание за грехи. «Великие пожары» в Москве представлялись не только знаком божественного гнева за зло, сотворенное боярами и воеводами, но и как наказание монарха, пренебрегшего своими обязанностями. «На ком то ся взыщет?» – гневно вопрошал знаменитый поп Сильвестр, духовный отец Ивана, имея в виду многочисленные неправды, ненависть, гордость, вражду, маловерие к Богу, «лукавое умышление на всякое зло». Биографы Ивана Грозного отмечают, что именно грозные события 1547 года вызвали резкую перемену в поведении Ивана. Царь оставил все развлечения, включая охоту, и занялся спасением собственной души и царства – молитвами и государственными делами [108]108
См.: Флоря Б. Н.Иван Грозный. М., 1999. С. 26–28.
[Закрыть].
Мысли о Божественном «попущении» одолевали и Алексея Михайловича. Правда, в отличие от своего «деда», его личное поведение как будто бы не давало к этому повода. Те прегрешения, включая «содомский грех», которые возлагались на Ивана Васильевича, были неведомы второму Романову. Напротив, он с самых пеленок был тих и благочестив. Но он царь, и как царь ответствует пред Богом за все, что творится в Православном царстве. Московские события заставили Алексея Михайловича задуматься о своей роли и месте в управлении государством. Отныне не одно чистосердечное покаяние, но и благочестивые монаршие дела, которые никому нельзя передоверять, станут все более занимать Тишайшего. Оказалось, что для того, чтобы повзрослеть, чтобы начать править, а не просто царствовать, нужны не женитьба и не рождение сына-наследника, а сильное потрясение, способное разрушить непоколебимое благодушие. Это было первое, самое явное следствие московских событий для Алексея Михайловича.
…Параллельно с казнями и переговорами с восставшими в Кремле шла смена правящих лиц. Ключевые посты, некогда принадлежавшие царскому «дядьке», переходили в руки его противников. Князь Яков Куденетович Черкасский возглавил приказы Стрелецкий, Иноземский и Большой казны. Н. И. Романов стал появляться в думе, где, по некоторым сведениям, даже председательствовал.
Однако опомнившийся от первого испуга, «вымоленный» Борис Иванович не спешил сдавать все свои позиции. Он преподнес своему воспитаннику показательный урок борьбы за власть. Его сила – в царской приязни. А это аргумент чрезвычайно мощный, заставляющий многих в правящей элите сдержанно отнестись к победившей группировке Романова – Черкасского и дающий Морозову шанс перехватить инициативу.
Прежде всего следовало заручиться поддержкой стрельцов – главной силы столичного гарнизона. Сторонники Морозова, среди которых числился сам патриарх Иосиф, наперебой зазывают стрельцов в свои дворы. Здесь им устраивают обильные угощения. Даже царица не остается в стороне, пожаловав стрельцам бочку вина. Задача этой «агитационной кампании» – организовать челобитье стрелецких полков и, если удастся, посадских слобод и сотен об оставлении в Москве Морозова. Перед таким напором верхов нелегко было устоять. Раздались робкие голоса в пользу царского свояка. Но ненависть к временщику быстро пересилила. Призывы отступников не были услышаны. Больше того, москвичи будто бы побили их камнями.
Морозов вновь стал появляться в думе. Это было уже демонстративное нарушение царского обещания об устранении боярина от дел. Делалось все с ведома Алексея Михайловича, хотя для последнего, человека глубоко верующего, столь открытое пренебрежение крестным целованием, несомненно, было связано с душевными муками. Выход из ситуации нашли, впрочем, вполне канонический: крестоцелование было дано под принуждением, в чем никто не сомневался, а это давало право патриарху или духовнику разрешить от него молодого государя.
Неизвестно, дошло ли до освобождения царя от крестоцелования в эти дни. Зато известно, что старый боярин слишком рано воспрянул духом. Он недооценил силу и влияние своих противников. Первыми забили тревогу бояре Романов и Черкасский. В ответ на демарш Морозова в Боярской думе Никита Иванович попросту перестал в ней появляться, объявив о своей болезни. Боярин и в самом деле не отличался крепостью тела. Однако на этот раз мало кто усомнился в истинных причинах «недомогания» Романова. То был протест против нарушения договоренности относительно Морозова. Я. К. Черкасский прибег к не менее демонстративному приему: он перестал заниматься делами приказов и стал отсылать всех просителей и челобитчиков к Борису Ивановичу: мол, вопреки всему и даже вопреки царскому слову, Морозов по-прежнему – власть [109]109
Городские восстания в Московском государстве XVII в. М.; Л., 1936. С. 37; Якубов К.Россия и Швеция в первой половине XVII в. М., 1897. С. 408.
[Закрыть].
Все эти приемы и приемчики, пускай и стоящие на вооружении людей родовитых, едва ли могли принести успех, не поддержи их сила на тот момент решающая – посадский мир и служилые люди, включая даже провинциальное дворянство. Последних в связи с предстоящей службой немало собралось в столице. Известия о мятеже и о будто бы предстоящих денежных пожалованиях еще более увеличили это скопление: дворяне и дети боярские вереницей потянулись в столицу.