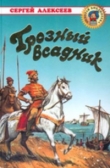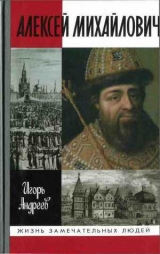
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 51 страниц)
Однако близость к ревнителям не помешала ему принять близко к сердцу интересы и церковных иерархов. Новоспасский стряпчий, вопреки указу, не спешит подать в ноябре 1648 года в Поместный приказ список монастырских вотчин, приобретенных с конца XVI века. Едва ли он осмелился на такое без ведома Никона. Примечательно, что, памятуя о положении Новоспасского архимандрита, на поведение его стряпчего ориентируются и другие монастырские власти, совсем не жаждущие потакать алчному до чужих земель провинциальному дворянству и бессребреникам-протопопам, склонным к нестяжательству [164]164
Описание актов собрания графа А. Уварова. М., 1905. № 204, 200–201.
[Закрыть]. Дело до земельных конфискаций, как известно, не дошло: дворянство остыло, а светские власти, не желавшие ссориться с духовными, о своем первоначальном намерении забыли. Но едва ли забыл о нем Никон, не просто проигнорировавший указ, а подавший пример всем остальным в обережении церковных богатств. При таком поведении Никон казался высшему духовенству своим: во всяком случае, он был лишен радикализма Вонифатьева, который разводил царского духовника с патриархом.
Царь все более доверяет Никону, видит в нем образцового пастыря. Но образцовому пастырю нужно приискать достойное место. Весной 1649 года оно как раз подвернулось. Немощный новгородский владыка оставил свою митрополию и удалился в монастырь. Было ли это сделано по подсказке из Москвы, или митрополит в самом деле лишился с возрастом последних сил – неизвестно, да и не суть важно. Важно, что одна из самых крупных святительских кафедр, в пределах которой было более двух тысяч церквей и около 150 монастырей, досталась Никону [165]165
Субботин Н. И.Дело патриарха Никона. М., 1862. С. 117.
[Закрыть].
Возводил Никона в святительский сан иерусалимский патриарх Паисий, пожаловавший новопоставленного «за добродетели» еще и правом носить мантию «с червлеными источниками» [166]166
СГГД. Т. III. № 135. С. 447.
[Закрыть]. В марте 1649 года Никон торжественно отправляется на новое место своего служения.
В церковной иерархии новгородский митрополит занимал второе, вслед за патриархом, место. Это, конечно, вовсе не означало, что новгородская кафедра – обязательная ступень к патриаршей митре. Но Никон отправился в Новгород с несомненным прицелом на патриаршее место. Порука такой блестящей будущности – прочно завоеванные им позиции царского «собинного друга».
Царь расставался с Никоном с тяжелым сердцем. Но интересы дела пересилили личные чувства. Никон наконец-то обретал поприще, соответствующее его неуемной энергии. В Новгородской епархии можно было развернуться. Очень скоро Никон превратил митрополию в «испытательный полигон» для реформ в духе ревнителей. Он утвердил в церквях единогласие. При нем вместо нестройного «хорового пения» в Новгородской Софии зазвучали стройные киевские песнопения, «пение одушевленное», для чего митрополит не поскупился и зазвал к себе украинских певчих [167]167
Сумцов Н. Ф.К истории южнорусской литературы семнадцатого столетия. Харьков, 1885. Вып. 1. С. 44–45.
[Закрыть].
Хор был настолько хорош, что в своих частых наездах в Москву митрополит брал его с собою ублажить государя. Алексей Михайлович вскоре станет ярым поклонником гармоничного пения. Пройдет немного лет, и он за военными буднями не забудет о заботах певческих – так приворожило его малороссийское «одушевленное» славление Бога. «Да промыслить бы тебе спеваков болших 5 человек да малых 10 человек, чтоб всему были гораздо гаразди по партесу и головы б были хороши и отлики бас и дышканы и прочие», – наставлял он со знанием дела боярина В. Бутурлина, оказавшегося в 1655 году на Украине [168]168
Московия и Европа. История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XVIII. М., 2000. С. 518.
[Закрыть].
В духе требований ревнителей Никон отказался от всяких послаблений. Новый владыка строго взыскивал с нерадивых мирян и еще жестче – с попов и дьяконов, забывших о своем пастырском долге. Одновременно митрополит являл пример нищелюбия и милосердия. Благотворительность при нем достигла огромных масштабов. Он чуть ли не ежедневно кормил и наделял милостыней на митрополичьем дворе сотни убогих и сирых.
В это время открывается еще одна сторона личности Никона, сделавшая его тем, кем он, собственно говоря, и вошел в историю. Он не просто ведет себя властно. Пользуясь близостью к государю, новгородский владыка начинает решительное наступление на те статьи Соборного уложения, которые ограничивали церковную юрисдикцию. В 1651 году Никон добился права «ведать судом и управою во всяких управных делах, и судить… и указ чинить по его митрополичу рассмотрению». Исключение по традиции было сделано для особо тяжелых уголовных дел, оставшихся в компетенции светской власти.
Таким образом, среди архиереев он постепенно приобрел репутацию защитника епископата, человека, способного возвратить если не всё, то, по крайней мере, часть потерянного. Ревнители о подобном никогда не помышляли и в этом, конечно, были отличны от Никона.
Репутация защитника епископата принесла в последующем немалую пользу новгородскому владыке. Явная слабость Иосифа, откровенно пасующего перед Уложением и Монастырским приказом, оборачивалась тоскою по сильному патриарху. А это уже – стартовая площадка для очередного взлета Никона. Видимые перемены, происходящие в Новгородской митрополии, выгодно отличались от того, что происходило в других епархиях. В глазах царя Никон обретал репутацию не просто одного из ревнителей, а единственного ревнителя, способного реализовать их планы.
Но Никон укреплял свои позиции не одними делами, а и неординарным поведением. Особенно это бросилось в глаза в 1650 году, во время волнений в Новгороде. В отличие от того, что довелось увидеть и пережить Алексею Михайловичу летом 1648 года, Никон не оробел и не стушевался. Больше того, 17 марта, в день царских именин, он пропел бунтовщикам анафему. В ответ те ударили в набат и вломились на митрополичий двор. Никон их встретил собственной грудью и не испугался побоев, хотя били его свирепо и подло – ослопьем и каменьями, трусливо упрятанными в шапки. Так, по крайней мере, излагал события сам митрополит в своем послании царскому семейству. Когда же в город пришел с карательным отрядом боярин князь И. Н. Хованский, Никон, забыв об обидах, по умолению раскаявшихся новгородцев вступился за них перед царем, чем и отвел гнев. Что могло больше укрепить популярность Никона-пастыря, чем вот такая гроза и такое милосердие?
В эти дни он успел примерить еще и страдальческий венец. В грамотке, адресованной Алексею Михайловичу и его семейству, Никон поведал о ниспосланном ему знамении: 18 марта митрополит служил заутреню перед образом Спаса и внезапно «увидел венец царскии на воздусе злат над Спасовою главою. И помалу тот венец стал приближатися ко мне, и я, богомолец ваш, от великого страху, аки забылся, точию своима очима на тот венец смотрю и свещу перед Спасовым образом, как горит, вижу. И то в разуме помыслил, как тот венец движится, и то в памяти есть, что тот венец собою двигся и пришед стал на моей главе грешной…» [169]169
Тихомиров М. Н.Указ. соч. С. 152–153.
[Закрыть].
Никон, по-видимому, хорошо изучил впечатлительную и склонную к религиозному восторгу натуру Алексея Михайловича, его неизбывную жажду чуда, столь свойственную человеку в переломные эпохи. Да и не одного его – всего царского семейства, особенно женской его части – этого подлинного, по определению историка И. Забелина, «женского синклита теремных затворниц», легко впадавших в религиозный экстаз. Для них видение Никона в Святой Софии стало очередным свидетельством избранности пастыря, подтверждавшейся прежде всего тем, что эта избранность – обреченность на муки и страдания. Но страдания и мучения, принятые за Правду!
Новгородские события еще более расположили Алексея Михайловича к Никону. Царь не скупится на эпитеты, которые до сих пор не раздаривал никому: «крепкостоятельный пастырь», «наставник душ и телес», «собинный друг душевный и телесный». Эти обращения щедро рассыпаны в письмах к новгородскому владыке и поневоле характеризуют и их автора, склонного доходить в своем восторге до крайности. Кажется, царь не видит у своего «собинного друга» ни одного недостатка – сплошные достоинства.
Трудно сказать, что в этом стремительном взлете можно отнести на счет самого митрополита, а что – на счет неопытности и благодушия Алексея Михайловича. Выше уже отмечалось, что Никон, восходивший к патриаршеству, несомненно приспосабливался к окружению. Но едва ли можно было без конца смирять властную и вспыльчивую натуру. Став патриархом, он совершил столько неловких поступков, что, право, приходится удивляться, как ему удавалось избегать их ранее. Отгадка между тем кроется в том, что он никогда особенно и не пытался их избегать. Расчет во взаимоотношениях с царем дополнялся интуицией, которая долго не подводила Никона. Он вел себя с царем очень естественно, без особого насилия над собой, утверждаясь в роли твердого, хотя и не лишенного житейской мудрости архиерея. Но это как раз и было по сердцу Алексею Михайловичу, который в своих взаимоотношениях с Никоном постепенно утратил всякую взвешенность. Последнее было бы простительно для обычного человека, но непростительно для государственного деятеля.
Угадав внутреннюю неуверенность, мнительность Алексея Михайловича, Никон внушил государю, что его пастырское радение и молитва – надежная защита во всех государственных и семейных начинаниях. Авторитет Никона среди родных царя был столь высок, что даже после того, как он разошелся с Тишайшим, государевы сестры осмеливались поддерживать с ним отношения. Несомненно, в этой семейной симпатии к Никону сокрыт один из самых действенных рычагов его влияния на царя.
Обыкновенно удаление человека от двора способствует ослаблению его позиций. Он не появляется перед «пресветлыми государевыми очами», забывается и вытесняется новыми людьми. Не случайно в придворной борьбе победившие всегда стремятся отправить проигравших если не в ссылку, то на дальнее воеводство, по известному принципу – с глаз долой, из сердца вон.
С Никоном такого не случилось. Оказалось, что чем он дальше, тем сильнее его притяжение. Царь нуждался в постоянном общении с «собинным другом». На станциях – ямах – между Москвой и Новгородом не успевали менять лошадей: столь часты были пересылки между царем и митрополитом. Сам Никон пребывал в постоянном движении, почасту наезжая в Москву. Влияние его возросло настолько, что уже ни одно мало-мальски серьезное дело не обходилось без его совета и благословения.
Подавив выступление в Новгороде, Никон был совсем не против приписать себе заслуги «утешения бунта» во всех северо-западных городах. Это было, конечно, сильное преувеличение. В Пскове и в Псковской земле, где настроение было куда решительнее, а единодушие прочнее, митрополичьи призывы к покаянию не произвели впечатления. Грамотки Никона были встречены бранью и нелестными комментариями: «Полно де ему, митрополиту, и того, что де он Новгород обманул, что подали государю новгородцы повинные челобитные. А мы де не новгородцы» [170]170
Там же. С. 65–66.
[Закрыть].
В самом деле, новгородский бунт удалось затушить так быстро, что он толком и не успел разгореться: больше было крика и угроз, чем поступков. Иначе вышло в Пскове. Здесь восставшие арестовали воевод и передали власть «всегородовой избе», руководившей действиями посадских и приборных служилых людей. Иные в своем радикализме посягали даже на самого царя. «Хотя бы и сам государь был под городом Псковом, и то бы пульку в брюхо ввязили», – грозились они по адресу Тишайшего [171]171
Там же. С. 114.
[Закрыть].
Подобные высказывания, конечно, не были типичны: мятежники крепко надеялись на государеву «милость» и признание правоты их «мирской правды». Вот почему они изначально стремились придать своему выступлению всесословный характер. Для этого в Пскове прибегли даже к насилию и фальсификации: было объявлено о присоединении к движению псковских дворян, некоторых из которых действительно принудили к появлению в мятежной толпе. В Москве, не сразу разобравшись, упрекнули псковских дворян в отступничестве. В грамоте им с укоризной напоминали: «Ныне ведомо нам учинилось, что вы, забыв наше государское крестное целованье и свою природу, приставали к ворам», тогда как предки псковичей верою и правдою служили государю, «головы свои складывали» и за то была им «наша государская милость».
Однако правительство на этот раз беспокоилось напрасно. Поместная армия, вполне удовлетворенная статьями Уложения 1649 года, не примкнула к псковичам. Дворяне и дети боярские приняли участие в боях с мятежниками, и впоследствии, в ноябре 1651 года, все погибшие, по указу Алексея Михайловича, были занесены в синодики монастырей и соборов для вечного поминовения. По псковским синодикам таких набралось 75 человек, среди которых оказались 19 новгородцев и 33 псковича [172]172
Болховитинов Е. А. (Митрополит Евгений). Сокращенная Псковская летопись. Псков, 1993. С. 75.
[Закрыть]. Все они входили в карательный отряд князя И. Н. Хованского, которому была поручена борьба с непокорными подданными.
Псковские события вызвали сильное беспокойство при дворе. Ждали самого худшего – второго издания московского гиля. Шведский резидент Родес писал, что в Москве все «живут в немалом страхе», что мятеж, «как бегущее пламя», пойдет далее и это «может совершенно легко случиться» [173]173
Курц Б.Состояние России в 1650–1655 гг. по донесениям Родеса. С 28.
[Закрыть]. Бояре И. В. Морозов и В. П. Шереметев допрашивали старост и сотских в надежде найти авторов слухов о будто бы предстоящих волнениях. Приказано было всех подозреваемых в распространении таких речей хватать и вести в приказ для допроса [174]174
РГАДА. Ф. 210. Приказный стол. № 272. Л. 207–211.
[Закрыть].
В Кремле стремились как можно скорее развязать псковский узелок. Потому полагались не на одну силу, а и на переговоры, призванные образумить мятежников. Замечательно, что и восставшие попытались сыграть на розни в верхах. Они тайно послали людей к боярину Н. И. Романову с просьбой о заступничестве. Намерение псковичей вызвало сильное раздражение морозовского окружения. Правительство, чтобы положить конец всяким надеждам на раскол при дворе, поспешило выговорить бунтовщикам: «Написали вы это по воровскому заводу: нам он, боярин, наш холоп, служит с своею братьею вместе, а недоброхота между боярами никого нет. При предках наших никогда не бывало, чтоб мужики с боярами, окольничими и воеводами у расправных дел были, и впредь того не будет».
Однако за грозной тональностью царских грамот скрывалась прозаическая нерешительность. К правительственным уговорам и угрозам решено было прибавить авторитет земских выборных, собранных специально для унятия псковского мятежа в столице. Мысль была иезуитская: лишить земским осуждением псковичей нравственной правоты, которая сплачивала и вдохновляла гилявщиков. В город отправилась делегация от Земского собора во главе с коломенским епископом Рафаилом. Миссия завершилась успешно: делегации удалось убедить псковичей покаяться и отворить ворота.
Архивы не сохранили следов личного участия царя в псковских событиях. Его позиция растворилась в позиции думы и в царских указах: несомненно, все было сделано с его ведома, но что было высказано им самим, а что сформулировано окружающими – можно лишь предполагать [175]175
26 июня царь слушал с боярами отписку воеводы князя И. Н. Хованского о бое с псковичами у Снетной горы. Государь слушал и велел боярина с ратными людьми похвалить «и на до псковскими изменниками промышляти». РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 227. Л. 7–8.
[Закрыть]. Зато достоверно известно, что пока «качался» Новгород, а Псков кипел в мятеже, Тишайший не пренебрегал своим любимым занятием – охотой. Именно весной – началом лета 1650 года датированы несколько писем из окрестностей Калязинского монастыря, где царь Алексей тешился соколиными забавами. В письмах царь детально описывал охоту, но ни разу не обмолвился о событиях в стране. Это даже дало основание известному историку М. Н. Тихомирову говорить об «удивительном политическом невежестве» государя в момент, «когда шаталось самое основание его престола» [176]176
Тихомиров М. Н.Указ. соч. С. 162.
[Закрыть]. Представляется, что исследователь сильно преувеличил масштаб событий. При том, что мятежи в Новгороде и Пскове смешали правительственные планы, до крушения «основания престола» было далеко.
Однако вопрос о степени участия Алексея Михайловича в управлении государством на самом деле остается открытым. В свое время Н. М. Карамзин, оценивая влияние Московского восстания на царя Алексея, пришел к выводу, что тот воочию убедился, «сколь опасно для монарха излишне полагаться на бояр», и «с этого времени… начал царствовать сам собой». Но мы видим, что и в 1650 году с самостоятельным царствованием у Тишайшего дела обстояли далеко не так благополучно. Для этого Алексею Михайловичу пока еще не хватало ни опытности, ни характера.
Бесспорно, события 1648–1650 годов сильно повлияли на царя, заставив его вплотную заняться законотворчеством. Но из этого вовсе не следует, что он стал сразу править «сам собою». О самостоятельности Тишайшего в принятии решений вообще говорить трудно. Не только в силу особенности его личности. Позднее «взросление» и обретение самостоятельности – вовсе не удел одного второго Романова. Вспомним, что Петру I было далеко за двадцать, когда он всерьез взялся за государственные дела. По сути, до самых Азовских походов всеми делами в государстве заправляли царские родственники и доверенные лица, такие, как корыстолюбивый и не очень умный дядя Лев Кириллович Нарышкин или умный, но редко бывавший трезвым князь Борис Алексеевич Голицын. Но вот ирония! Образ царя-делателя, плотника и воина настолько владеет сознанием потомков, что мало кто бросает упрек в продолжительном «безделье» младшему сыну Алексея Михайловича. Зато последнему претензии предъявляются по самому строгому счету: второй Романов в представлении историков и писателей чаще всего выглядит человеком праздным.
Как мы уже знаем, это утверждение далеко от истины. Время «взросления» государей – вообще время особое и не совпадает с тем, что у современников считалось совершеннолетием. Отправить сына-новика на службу, повести его под венец – эти события были совсем иного порядка, чем начало самостоятельного царствования. Здесь многое должно было сойтись, включая обретение внутренней уверенности и исчезновение из окружения государя прежних наставников и воспитателей. С этой точки зрения Алексей Михайлович от своих предшественников и потомков мало чем отличается: в делах он стал принимать участие не особенно рано и не особенно поздно – вовремя, и уж во всяком случае, чуть раньше Петра. Другой вопрос, что из затянувшихся петровских забав в конце концов выросли реформы, а из охотничьих утех Тишайшего не выросло ничего. Но ведь Петр идет по особой шкале, которую едва ли уместно прилагать к остальным Романовым.
Не следует забывать и о том, что Алексей Михайлович – воспитанник ревнителей, вполне усвоивший их высокое понимание долга. Мужествуя сердцем от поучительных словес боголюбцев, царь испытывал страстное желание встать вровень, соответствовать высокому предназначению православного государя. Отсюда и та старательность, с какой он выполнял под присмотром Морозова все то, что входило по традиционным представлениям в круг обязанностей благочестивого монарха. Потребовалась настоящая смена вех для того, чтобы ощутить неудовлетворение от подобного рода «соответствия» царскому сану.
Даже выявление следов систематического участия Тишайшего в управлении государством – а они обнаруживаются в документах по крайней мере с 50-х годов и связаны с созданием Тайного приказа – не позволяет в полной мере оценить Алексея Михайловича как государя. Насколько он был действительно самостоятелен? Руководил ли он своими советниками или, напротив, всецело подчинялся им? Хватало ли Алексею Михайловичу ума и прозорливости в клубке разнообразных задач выделить приоритетные и найти пути их достижения? Словом, насколько хватало ему ума, воли и силы государить?
Здесь самое время обратиться к политической истории начала 50-х годов, когда с прекращением городских восстаний в Москве наконец-то смогли обратиться к реализации внутри– и внешнеполитических планов. Эти планы давно уже волновали Алексея Михайловича. То было поприще, которое казалось ему не просто великим, а достойным для приложения всех накопившихся душевных и физических сил.
Торжество православия
В середине столетия произошли события, которые историки не без основания назвали «торжеством Православия». Царь принял в них самое непосредственное и живое участие. Если вспомнить о глубоком и искреннем религиозном чувстве Алексея Михайловича, то едва ли это вызовет удивление. Однако на сей раз стараниями царя происходившему был придан и политический смысл: торжествовало не просто православие, а Православное царство под скипетром Романовых.
К подобной акции и светскую, и духовную власть подтолкнуло несколько обстоятельств. Среди последних были обстоятельства вполне личного свойства, которые кажутся даже случайными и мелкими. Но это ошибочное мнение. Ведь при монархическом режиме все случайное и мелкое невольно обретает важное значение, если исходит от монарха. Таковым была приязнь Тишайшего к Саввино-Сторожевскому монастырю. Приязнь, которая имела самое непосредственное отношение к «торжеству Православия».
Алексей Михайлович питал к Саввину монастырю особую любовь. То был как бы его «домашний» монастырь, процветающий благодаря его неустанному попечительству. Возможно, здесь присутствовало не одно религиозное чувство, а еще и чувство эстетическое, рожденное необычайной красотой окружающих мест. Чего стоила одна дорога на Саввино богомолье! Н. М. Карамзин в XIX столетии так писал о ней: «Нигде я не видел такого богатства растений; цветы, травы и деревья исполнены какой-то особенной силы и свежести; липы и дубы прекрасны; дорога оттуда в Москву есть самая приятная для глаз…» Со времен царя Алексея дорога мало переменилась, и, надо полагать, не меньший восторг испытывал и Тишайший, отправляясь из Москвы на богомолье.
Второй Романов щедро одаривал обитель. Исследователи подсчитали, что одних только денежных пожертвований царским семейством было сделано на общую сумму около 36 тысяч рублей. Это – не считая земельных пожалований и приписанных к «Саввину дому» более бедных монастырей и пу́стынь.
С преподобным Саввой, основателем обители (он умер в 1407 году), и связаны события, которые вызвали необычайное религиозное воодушевление царя Алексея Михайловича. В декабре 1651 года царь отправился в окрестности Саввина монастыря на охоту. Случилось так, что свита отстала, и царь в одиночку вышел на медведя. Дальнейшее известно было из рассказа самого государя. Зверь, поднявшись на задние лапы, уже шел на охотника, когда неизвестно откуда появившийся старец отогнал его. Старец назвался Саввой, иноком Сторожевской обители. Вернувшись в обитель, Алексей Михайлович по иконе, написанной, согласно преданию, одним из учеников Саввы, игуменом Дионисием, признал в своем спасителе преподобного старца.
Царь был потрясен. Он тотчас отправил гонца к Никону, настаивая на его немедленном приезде. 14 декабря Никон покинул Новгород. Близ Торжка он встретил нового гонца с царским наказом: спешить, спешить! Царь прямо-таки сгорал от желания поделиться с «собинным другом» пережитым. По-видимому, именно тогда созрело решение об открытии и освидетельствовании мощей угодника Саввы, более ста лет назад причисленного к лику святых.
Характерно, что сама мысль об открытии мощей Саввы не была нова. Есть известия, что первой должна была совершить это… Марина Мнишек. Так первый Самозванец будто бы собирался упрочить авторитет царицы-католички [177]177
См.: Успенский А. И.Саввин Сторожевский монастырь // Художественные сокровища России. 1904. № 5. С. 64–65.
[Закрыть]. Трудно сказать, насколько это известие достоверно. Но в нем бесспорно отразилось особое почитание чудотворца. Этим же можно объяснить стремление Романовых придать культу Саввы общегосударственное значение. Новая династия, почитая «старых» святителей, стремилась прибавить к этому ряду и «своего», особо чтимого и особо выдвигаемого святого.
Позднее преподобный Савва еще не раз будет являться в видениях к Алексею Михайловичу. В 1654 году, двигаясь на Смоленск, царь остановится на ночлег в деревне Наре. Здесь царю будет видение старца Саввы, который поведает ему о грядущих победах над поляками и литовцами. Поутру в монастырь за образом Саввы тотчас будут снаряжены люди – икона займет почетное место среди святынь, сопровождавших войско. Предсказание сбудется, царские полки войдут в Смоленск, и в благодарность Тишайший пожалует Сторожевской обители Нару.
Обретение мощей святого Саввы произошло в начале 1652 года. 17 января в обитель прибыл Алексей Михайлович вместе с патриархом Иосифом, митрополитом Никоном, царицей, боярами и духовенством. 19 января мощи святого были открыты и положены в новую дубовую гробницу. Возвышенно-эмоциональное состояние молодого государя, по-видимому, позволило Никону высказаться за продолжение церковных торжеств. Царь охотно согласился. Было решено перенести в Успенский собор прах трех выдающихся московских архипастырей – патриархов Иова и Гермогена и митрополита Филиппа Колычева. Подбор имен выдает грандиозный замысел устроителей церемонии. То были иерархи-страдальцы, принявшие мучения и смерть за православную веру и церковь.
Иов был первым московским патриархом, тесно связанным с Борисом Годуновым. Естественно, что восторжествовавшему Лжедмитрию он оказался неугоден. По приказу Самозванца Иов был сведен с патриаршего престола и отправлен в Старицкий монастырь, где скончался в 1607 году.
Другим страстотерпцем стал московский патриарх Гермоген, отличавшийся необычайной твердостью и силой духа. Еще будучи казанским митрополитом, он осмелился требовать перекрещивания Марины Мнишек, за что поплатился ссылкой. Возведенный при Василии Шуйском в патриархи, Гермоген оказался чуть ли не единственным, кто осудил низложение царя-неудачника. Не потому, что питал слабость к «боярскому царю», а потому что предугадывал катастрофические последствия подобного шага. Когда настал черед избрания королевича Владислава, то Гермоген выставил непременным условием принятие королевичем православной веры. Нарушение польской стороной этой статьи позволило патриарху освободить русских людей от клятвоцелования Владиславу. Тогда же Гермоген призвал всех православных к защите веры и к борьбе с интервентами. Призыв не остался неуслышанным: ранней весной 1611 года под Москвой появилось Первое ополчение.
Позднее, после распада Первого ополчения, когда для очищения столицы в Нижнем было создано новое ополчение, поляки и их сторонники из числа русских «доброхотов» стали понуждать патриарха отказать ополченцам в благословении. Гермоген в ответ пригрозил анафемой противникам князя Пожарского. Дело будто бы дошло до обнаженного ножа в руках Михаила Салтыкова, с которым тот бросился на «столпа веры». Патриарх не дрогнул – оборонился крестом и проклял своих мучителей. Тогда Гермогена, «безчестно связавши», сволокли с патриаршего двора в Чудов монастырь. Умер он в феврале 1612 года, уморенный голодом, но непокоренный и несмирившийся.
Митрополит Филипп Колычев едва ли не единственный осмелился публично выступить против бессудных опал Ивана Грозного. Митрополит исполнил свой долг, осудив неблагочестивые деяния кровавого царя. Это потребовало немалого человеческого мужества. По приказу царя послушные иерархи низвергли Филиппа. Бывший митрополит был сослан в Тверской Отрочь монастырь. Но мстительный царь и здесь не оставил строптивого старца в покое. В декабре 1569 года царский приспешник Малюта Скуратов явился в келью Филиппа и, исполняя волю главного опричника, задушил его «возглавьем» – подушкой. В 1591 году по челобитью Соловецкой братии останки Филиппа, бывшего некогда игуменом северной обители, перевезли из Отроча монастыря на Соловки, в церковь Зосимы и Савватия.
Имея в сонме своих святых таких святителей, церковь превращалась в национальный символ, в твердого охранителя истинного христианства и Правды, причем не только от иноверцев, но и от собственных «мучителей», преступавших божественные заповеди. Последнее особенно привлекало митрополита Никона, отстаивавшего право церкви на религиозно-нравственную оценку деяний светской власти. Канонически само это право не ставилось под сомнение. Другой вопрос, что в конкретной политической практике оно давно было вытеснено раболепием церковных иерархов. Филипп тем и привлекал Никона, что не побоялся воспротивиться царю, который считал себя исполнителем божественной воли. Никон готов был идти даже дальше: Филипп напомнил о праве церкви оценивать и выносить приговор светским правителям в условиях чрезвычайных, опричных – он же собирался делать это повседневно.
Отсюда понятно, почему Никон приложил столько усилий, чтобы придать культу Филиппа общерусское звучание и поставить его в ряд особо чтимых святых владык – митрополитов Петра, Алексея и Ионы. До того имя Филиппа хотя и упоминалось в службах, но по своей чести не приравнивалось к трем московским митрополитам-чудотворцам. Чтобы добиться своего, Никону пришлось убеждать Алексея Михайловича в особом величии Филиппа. С признанием этого факта дальнейший порядок действий определялся сам собой: когда в канун окончания рождественского мясопуста наступали поминальные дни и во всех церквях служили панихиды по прежним государям и митрополитам, царь имел обычай прощаться с «предками» и первосвятителями на их гробницах. Но гробница такого великого святителя, как митрополит Филипп, за дальностью оказывалась недоступна для моления и поклонения. Это следовало исправить!
То, что Алексей Михайлович был приуготовлен Никоном к подобному исправлению «исторической несправедливости», видно по щедрому пожертвованию, совершенному 23 декабря 1651 года. В день памяти Филиппа (то есть еще до начала январских торжеств в Саввином монастыре!) царь пожаловал Никону 600 рублей – несомненно в связи со стремлением владыки придать культу Филиппа новое звучание [178]178
Досифей.Историческое описание Соловецкого монастыря. М., 1836. Ч. I. С. 140–144.
[Закрыть].
Никон умел добиваться своего. С 1653 года в память Филиппа-митрополита в Успенском соборе стали проходить торжественные службы с участием патриарха и царя. В Кремле, на месте храма Соловецких чудотворцев, Никон возвел церковь во имя апостола Филиппа, тезоименитого московскому святителю-митрополиту. Он также построил церковь во имя Филиппа в своем любимом Иверском Валдайском монастыре. Наконец, службы святителю Филиппу были внесены в церковные служебники и приобрели официальный и обязательный характер [179]179
См.: Полознев Д. Ф.Канонизация митрополита Филиппа в идейной борьбе за упрочение авторитета церкви в середине XVII в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990. С. 284.
[Закрыть].
Культ святителя Филиппа свидетельствовал о политических симпатиях Никона. Больше того, здесь присутствовала фундаментальная для Средневековья идея уподобления: Никон брал за образец земной путь московского митрополита и в дальнейшем все перипетии собственной жизни соизмерял с его судьбой. В 1660 году в письме своему любимцу, патриаршему боярину Зюзину, он писал о «первообразных», чью злую участь – неправедное гонение от власть предержащих – он разделил. Перо Никона выстроило список от Иоанна Златоуста до «здешни Филиппа митрополита», в который, вольно или невольно, опальный патриарх включал и свое имя [180]180
Гиббинет Н.Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1884. Ч. 2. С. 495.
[Закрыть].
Если прах Гермогена находился в Кремле в Чудовом монастыре, то за прахом Иова и Филиппа надо было снаряжать настоящие посольства в Старицу и на Соловки. Последнее возглавил сам Никон. Выглядело это вполне естественно: сравнительно молодой, полный энергии и сил митрополит отправлялся в далекую обитель, находившуюся в пределах его епархии. К тому же Никон – выходец из Анзерского скита, тянувшегося к Соловкам. Но можно не сомневаться, что Никон отправлялся в далекий путь, подчиняясь еще и собственному душевному порыву.