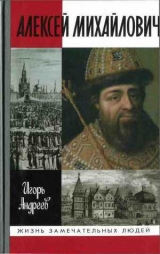
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 51 страниц)
Весной 1634 года Алексея Михайловича усадили за книгу. Обучение, кажется, не ограничилось упомянутыми выше Азбукой, Псалтырью и другими церковными книгами. В июне в Овощном ряду были приобретены немецкие печатные листы. Неизвестно, что было изображено на них. Тем не менее символично само их появление во дворце. Но не все листы предназначались для царевича. Часть В. И. Стрешнев отнес царевнам. В январе следующего года были вновь приобретены 32 листа «писаных немецких и русских». Покупали и карты. Но не игральные – географические.
Этим не исчерпывается список «наглядных пособий». Так, прапорщик Вествол изготовил из воска и раскрасил «виноградные цветы» и лимоны. Помимо «учебно-дидактических» задач эти поделки пошли скорее всего на украшение «потешной вербы» – ведь сделаны были восковые «овощи» в канун Вербного воскресенья.
В январе 1635 года для царевича была куплена плеть – пятилетний мальчик изображал из себя лихого наездника. Впрочем, прежний конь явно стал ему мал, и на следующий месяц для Алексея Михайловича и его товарищей было приобретено целых четыре деревянных скакуна.
Забавы и игры быстро усложняются. Январем 1636 года датируется первое упоминание о шахматах. Весной следующего года из Колпачного ряда для Алексея Михайловича приносят колпак. Но не для того, чтобы покрыть голову. Царевич решил подражать отцу – большому любителю стрельбы по колпакам и шапкам. Мало какой царский поход обходился без этого развлечения. Придворные, желая угодить царю, охотно подставляли свои головные уборы под стрелы и пули. Нередко к концу забавы колпаки более походили на решето, но зато «пострадавший» не оставался внакладе: Михаил Федорович обыкновенно жаловал его прибором на новый, еще более роскошный головной убор.
Принесенный Алексею Михайловичу мужицкий колпак должен был стать мишенью для стрельбы из лука. Заметим, что лучная потеха стала одним из самых любимых занятий Алексея Михайловича и его младшего брата Ивана. В документах дворца сохранилось упоминание о стрельнике Проньке Донкове, которому приходилось не покладая рук делать стрелы для воинственных царевичей.
Вообще ратные игры и «потешное» оружие, приучавшие к воинскому чину, все настойчивее проникали в повседневную жизнь наследника. Оружие попадало в палаты в результате частых и щедрых подношений. Здесь оно оседало в личной казне царевича. Разумеется, далеко не со всякой саблей, ружьем или луком царевич Алексей мог справиться. Но немало было оружия вполне для него подходящего, «потешного», отличного от настоящего лишь весом и размерами. Оно, по-видимому, надолго покидало казну и застревало в руках царевича. Документы упоминают о пистолетиках, ножичках, сабельках, топориках, с которыми играл второй Романов.
С годами расширялся штат потешников царевича. Известны даже имена некоторых из них. Макар и Иван Андреев числились «метальниками» – акробатами и жонглерами. В штат входили также дураки и карлы (часто упоминался какой-то Ивашка Псковитин). По записям не всегда удается понять, чем, собственно, «тешил» себя Алексей Михайлович. Зачем, к примеру, ему понадобились сукна, полотно, мотки ниток и т. д.? Но определенно можно сказать, что потехи становились разнообразнее и случались столь часто, что «дядька» Борис Иванович едва успевает отдавать нужные распоряжения.
Иные потехи были достаточно своеобразны. Так, в Потешной палате царевича хранилось немецкое платье. «Совершенно неизвестно, каким путем зашло это немецкое платье в комнаты государя, к его детям, и кто подал первую мысль об этом костюме», – замечает по этому поводу И. Е. Забелин [44]44
Забелин И. Е.Домашний быт… Т. I. Ч. II. С. 62.
[Закрыть]. Ответ не найден до настоящего времени. Тем не менее иноземное платье – шубы гусарские, юпы, пукши, жупаны, шляпы, куртки, штаны и т. д. – появилось в окружении Алексея Михайловича и даже на самом царевиче.
В ряде исследований это немецкое платье преподносится чуть ли не как причина рождения интереса царевича к западноевропейской культуре. Едва ли такое предположение отвечает действительности. Напомним, что немецкое платье хранилось отдельно от всего гардероба царевича, в Потешной палате, как веселая забава и объект насмешек. Именно в таком качестве его использовали в Потешной палате самого Михаила Федоровича, которая, по заключению И. Е. Забелина, «мало по малу совсем онемечивается» [45]45
Там же. С. 63–64.
[Закрыть]. Но в таком случае корректно ли протаптывать дорожку от потешного «немецкого платья» к устойчивому интересу к западной культуре? С равным основанием можно говорить о стремлении воспитать царевича ярым приверженцем собственной старины, высмеять все то, что имело отношение к чужому, иноверческому.
С момента рождения при втором Романове стала создаваться казна, положенная ему по самой принадлежности к правящей династии. Она как бы закрепляла статус Алексея Михайловича, приучала его воспринимать себя царевичем. Формировалась казна из подарков и поминков-почестей. Преподносили их не только родные и члены государева двора. Каждое иноземное посольство привозило богатые дары старшему царевичу. Не оставались в стороне торговые люди. Трудно перечислить все то, что стекалось в его казну. Однако из этого вовсе не следует, что попадало сюда все без разбору. Во всем была мера, к которой бессознательно приучали Алексея Михайловича. Эта была мера честицаревича и мера, положенная дарителю. Потому дар одного могли просто отвергнуть, а другому указать на неуместность скромного подношения.
На четырнадцатом году жизни Алексея предъявили народу. Этот акт объявления царевичабыл чрезвычайно важным как для самого Алексея Михайловича, так и для всего государства.
Церемония объявления существовала еще в Византии. Там она обрела свой особый подтекст, связанный с особенностями наследия и существованием института соправительства. Этот обряд призван был обеспечить преемственность власти и политическую стабильность. Однако на практике это не всегда удавалось. Немало соправителей, так и не взойдя на престол, оказывались поверженными более удачливыми и энергичными соперниками. И все же соправительство повышало права на престол, что и побуждало императоров короновать при жизни своих преемников [46]46
См.: Культура Византии. Вторая половина VII–XII вв. М., 1989.С. 28–30.
[Закрыть].
Обряд объявления царевича в Московском государстве и по форме, и по существу сильно отличался от византийского. Речь вовсе не шла о том, что царь, потеснившись, высвобождал место преемнику. Не было ничего похожего и на обряд коронования. Объявление царевича означало, что наследник престола, до того тщательно оберегаемый от чужих взоров и злых умыслов, представал перед придворными и народом как человек, достигший совершеннолетия и получивший право публичного участия в церемониях и государственных делах.
Впрочем, в контексте XVII столетия на церемонию возлагалась еще одна, едва ли не самая важная функция: то была гарантия от самозванства в любых его проявлениях. Ведь весь опыт гражданских потрясений, приобретенный с начала века, свидетельствовал, сколь опасно с точки зрения распространения всевозможных самозванческих толков продолжительное «утаивание» наследника. В накаленной послесмутной обстановке толпа легко реагировала на всякий мало-мальски правдоподобный самозванческий слух, пресечь который можно было, явив «миру» живого, осязаемого наследника.
Позднее сам Алексей Михайлович более других уловил смысл объявления царевича, превратив его в подлинный обряд. Тишайшему пришлось объявлять наследников дважды: сначала царевича Алексея Алексеевича, а после его смерти – Федора Алексеевича. При этом царевичей «предъявляли» не только подданным, но и иноземцам. В последнем случае Алексей Алексеевич даже произнес перед польскими послами приветственную речь по-латыни и по-польски.
Появление самого Алексея Михайловича рядом с отцом было обставлено много скромнее. И все же это был важный момент в жизни второго Романова. Он приучался к царству и приучал будущих подданных, «государевых холопов» и «сирот», к себе.
Едва ли детская память Алексея Михайловича сохранила хоть какие-то воспоминания о своем деде, святейшем патриархе, великом государе Филарете Никитиче. Он ушел из жизни в 1633 году, когда царевичу шел пятый год. Еще раньше сошла в могилу бывшая супруга Филарета, великая старица Марфа Ивановна. Она, правда, успела понянчить своих внучек и даже брала в Воскресенскую обитель, где для нее были выстроены кельи, царевну Ирину. Возможно, позднее старшая сестра что-то и рассказывала державному брату о деде и бабке. Впрочем, не приходится сомневаться, что в правление Тишайшего напомнить о великом государе, грозном патриархе Филарете, находилось немало охотников. И в первую очередь сказанное относится к патриарху Никону. Выстраивая свои отношения с царем, он «эксплуатировал» образ Филарета, психологически тем более убедительный, что для второго Романова отношения «отец – дед», «царь – патриарх» сливались воедино и эмоционально окрашивались в самые привлекательные цвета. Никогда не отличавшийся особой крепостью духа, Алексей Михайлович подсознательно искал, к кому можно было бы прислониться, кому передать часть непосильной государственной ноши, но так, чтобы это было сделано как положено, законно. Соправительство патриарха Филарета, второго «великого государя», было тем прецедентом, который рассеивал на этот счет сомнения. По крайней мере до поры до времени. Так что эти воспоминания поначалу вдохновили Тишайшего на возвышение Никона и на его активное участие в государственных делах.
Но в 1633 году для отца Алексея Михайловича царя Михаила Федоровича кончина Филарета оказалась в известном смысле освобождением: покойный патриарх был слишком властен и норовист, отчего его опека с годами становилась обременительной для великовозрастного сына. Михаил Федорович возродил единовластие и повел себя по отношению к последующим патриархам подчеркнуто независимо. Вызывавшее немалое смущение среди подданных титулование «великий государь» уже более никогда и никому не жаловалось первым Романовым.
Зато возросло значение Боярской думы, призванной помогать государю в управлении страной. При этом в самой думе и при дворе возникли несколько борющихся за влияние на государя группировок, замешанных на родственных связях и общих интересах.
Естественно, на расстановку сил очень влияли личные симпатии царя. Постепенно со сцены сходили прежние герои Смуты, соратники покойного патриарха. Все менее заметен князь Дмитрий Пожарский, которого, кажется, уже начала тяготить нескончаемая царская служба. Падает роль князя Бориса Михайловича Лыкова, человека равно заслуженного, гордого и вздорного. Вернувшиеся из ссылки гонители несчастной Хлоповой Салтыковы, родственники покойной великой старицы Марфы, уже не получают того веса, который имели прежде, до своей опалы. Не особенно сильны, впрочем, и родственники царицы, Стрешневы.
Во главе правительства встал боярин князь Иван Борисович Черкасский. Его позиции кажутся незыблемыми и прочными – князь был сыном родной тетки Михаила Федоровича, Марфы Никитичны, жены Бориса Камбулатовича Черкасского. Среди царских родственников никто не пользовался таким доверием Михаила Федоровича. Царь благоволил к двоюродному брату на протяжении всего своего царствования. Черкасский первым из стольников был возведен в боярское звание, а в 1624 году, на свадьбе Михаила Федоровича, занял первенствующее место тысяцкого.
Важно и то, что И. Б. Черкасскому доверял патриарх Филарет. Это означало известную преемственность правительственного курса, в чем, конечно, был заинтересован Михаил Федорович. И верно, И. Б. Черкасскому удалось отвести обвинения, связанные с оглушительным проигрышем и тяготами Смоленской войны, от имени главного ее инициатора Филарета. А ведь Филарет – это не только патриарх, а сама династия.Правда, для этого пришлось многим пожертвовать, в том числе и головой преданного первого воеводы М. Б. Шеина. Но надо же было кому-то отвечать за свои собственные, а главное, за чужие ошибки?
Двенадцать лет правления царя Михаила после Филарета не были отмечены сколько-нибудь крупными достижениями. Но зато не было и провалов, подобных русско-польской войне. За эти годы удалось сделать то, что действительно нужно было стране: началось возведение новых городов и строительство оборонительных черт, призванных обезопасить южные уезды от татарских набегов. Последующие события показали, насколько своевременными и жизненно важными оказались эти шаги.
Людям, далеким от истории, мало что говорит название «засечная черта». Между тем в отечественной истории ее роль можно сравнить с ролью Великой Китайской стены, о которую разбивались приливные волны набегов кочевников. Перерезая шляхи, засеки должны были первыми принять удары злой степной силы, и если не отразить, то по крайней мере ослабить их и дать возможность населению спрятаться за стенами городов, а свежим дворянским сотням – выдвинуться из глубины и опрокинуться на неприятеля.
Вместе с тем засечная черта с ее многокилометровыми укреплениями, городами, жилыми и «стоялыми» острожками, с единственными в своем роде проездными воротами, орудия которых смотрели вперед, в степь, и назад, на случай появления возвращавшихся после прорыва неприятелей – все это вместе взятое представляло собой гигантское для своего времени инженерное сооружение, требовавшее огромных материальных и трудовых затрат, терпения и самоотверженности населения. К этому надо добавить, что засечные черты могли появиться только в стране с сильной самодержавной властью, способной мобилизовать, организовать и заставить всех возводить и защищать эти укрепления. Примечательно, что Речь Посполитая, не менее страдавшая от разорительных набегов крымцев, никогда не прибегала к столь масштабным оборонительным мерам. И дело здесь не в одном скепсисе – адекватны ли такие огромные усилия и затраты получаемым результатам? Засеки были попросту недоступны для польских государей, вечно страдавших от безденежья, своеволия и сословного эгоизма магнатов и шляхты, всегда готовых наложить «вето» на подозрительную королевскую «затейку».
Большая или Старая засечная черта, о которой уже упоминалось выше, имела своим центром Тулу. Не случайно здесь располагались главные силы прикрытия. Из Тулы легче всего было поспеть к любому пункту засечной черты, подвергшейся нападению татар. От Тулы на запад, восток и юг расходились линии укреплений. Особенно сильными были они по Крапивенским и Соловским засекам. Здесь, из-за отсутствия естественных укреплений, пришлось копать рвы и возводить вал верст в пятнадцать, который получил название «Завитай». Перед рвом в несколько рядов были пущены надолбы, а на валу поставлены острожки и башни. Строили «Завитай» голландские инженеры. Само же дело находилось под крепким присмотром И. Б. Черкасского.
В Москве хорошо осознавали, что восстановлением обороны Старой засечной черты уже нельзя ограничиться. Тучные земли Дикого поля не оставляли равнодушными ни само правительство, ни землевладельца, ни крестьянина. Опасность была велика, но и велик был соблазн осесть, освоить и получить землю во владение. Потому с завершением Тульской черты правительство приступило к строительству засек на новых направлениях. Строились эти засеки с городками и острожками просто удивительными по скорости темпами. Строительные планы простирались в глубь Дикого поля, где раньше, как далеко выдвинутые вперед пешки, стояли лишь одинокие русские городки. Решено было поставить между ними новые опорные пункты, связанные непрерывной системой укреплений.
Так возникли города: Обоянь между Белгородом и Курском на Муравском шляхе, Чернавск на Быстрой Сосне, Козлов на лесном Воронеже, Тамбов на Цне, два Ломова – Старый и Новый, Усерд на Тихой Сосне, Хотмышск на Ворскле, возобновлен Орел и расширены прежние города.
Это не было хаотичное строительство: на самом деле все было в достаточной мере продумано: тучную степную землю «нарезали», как хорошо пропеченный каравай – ломоть за ломтем, последовательно сдвигая к югу пограничные рубежи государства.
В 1642 году скончался И. Б. Черкасский. Смерть ключевой фигуры на русской политической сцене не вызвала потрясений. Преемником стал боярин Ф. И. Шереметев, женатый на дочери Черкасского. Уже при жизни Черкасского он занимал видные позиции, и смена первых лиц обошлась без резких перемен в политическом курсе. Федор Иванович по-прежнему уделял много внимания засечным чертам, потребность в которых стала особенно ощутимой после событий под Азовом. В 1637 году донские казаки лихим налетом заняли крепость и, отразив посланные на штурм турецкие полчища, били челом Михаилу Федоровичу о взятии города в подданство. Соблазн был немалый – тот, кто владел Азовом, контролировал нижнее течение Дона. Но присоединение Азова означало войну с Турцией. Собранные на Земский собор представители дворянства и посадских людей, на словах высказываясь за войну, дали понять, что они тяготы и нужды нести не желают. Правительство Шереметева сигнал услышало и к мнению выборных прислушалось. К тому же среди прочих факторов к отказу от Азова подталкивала и незавершенность работ на Белгородской черте.
Донское посольство получило отрицательный ответ. В 1642 году казаки оставили Азов. Войны удалось избежать, однако отношения с турецким султаном и крымским ханом настолько испортились, что приходилось ежегодно ждать «большой татарской войны».
Утверждавшиеся с началом века на московском престоле государи пытались упрочить свои позиции династическими браками. При этом искали они невест, а для царевен женихов за пределами отечества, среди членов королевских домов. Тем самым они стремились еще более вознестись над окружавшими их родами, некогда стоявшими вровень или даже выше их, а теперь обратившимися в «государевых холопов». Кроме того, такие браки должны были разорвать своеобразную династическую изоляцию, в которой оказались новоявленные правители. И в данном случае не важно, что вероисповедальный вопрос или неблагоприятное стечение обстоятельств стали неодолимыми препятствиями в осуществлении этих планов. Показательно само стремление поймать в династические паруса попутный ветер, который бы помог укрепиться и обрести союзников в Европе.
Первым в этой роли в XVII столетии выступил Борис Годунов, подыскивавший в женихи для дочери Ксении какого-нибудь владетельного европейского принца. Для этого в Москву зазвали изгнанного из Швеции королевича Густава. Но тот возымел к московским порядкам такое отвращение, а к своей протестантской вере такое рвение, что из сватовства ничего не вышло. Тогда в 1602 году из Дании привезли младшего брата короля Христиана принца Иоанна. Но оказалось, что некоторым принцам противопоказано не одно датское королевство, а и Московское царство. В Москве Иоанн неожиданно заболел и умер чуть ли не на руках скорбящего Бориса.
Спустя сорок лет на Данию обратил свой взор уже царь Михаил Федорович. Старшей его дочери Ирине исполнилось 13 лет, и пришло время приискивать жениха. За своего «холопа» отдавать царевну было зазорно, равных же православных государей, за отсутствием самостоятельных православных царств, не было вовсе. Из этого заколдованного круга Михаил Федорович попытался вырваться, взявши за образец годуновскую задумку. Выбор пал на третьего сына датского короля Христиана IV Вальдемара, племянника умершего в Москве герцога Иоанна.
Положение Вальдемара было двусмысленное. Рожденный в морганическом браке, он был, что называется, белой вороной. Отец возвел его в графское достоинство, пожаловав во владение Шлезвиг и Голштинию, однако это не избавляло его от косых взглядов двух старших братьев, появившихся на свет в первом, освященном церковью браке. Предложение из далекой Московии открывало хотя и не совсем ясные, но неожиданные перспективы. Просвещенный принц «жертвовал» собой, приобретая для Дании нового союзника. И если структура зыбкого восточноевропейского равновесия с этим браком и не менялась кардинально, то позиции Копенгагена и Москвы должны были усилиться – особенно по отношению к Швеции, сопернику для обеих стран традиционному и опасному.
Первая попытка прощупать намерения сторон, однако, едва не окончилась неудачей. Посланное весной 1642 года в Данию посольство окольничего С. Проестева и дьяка И. Патрикеева, грубейшим образом нарушив статьи наказа, повело переговоры к срыву. Датчанам они отвечали «самыми короткими словами, что к делу непристало», о лютеранстве принца бухнули прямо – непременно перекрещиваться, тогда как надо было «говорить гладко и пословно, а не отказывать». В итоге послы вернулись, «не соверша дела» [47]47
ДР. Т. II. СПб., 1851. Стб. 681; СГГД. III. № 177.
[Закрыть].
В русской дипломатической практике разговор «мимо наказа» – нонсенс. Для этого нужны были или невероятно веские причины, или немыслимая «простота ума». Последнее иногда случалось, но не одновременно с послом и с дьяком. И если окольничий Семен Проестев ничем особенно не выделялся, то дьяк Иван Патрикеев за свои деловые качества пользовался полным царским доверием. С 1641 года он сидел дьяком в Новой Четверти и, по слухам, должен был перейти вскоре во Дворец [48]48
Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном хранилище. Вологда, 1903. Вып. 6. С. 58, 121.
[Закрыть].
Ключ к столь странному поведению послов следует искать не в Копенгагене, а в Москве. Сватовство к иноземному принцу было слишком крупным событием, чтобы придворные группировки остались безучастными. Правда, трудно согласиться со встречающейся иногда трактовкой всего дела, как с попыткой посадить Вальдемара на российский престол мимо живого наследника, царевича Алексея Михайловича. Нужно же это было якобы для того, чтобы ограничить самодержавие на условиях клятвоцеловальных записей, периодически появлявшихся еще в годы Смуты. Взгляд на Вальдемара, как на соперника Алексея Михайловича, причем соперника, которого старательно и слепо взращивал в обход прав сына сам Михаил Федорович, кажется нам малоубедительным.
Позднее Вальдемар будто бы сообщал, что в брачном деле столкнулся с таким могущественным противодействием боярина А. М. Львова, что, предугадай он такое, – не приехал бы в Москву. Более того, при европейских дворах ходили упорные слухи, «что тому браку никак не бывать, хоти он (Вальдемар. – И.А.) себя и перекрестить велит, но в большом страху… его со всем у себя имеющим в Сибирь в опалу не сослали». Все эти далеко не ясные, отрывочные свидетельства позволяют говорить об острейшей борьбе, которая развернулась в Кремле по поводу сватовства королевича. Кажется, женитьба Вальдемара, столь милая сердцу первого Романова, в представлении Ф. И. Шереметева и его сторонников должна была стать средством укрепления их позиции, чему, естественно, противились недруги Федора Ивановича. Для того ими было выбрано мощное средство – вероисповедальный вопрос.
Патриарх Иосиф и высшее духовенство настаивали на переходе принца в православие. При этом они, по-видимому, опасались возможности религиозного компромисса со стороны Михаила Федоровича, крайне заинтересованного в браке. Пример уже был: царь Борис, хоть и не без колебаний, дал согласие на брак православной Ксении с лютеранином Иоанном. Решение Бориса казалось современникам необъяснимым: родственник царя Семен Годунов говорил, что государь «верно обезумел, что выдает свою дочь за латина и оказывает такую честь тому, что недостоин быть в святой земле – так они (русские) называют свою землю» [49]49
Масса А.Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии. – О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 59.
[Закрыть]. И это слова человека, к царю, безусловно, расположенного, прозванного за наушничество его «правым ухом»! Какова же должна была быть реакция противников?!
Со времен Годунова мало что переменилось. Поступок Михаила Федоровича в глазах большинства оставался столь же безумным, как и поступок Бориса. Потому вовсе не случайным кажется усилившаяся именно в это время антипротестантская пропаганда, пиком которой стало разрушение лютеранских кирх в Москве.
Соответственно было настроено и посольство в Данию. Известно, что его провожали из Москвы будущие противники Вальдемара, в том числе боярин князь А. М. Львов, который стоял во главе Большого дворца, куда, как уже отмечалось, якобы должен был перейти Патрикеев. Какие наставления получили послы в момент расставания – тайна. Но можно предположить, что повели они дело к срыву не сами по себе, а в надежде на крепкую поруку в Москве. Словом, это был заговор, ибо трудно поверить, чтобы послы решились говорить «самыми короткими словами» исключительно по скудоумию [50]50
СГГД. М., 1822. Ч. 3. № 117.
[Закрыть].
Однако Михаил Федорович не пожелал смириться с неудачей. В Данию был отправлен Петр Марселиус, который повел переговоры совсем иначе. Он напирал на взаимные выгоды от сближения сторон и совсем не настаивал на смене веры принцем. Датчане, не особенно доверяя русской стороне, потребовали гарантий свободы вероисповедания и предоставления Вальдемару особого статуса. В Москве он должен был быть третьей, следом за царем и царевичем, персоной. Марселиус отделался общими обещаниями, так что датская сторона восприняла их как готовность Михаила Федоровича принять условия. Последние должны были быть окончательно утверждены с приездом в Москву датского посольства и королевича, который официально был объявлен женихом русской царевны.
Остается только догадываться, какие чувства испытывал – и испытывал ли вообще – молодой граф к царевне. Сватовство было устроено по-московски, без «парсуны». Но зато царские посланники еще в Дании добросовестно изложили жениху все положительные качества Ирины Михайловны. Они поведали Вальдемару, что царевна – девица умная и скромная, «во всю жизнь свою ни разу не была пьяна».
Датское посольство добиралось до русских рубежей через Речь Посполитую. Король Владислав, в надежде, что русско-датское сближение обернется против Швеции, принимал принца с большой торжественностью, отчего дело сразу приобретало международный подтекст.
Но еще большие торжества начались со вступлением принца на Московскую землю. Специально к его приезду на месте бывшего двора Бориса Годунова выстроили новые трехъярусные деревянные хоромы. «Волдемар Христианусович» – так, согласно русской традиции, именовался высокий гость – поселился в них в январе 1644 года. 25 января к нему пришел сам Михаил Федорович, что, конечно, изначально свидетельствовало об особом положении принца. Царь обнял королевича и объявил, что тот ему столь же дорог, как и родной сын, царевич Алексей. Через несколько дней у королевича появился и Алексей Михайлович. Беседа продолжалась около двух часов, но о чем говорили царевич и королевич – неизвестно. Встреча не носила характера официального – не случайно царевич пришел внутренними переходами. И. Е. Забелин предполагает, что именно тогда Вальдемар преподнес царевичу богатейшую алмазную запону, которую мастера Золотой палаты оценили в 6722 рубля. Алексею Михайловичу подарок понравился чрезвычайно, и впоследствии запона кочевала с одной царской шапки на другую.
Но буквально сразу возникли препятствия для заключения брака. Среди торжеств Вальдемару вдруг объявили, что от него ждут перехода в православную веру. Напрасно королевич ссылался на договоренность с Марселиусом, где ему было обещано сохранение вероисповедания – царь и его окружение настаивали на своем. Тогда 26 февраля 1644 года королевич запросил отпуск. Ему объявили, что ехать назад «нечестно», а без перекрещивания брак невозможен. Поступать так русскую сторону побуждало не только одно упрямство, а и ход очередной шведско-датской войны: шведы брали верх, и в Москве на свой лад рассудили, что принц и его отец должны быть более покладистыми. Тем более что сами датские послы в спор о крещении почти не вмешивались и более хлопотали о помощи и военном союзе.
В Москве даже пошли на организацию настоящего диспута о вере, который, по мнению устроителей, должен был отвратить принца от богопротивного лютеранства и обратить к православию. Стороны обменивались пространными посланиями и четырежды сходились в остром споре. Но напрасно ярились московские богословы, ссылавшиеся на авторитет самого патриарха. Вальдемар оставался непоколебим.
Нет оснований сомневаться в искренности Вальдемара, отвергавшего православие. Он не лукавил и не искал выгоды – просто верил. К тому же он был возмущен обманом: в Дании русская сторона говорила одно, в Москве – иное. Причем убеждение здесь дополнилось чуть ли не принуждением: вокруг дворца усилены были стрелецкие караулы, а самим датчанам из свиты Вальдемара было запрещено общаться со своими земляками и единоверцами, проживавшими в Москве. Как тут было не вспомнить о привычных обвинениях московитов в природном коварстве и невежестве!
У Вальдемара кровь была горячая. Он не собирался ждать защиты из далекого Копенгагена и решил добыть свободу немедля, самим простым и доступным средством – бегством. В ночь на 9 мая Вальдемар с несколькими десятками спутников отправился в путь. Затея была, конечно, изначально сумасбродная, равно свидетельствующая об отчаянии, смелости и мальчишестве графа. Беглецы добрались лишь до Тверских ворот Белого города, где их остановил стрелецкий караул. Завязалась свалка, принцу пришлось отступить, оставив в руках стрельцов одного «пленного». Однако когда стрельцы отправились с захваченным «немцем» в Кремль, Вальдемар по всем правилам военной науки устроил засаду и напал на них. На этот раз кровь полилась обильно – датчане лихо кололи шпагами, шесть человек ранили, одного проткнули насмерть. Принц взял на себя вину за убийство, быть может, выгораживая кого-то или желая окончательно вывести из себя «гостеприимных тюремщиков» – вдруг да и выпроводят?!
Михаил Федорович был очень опечален происшедшим. Но печаль преодолел и с новой энергией принялся за сватовство.
Ближайшее окружение царя, не отказавшись от мысли уговорить королевича принять православие, одновременно искало другие способы развязать проклятый «узол». Князь С. И. Шаховской предложил вести Вальдемара под венец без перекрещивания, ибо сказано ведь в Послании апостола Павла к коринфянам, что «святитца муж неверен от жены верны». Богословские изыски князя-письменника стоили ему дорого: взявшие верх противники Вальдемара отправили Шаховского на далекое воеводство. Когда же спустя несколько лет по своем возвращении он имел неосторожность заявить, что писал то, «исполняя повеленье блаженные памяти государя царя и великого князя Михаила Федоровича», то едва не поплатился «за клевету» головой. Надо было быть очень неосмотрительным, чтобы в 1647 году бросить тень на благочестие почившего государя. Между тем совершенно ясно, что Семен Шаховской действовал в 1644 году если и не по прямому повелению царя, то с его молчаливого согласия, предугадывая потаенное желание государя. Но предлагал он вещи слишком смелые, или, точнее, слишком сомнительные – «королевичу быть в Московском государстве некрещену», – чтобы можно было прибегнуть к ним [51]51
РГАДА. Ф. 375. Д. 9.
[Закрыть].








