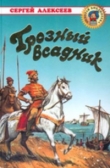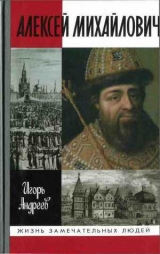
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 51 страниц)
Подобное подвешенное состояние не могло продолжаться вечно. Обретение прочного фундамёнта и верного ориентира было равно необходимо светским и церковным властям. Взявшие при Алексее Михайловиче силу столичные ревнители отказались от узкомосковского взгляда на восточное православие, что, естественно, делало пригодным новогреческие служебники для исправления и перевода. Уже при патриархе Иосифе стали выходить книги, исправленные на основе не только старославянских, но и греческих текстов.
Никон придал этому делу новый импульс. Требуя исправления книг по греческим оригиналам, он сменил справщиков [205]205
Справщик – одна из ключевых фигур на Печатном дворе. Он больше чем просто «редактор». По своему положению он приближается к автору-составителю. Не случайно Аввакум после ссылки отказался от духовничества самому царю и пожелал стать справщиком: «А се посулили мне… сесть на Печатном дворе книги править, и я рад сильно – мне то надобно лутче и духовничества».
[Закрыть]Московского Печатного двора, осмелившихся ставить под сомнение авторитет «позакосневших в неволе» греков. Да и трудно было не сделать это, когда уже при нем с Печатного двора сходила продукция, ставившая греческой церкви в укор утрату благочестия. Осенью 1652 года Печатный двор покинули старые, заслуженные справщики, старцы Иосиф (Иван Наседка) и Савватий. Следом за ними ушел и мирянин Сила Григорьев. На их место приходят новые, грекофильствующие люди, сторонники Никона. Патриарху к тому же удается полностью взять под свое начало Печатный двор: Приказ Большого дворца, в ведении которого ранее находилось издательское дело, был отстранен от него.
Во главе «книжной справы» Никон поставил двух монахов – Епифания Славинецкого и Арсения Грека. Первый принадлежал к «киевской ученой братии» и был приглашен в Москву Федором Ртищевым для возрождения училищного Андреевского монастыря. Епифаний оставался вполне православным человеком, называл «латинскую мудрость» ересью, но с точки зрения провинциальных ревнителей страдал существенным изъяном – был грекофилом. Зато Никон нашел в Епифании исправного и образованного помощника. В 1653 году по поручению патриарха он перевел Деяния Константинопольского собора 1593 года, на котором восточные патриархи утвердили создание московского патриархата. Собор поставил непременным условием соблюдение русской церковью всех православных догматов, что и было, с подачи Епифания, истолковано Никоном как обязанность во всем, включая и обряд, следовать за греческой церковью. Так Никон, в частности, пытался обойти многие положения Стоглава, на которые ссылались его недруги. Даже не будучи официально в штате Печатного двора, Епифаний Славинецкий сильно влиял на его деятельность. К его мнению прислушивались многие, включая самого царя.
Куда меньше повезло Никону со вторым справщиком – Арсением Греком. Человек образованный, учившийся в Риме и Падуе, он вместе с иерусалимским патриархом Паисием в 1649 году приехал в Москву. Здесь он стал предлагать себя в качестве учителя риторики, имея в виду планы создания греко-латинской школы. Однако преподавательская деятельность Арсения, едва начавшись, оборвалась. Возвращавшийся в Яссы Паисий с дороги прислал письмо, в котором поведал о прошлом грека. Оно было предосудительным. Арсений «прежде был иноком и священником и сделался бусурманом, потом бежал к ляхам и у них обратился в униата». Вывод Паисия был смертельным приговором для бывшего спутника: «способен на всякое злое безделие».
По получении письма старец Арсений был подвергнут строгому допросу. Он покаялся и попытался объяснить свое отступничество: униатом стал, чтобы попасть в латинское училище; «обусурманен» же был насильно, после чего с разрешения духовных властей вернулся к истинной вере. Но запоздалое признание мало помогло греку. Для исправления Арсений был отправлен на Соловки под надзор суровых тамошных старцев.
В 1652 году Никон возвращает Арсения в столицу. Обласканный патриархом, Арсений получает место справщика и переводчика. Первые его переводы в книге «Скрижаль», утверждавшие патриаршие нововведения, появились в середине 50-х годов.
Никон, конечно, понимал, сколь уязвим его выбор. Такая одиозная фигура сильно компрометировала все его начинания не только в глазах завзятых противников, но и всех русских православных людей. Но в ученых книжниках, к тому же знающих языки, была острая нехватка. Так что особенно выбирать не приходилось. «Исполнен скверны и смрада езуувитских ересей», – злословили про Арсения расколоучителя. Тем не менее именно Арсений, а не протопоп Аввакум, мечтавший о месте справщика, оказался на Печатном дворе.
«Книжная справа» остро поставила вопрос о том, что брать за образец при исправлении книг. Одним патриаршим волеизлиянием в таком деле обойтись было нельзя. Постепенно становилось ясно, что разогнать, расстричь, «содрать ряску» с противников нововведений вовсе не значило двинуть реформу вперед. Патриаршего авторитета оказывалось уже недостаточно, чтобы унять всех недовольных и сомневающихся. Особенно если эти недовольные – не просто крикливые протопопы, а люди, занимавшие высокие места в церковной иерархии.
В начале 1654 года Никон собрал Поместный собор для обсуждения церковной реформы. Патриарх, открыв собор, сослался на решение Константинопольского собора 1593 года, по которому Москва должна была отказаться от всех «церковных новин». Тут же Никон перечислил различия в чинах и печатных книгах. Речь завершалась вопросом: «Новым ли нашим печатным служебникам последовати, или греческим и нашим, старым, которые купно обои един чин и устав показуют?»
Собор признал необходимость исправления «противу старых и греческих книг». Решение было далеко не единогласным. Из 35 присутствующих постановление подписали 29 человек. Характерно, что Никон на этот раз не внес в перечень отступлений различие в перстосложении. Он, по-видимому, опасался остаться в меньшинстве и предпочел на этот раз обойти острый вопрос. Да и само компромиссное решение исправлять чины против «древних харатейных и греческих книг» красноречиво говорило о настроениях участников Собора. Ведь такое решение исключало исправление по новогреческим книгам, по которым уже трудились новые патриаршие справщики. Что касается «древних харатейных и греческих книг», то с этим решением готовы были согласиться даже провинциальные ревнители. Впрочем, принимали такое решение члены собора вовсе не потому, что поддались давлению «взбунтовавшегося» белого духовенства. Излишне смелые нововведения Никона испугали почитателей церковной старины, и они поспешили обозначить предел, за который не должен был преступать реформатор. Никон на этот раз не стал настаивать, смекнув, насколько шатким окажется его положение в случае открытого протеста части архиереев.
При таком раскладе очень многое зависело не от соборных деклараций, а от вполне конкретных шагов в повседневной церковной политике. Здесь же вся сила оказалась у Никона, и он, не церемонясь, охотно прибегал к ней. На Печатном дворе по-прежнему правка шла по новогреческим книгам «венецианской печати». Но трудно было спорить с Никоном, которого всецело поддерживал царь. Предостережением для многих была судьба коломенского епископа Павла, воспротивившегося патриаршим «новинам». Павел лишился архиерейской мантии и подвергся мучениям, после которых, по официальной версии, впал в умопомешательство, а по утверждению старообрядцев, был задушен или уморен голодом. Сама же Коломенская епархия вошла в состав патриаршей области, разросшейся при Никоне до пределов необъятных.
Но подобная расправа – палка о двух концах. Слабых духом она пугает и прогибает, сильных – ожесточает и раззадоривает. Сосланные протопопы, не успев толком освоиться в своих узилищах, получили своего первого мученика-епископа. Выходило, что они не просто бунтари и «церковные безчинники», осмелившиеся противиться патриаршей воле, а защитники веры, которых поддержали даже архиереи. Расправа с Павлом сильно походила на поражение, и если у самого Никона были на этот счет какие-то сомнения, то через несколько лет они рассеялись. Ссора Никона с царем вызовет к жизни целый реестр патриарших прегрешений, одно из которых – превышение святительской власти в деле с коломенским епископом. Так царь и поддержавшие его греческие и русские архиереи в своем обвинении сомкнутся со старообрядцами.
Весной на Печатном дворе началась работа над Служебником, в основание которого было положено венецианское издание 1602 года. Этот новогреческий вариант, составленный с точки зрения литургической науки, был не хуже и не лучше современных ему русских. Но он, естественно, был свободен от влияния древнего Студийского устава, так что в сравнении с прежними русскими служебниками тотчас выявилась масса разночтений, о которых возопили по выходе будущие расколоучители.
В том же 1654 году на печатный станок ложится «Скрижаль» – свод церковных правил. Переводили и набирали «Скрижаль» с греческого издания 1574 года, которое послал Никону патриарх Паисий [206]206
Зеньковский С.Указ. соч. С. 219.
[Закрыть].
Сопротивление, с которым столкнулся Никон, побудило его прибегнуть к помощи восточных иерархов. Уже в начале реформы, как нельзя кстати, в московских приделах появились антиохийский патриарх Макарий и сербский митрополит Гавриил. Макарий быстро сошелся с Никоном и, войдя во все трудности его положения, принялся во всеуслышанье укорять московитов в отступлении от истинно православных чинов.
Такая поддержка подогревала реформаторский пыл Никона, влияние которого на царя достигло апогея. Стоит отметить, что это было страшное время, последовавшее после московской чумы 1654 года. То, что царская семья не поредела в моровое поветрие, когда смерть выкашивала всех без разбору, было всецело приписано попечению Никона. Алексея Михайловича, правда, смущали резкости патриарха. Но в этом смущении была, кажется, и немалая толика восторга. Так громовержно гневаться царь не умел.
Поддержка царя давала возможность Никону двигаться дальше. 4 марта 1655 года, в Неделю православия, в Успенском соборе происходило пышное богослужение, блеск которому придавали присутствие царя и участие двух патриархов – Московского и Антиохийского, а также митрополита Сербского. Стечение народа было огромным. Никон при поддержке восточных архиереев открыто выступил против старинного русского перстосложения.
Происходящее преподносилось как стремление вернуться во всем к истинному благочестию. При этом истинное благочестие трактовалось Никоном «по греческим образцам». Никон, как и следовало ожидать, с жаром обрушился на двухперстие. «Он говорил, – писал Павел Алеппский, – что москвитяне неправильно полагают на себя знамение креста: крестясь, они складывают персты руки не так, как складываем мы, а как святители благословляют». Последнее очень примечательно: Никон увидел в прежнем знамении еще и покушение на святительскую власть – ведь так складывать персты могут только священнослужители.
Патриарх обрушился не только на старое знамение, но и на навеянное западноевропейским влиянием «живописное» иконописание. Еще в 1654 году стрельцы по приказу Никона изымали иконы подобного письма из домов родовитых людей. У таких икон патриаршие служители вымарывали глаза, а затем носили их по городу к огромному смущению москвичей, недоумевавших – не иконоборец ли их новый патриарх? В августе все это едва не закончилось всенародным бунтом и намерением расправиться с патриархом. Но Никона угрозы никогда не пугали, и теперь он решил устроить этим «франкским образцам» публичную казнь. Картина получилась впечатляющая. Патриарх подымал вверх икону, провозглашал имя ее владельца и кидал на плиты собора. Иные образа были брошены с такой силой, что трескались и разлетались. Но патриарху и этого показалось мало: доски приказано было собрать и сжечь. Можно представить, какое смятение царило в церкви – в щепы и огонь летели образа, пред которыми еще вчера молились и клали поклоны. При этом родовитые люди, недавние обладатели икон, публично позорились! Но никто не посмел одернуть разбушевавшего пастыря. Лишь Алексей Михайлович, собравшись духом, выпросил разрешение закопать отвергнутые и разбитые иконы: «Нет, батюшка, не вели их жечь, а лучше прикажи зарыть в землю» [207]207
Павел Алеппский.Путешествие Антиохийского патриарха Макария… М., 1898. IV. С. 136–137.
[Закрыть].
В конце марта состоялся новый церковный собор, призванный утвердить новый устав и тексты Служебника. Именно на этом соборе Никон произнес известные слова, что он «русский и сын русского, но моя вера и убеждения греческие». Слова эти были произнесены им не просто так. Если вспомнить, что 4 марта, осуждая старое знамение, он заставил патриарха Макария через переводчика провозгласить всем присутствующим, что «ни в Антиохии, ни в Константинополе, ни в Иерусалиме, ни на Синае, ни на Афоне, ни даже в Валахии и Молдавии никто так не крестится, но всеми тремя пальцами вместе», то это для него – аргумент. При этом Никон не желал считаться с тем, насколько этот аргумент оскорбителен для русского самосознания, привыкшего видеть все в ином свете.
Участники собора не осмелились открыто выступить против Никона – всем памятна была судьба Павла Коломенского. Если возражения и звучали, то слишком робко, чтобы помешать Никону истолковать решение собора в свою пользу.
Давление Никона нарастало. 24 февраля 1656 года, во время службы в Неделю православия в Успенском соборе, Никон уговорил патриарха Макария провозгласить анафему всем, кто крестится по-старому. Антиохийский патриарх не хуже остальных греческих архиереев видел всю опасность радикализма Никона. В частных беседах со своим сыном-секретарем, знаменитым Павлом Алеппским, оставившим нам свои воспоминания о посещении Москвы, он сетовал на неразумность московского владыки: «Бог да даст ему чувство меры» [208]208
Там же. III. С. 138, 147.
[Закрыть]. Но хорошо быть воздержанным вдалеке от Москвы и ее богатств! Попавши же в Москву, хотелось покормиться, и здесь уж поневоле приходилось танцевать под музыку того, кто ее заказывал. В 1656 году в главных «заказчиках» ходил Никон, и беспринципный Макарий не стал с ним спорить. Взявши слово после Никона, он обратился ко всем, призывая креститься трехперстно – а кто не делает так, «тот проклят». Проклятие было подтвержено митрополитом Гавриилом и никейским митрополитом Григорием. Авторитет трех живых патриархов легко перевесил предупреждения прочих греков о важности единства в вероисповедании, а не в элементах обряда. Да и предупреждения эти почти никому не были известны.
Отлучение было закреплено решением церковного собора, собравшегося 23 апреля 1656 года. Так, при молчаливой поддержке Алексея Михайловича, завершился первый этап «эллинизации» русского обряда. Никон добился своего, ухитрившись отчасти даже отойти в тень и выставить на первый план приезжих греков, ратовавших за полное и спасительное единение русских со Вселенской церковью. Но на вершине успеха уже ощутимы были первые обжигающие порывы штормового ветра. Ведь все, что ныне превозносилось, еще совсем недавно осуждалось и осмеивалось. Авторитет патриархов, старательно собранных Никоном в Москве, решения церковных соборов и аргументация исправленных книг – все это вместе не могло разрешить сомнения, разъедавшие души православных людей.
Впрочем, большинство из них не были искусны в богословских спорах. Но зато они были восприимчивы ко всему, что звучало просто и привычно, без всяких сомнительных новшеств. Еще убедительнее было, когда об этом говорили люди гонимые. Известная оппозиционность всему официальному, впитавшаяся в кровь человека XVII века и находившая свое повсеместное выражение в едкой насмешке и «воровском» толке, превращала этих гонимых в апостолов. На беду Никона один из таких апостолов «старой веры» – Неронов – вскоре появился в Москве.
Прибыв на исправление в 1653 году в Спасо-Каменный монастырь, Неронов был встречен иноками с большим пиететом. Во время службы архимандрит ставил его выше келаря, второго лица в монашеской братии. Однако ригорист Неронов очень скоро усмотрел в обиходе монахов отсутствие должного рвения. Он тотчас принялся осуждать и поучать старцев. Результат был печален: выведенный из себя архимандрит вспомнил, в качестве кого пребывает в обители опальный протопоп. Когда-то, во времена своей молодости, Неронов в том же Вологодском уезде дерзнул обличать местного владыку, в доме которого «славили» ряженые и скоморохи. За такой проступок «начаша Иоанна бити немилостиво». Все повторилось, с той лишь разницей, что теперь архимандрит вразумлял пощечинами не юношу, а шестидесятидвухлетнего старца. Тычкам настоятеля придавало силы сознание того, что, вопреки ожиданию, за Неронова из Москвы никто не спешил вступиться. Больше того, вскоре пришло патриаршее распоряжение отправить Неронова в отдаленный Кандалакшский монастырь. Здесь его ждал еще более суровый режим. Бывшего казанского протопопа указано было держать на цепи и не давать бумаги и чернил. Никон хорошо знал, как наказывать проповедника и книжника!
Неронов не выдержал не столько сурового режима, сколько своей оторванности от событий. Его неугомонной натуре было невмочь долгое пребывание в изоляции. Ночью на маленьком баркасе с тремя спутниками он пустился в плавание под парусом, сшитым из двух рогожек. По удивительному стечению судьбы протопоп, сам того не ведая, почти дословно переписывал в свою биографию страничку из уже написанной биографии Никона – его бегство с Анзер.
Едва не утонув во время бури, беглец с трудом добрался до Кемского устья. Отсюда путь пролегал на Соловки. Затем Неронов двинулся на юг и вскоре оказался в Москве, где стал вести по-настоящему «подпольную жизнь». Павел Аллепский писал, что Неронов «менял свою одежду и перебегал с места на место» [209]209
Там же. IV. С. 123.
[Закрыть]. Попытки Никона схватить беглеца оказались безуспешными. Не столько из-за прыти «нового Ария», как назвал антиохийский патриарх говорливого старца, сколько из-за того, что ему сочувствовали и покровительствовали люди влиятельные. Неронов прятался даже у Стефана Вонифатьева. Пришлось Никону, который всегда с большим уважением относился к старцу, искать иной путь одоления Неронова. 18 марта 1656 года, после службы, Никон и Макарий отлучили протопопа с его приверженцами от церкви, и хор с духовенством трижды пропели анафему.
В ноябре 1656 года, после смерти Вонифатьева, Неронов перестал скрываться. Он явился к Никону и стал обличать его: «Что ты един ни затеваешь, то дело некрепко; по тебе иной патриарх будет, все твое дело переделывать будет: иная тебе тогда честь будет, святой владыко». Казалось бы, обличение должно было вызвать ответную реакцию. Но Никон промолчал. Чем объяснить столь несвойственное Никону поведение? В его добросердечие верится с трудом. Историки предполагают, что умирающий Вонифатьев умолял патриарха простить протопопа. Тот внял просьбе. Обличения Неронова остались без последствий, тем более что в декабре того же года Неронов принял постриг и превратился в старца Григория. Больше того, патриарх разрешил Неронову служить по-старым служебникам: «Обои-де добры, – все равно, по коим хощешь, по тем и служишь» [210]210
Мат. для Истории раскола… Т. 1. С. 147.
[Закрыть]. И если такое признание в общем-то не противоречило букве решения церковного собора начала 1654 года, то оно явно входило в столкновение с духом всего того, что позднее творил Никон.
Так в чем же дело?
Дело, по-видимому, не в одном только обещании старцу Савватию (то есть Вонифатьеву). Во взаимоотношениях патриарха и царя намечался кризис. Кризис, к которому приложит немало усилий красноречивый монах Григорий. Он, в отличие от Вонифатьева, сменив мирское имя на иноческое, остался все тем же неукротимым отцом Иоанном, вещающим истину. Острый язык Неронова продолжал извергать на Никона разоблачительные словеса. И им теперь охотно внимали.
Во-первых, потому что они исходили от уважаемого и немало претерпевшего от «злого норова» патриарха старца.
Во-вторых, потому что по-медвежьи проводимая Никоном обрядовая реформа и правка книг, затронув не только национальное, но и православное самосознание русских людей, к концу 1656 года создали сильную и обширную оппозицию патриарху.
Наконец, в-третьих, потому что если раньше внимать Неронову и его сторонникам было опасно, то ныне – нет. Для придворных не ускользнула перемена во взаимоотношениях царя и патриарха. Прежний, обжигающий всех огонь угас. Прогорали, не найдя новую пищу для огня, и угли. Похоже, лучше других это почувствовал сам Никон. Он, кстати, был очень раздражен постоянным заступничеством за Неронова. Это настроение находило свое выражение в мелочах. Когда царь попросил патриарха благословить прощенного Неронова, тот грубо обронил: «Изволь, государь, помолчать, еще не было разрешительных молитв» [211]211
Там же. С. 154.
[Закрыть].