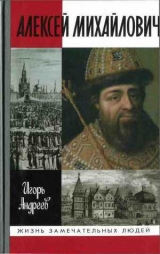
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 51 страниц)
Царский гнев в адрес провинившегося служилого человека иногда принимал очень своеобразные формы. Иногда кажется, что Тишайший попросту сомневается в том, что провинившийся испугается его. Ситуация оборачивается многословными наворотами и убийственными сравнениями. «Врагу креста Христова и новому Ахитофелу [393]393
РГАДА. Ф. 27. № 93. Л. 5.
[Закрыть], князю Григорию Ромодановскому, – обрушивается Тишайший на воеводу, осмелившегося ослушаться его указа. – Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанинскую службу… Якоже Июда продал Христа на хлебе, а ты Божие повеление и наш государев указ и нашу милость продал же лжею… И сам ты, треокаянной и безславной ненавистник рода христианского… и самого истинново сатаны сын и друг диаволов, впадешь в бездну преисподнюю, из нея же нихто возвращался».
Грозное послание заканчивалось уже однажды процитированными словами, в которых царь есть глашатай божественной воли. «Повелением всесильного, и великого, и бессмертного и милостивого Царя царем и Государя государем и всех всяких сил повелителя Господа нашего Иисуса писал сие письмо многогрешный царь Алексей рукою своею».
Впрочем, громы, обрушившиеся на «нового Ахитофела», не были продолжительными. Погожее солнышко быстро проглядывает на омытых гневом небесах – царь прощает Г. Ромодановского. Стоит ли удивляться, что окружение было не прочь воспользоваться снисходительностью и отходчивостью царя.
Алексей Михайлович требовал исполнять его указы быстро и еще быстрее о том доносить. Но многие и с делом не спешили, и с отписками мешкали. В конце 1658 года царь упрекал Ю. А. Долгорукого в том, что тот не писал о происходящем: «Милость Божия учинилась к тебе и нашим государевым людям такая, что от веку такая неслыхана, а к нам вести про то нет и мы от сторонних людей слушали вести добрые…» Отповедь, однако, заканчивается совершенно в духе Тишайшего – в конце грамотки царь приписал: «И тебе бы о сей грамоте не печаловатца, любячи тебе пишу, а не кручинясь» [394]394
Там же. № 305. С. 6.
[Закрыть].
Царь настойчиво внушал своим подданным, что всякая служба государю почетна. В контексте последующего развития утверждение подобного взгляда – условие перехода к абсолютистским принципам службы, поскольку деление дворянами службы на «честную» и «нечестную» оборачивалось для государства большими потерями. Однако идеал и реальность – вещи редко совпадающие. При всем своем благодушии Алексей Михайлович вполне усвоил эту печальную истину. Так что в повседневном общении с подданными он поневоле понижал планку требований. Похоже, известная снисходительность царя – порождение снисходительности к самому себе. Он хоть и писал родным, что «пребывает в службе», нередко позволял себе ради удовольствий послабление. В нем не было Петровской ярости и упорства, когда тот ни о чем не желал думать, кроме дела. Различие в личном отношении лишь подчеркивало различие эпох, в одной из которых монарх – земной наместник Бога, в другой – еще и созидатель.
Венчаясь на царство, молодой Алексей Михайлович воспринял происходящее в Успенском соборе как таинство, во время которого монарх обретает особую сущность. Но как соединить эту новообретенную сущность с греховной человеческой? Конечно, к услугам Алексея Михайловича было обширное богословское обоснование, призванное снять возникающие сомнения на этот счет. «Царь убо естеством подобен человеку, властию же подобен есть вышнему Богу», – утверждали богословские авторитеты. Однако сомнения рассеивали люди, никогда не возлагавшие на себя Мономахов венец. А как быть с помазуемыми на царство? Конечно, Алексею Михайловичу была по сердцу безапелляционная уверенность Грозного в божественном характере самодержавной власти и ее носителя. «Я народился на царстве Божьим изволением… Я взрос на государстве…» – эти слова царя Ивана Тишайший, кажется, мог повторять бесконечно. Но легко было уверовать царю Ивану, за спиной которого стояло множество поколений великих князей Московских! А каково было Алексею Михайловичу, государю во втором колене?
Алексей Михайлович постоянно чувствовал свою недостаточность. И постоянно пытался одолеть ее. Причем не только с помощью Тайного приказа и доверенных лиц, всецело послушных ему. Он постоянно искал то, что должно было укрепить его уверенность. Немалое значение для него имели примеры прошлого.
История для Тишайшего – живительный источник, к которому он припадал в моменты неуверенности и сомнений. Особенно благотворно на состояние царского духа влияла история Ивана IV. Грозный «прадед» для Алексея Михайловича – образец во всем. «Царь так увлекается чтением сочинений по истории Грозного и его войн, что наверняка захочет идти по его стопам», – мрачно пророчествовали иностранцы. Пророчество сбылось ровно наполовину. Тишайший воевал не меньше Ивана Васильевича. Однако из его войны не выросли ни опричнина, ни новая смута.
Любопытно, что внутренняя рефлексия Алексея Михайловича побудила к поиску новых аргументов, которые бы подтвердили сакральную природу царской власти. Это не значит, что старые теологические построения, уподоблявшие царя земному Богу, были забыты. Напротив, их продолжали «разрабатывать», сакрализуя личность правящего государя. Царь и царица изображаются на иконах с нимбами – символами святости. Имя царя упоминают во время службы наравне со святыми. Не все приняли нововведения. «Жива человека святым не называй», – поучал неугомонный протопоп Аввакум, по своему обыкновению точнее других формулировавший ментальные представления русских людей, вошедшие в противоречие с новациями апологетов самодержавной власти. Но на самом деле нимб вполне вписывался в православную традицию – в византийской иконографии он ведь еще и символ вечной власти, идущей от Бога. Однако Аввакуму уже во всем мерещилось отступничество от старины.
Нельзя сказать, что сакрализация личности правящего государя получила законченный характер. Однако эта незаконченность проявилась вовсе не потому, что Алексей Михайлович и его преемники вняли предупреждениям раскольников. Прямые параллели резали слух и отторгались: не случайно старший сын Тишайшего, Федор Алексеевич, запретил в челобитных сравнивать царя с Богом, усмотрев в этом кощунство. Но самое главное – наступали иные времена. Процессы обмирщения уже влияли на всю систему ценностей. Прежние сакральные основания не казались безусловно достаточными для того, чтобы поддержать престиж власти. Познающий человек апеллирует к разуму. В обращениях к власти и в законотворчестве самих правителей все настойчивее звучит тема Правды. Она, конечно же, Божественная правда, испокон веков присутствующая в писаниях книжников. Но она же и светская правда, признающая и исходящая из обыкновенного человеческого интереса. И уже Федор Алексеевич, отменяя местничество, прибегнет к чисто светским терминам: «общее добро», «общее государственное добро».
Алексей Михайлович так далеко не заходил. Но и у него уже мелькает мысль об «общем народе» и «общей пользе». А Ордин-Нащокин, отстаивая в споре с царем свою точку зрения, говорит о Правде, которая на поверку мало чем отличается от Петровской всепоглощающей «государственной пользы». И Тишайший не одергивает Ордина, а разделяет его убеждения.
Строгость, которую любил напускать на себя Алексей Михайлович, соседствовала с поступками глубоко человечными. Собственно, именно они и дали возможность В. О. Ключевскому говорить об удивительном соединении в царе «власти и кротости». В нем не было самонадеянности, доходящей до мнительности и жестокости. Царь не забывал в себе человека, а значит, не забывал о том, что его окружают люди, которые на его государевой службе огорчаются, страдают и умирают. Одна из самых привлекательных черт личности Алексея Михайловича – его отзывчивость.
Царь не проходил равнодушно мимо чужого несчастья. В этих своих порывах Тишайший был очень искренен и очень прямодушен. Кажется, что именно здесь он таков, какой есть на самом деле, – открытый православный человек, без всякой примеси, привнесенной вечной необходимостью быть на высоте сана.
История сохранила нам немало примеров царского сочувствия, из которых два самых примечательных связаны с князем Н. И. Одоевским и A. Л. Ординым-Нащокиным. Случилось так, что оба они оказались в роли безутешных отцов.
У князя Одоевского, бывшего на воеводстве в Казани, неожиданно умер старший сын, князь Михаил. Царь сам известил отца об утрате, рассказав о своих последних встречах с покойным. Письмо лишено пустой выспренности и избитости. Оно простодушно и в то же время пронизано тихим, сердечным сочувствием. Царь вспоминает о своем посещении имения Одоевских в Вишняках, о том, как хорошо и чинно принимали его сыновья боярина, не знавшие, как отблагодарить царя за редкую честь. «Да лошадью он да князь Федор (второй сын Н. И. Одоевского. – И.А.) челом ударили, и я молвил им: „По то ль я приезжал к вам, что грабить вас?“ – И он плачучи да говорил мне: „Мне-де, государь, тебя не видеть здесь; возьми-де, государь, для ради Христа, обрадуй, батюшка, и нас, нам же до века такова гостя не видать“. И я, видя их нелестное прошение и радость несуменую, взял жеребца темносера. Не лошадь дорога мне, всего лутчи их нелицемерная служба, и послушанье, и радость их ко мне…»
Царь писал, что заболел Одоевский неожиданно, что быстро и коварно болезнь одолела молодого, князя: «А болезнь та ево почала разжигать да и объявилась огневая». Умирал Михаил Никитич чуть ли не на глазах царя и смерть его в отличие от того, что писал царь про кончину патриарха Иосифа, была благой и светлой. Причастие он принял «ничево не молвия, как есть уснул; отнюдь рыдания не было, ни терзания».
Алексей Михайлович сочувствует старому боярину, потерявшему наследника: нельзя «не поскорбеть и не прослезиться», но делать это надо «в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать». Царь заканчивает свое послание простодушно и даже как-то неловко. Но за этой бесхитростной неловкостью стоит незамысловатая правда жизни, с которой Никите Ивановичу придется жить дальше, без старшего сына: «…А твоего сына Бог взял, а не враг (то есть дьявол. – И.А.) полатою придавил. Ведаешь ты и сам, Бог все на лутчие нам строит» [395]395
Переписка царя Алексея Михайловича с боярином князем Н. И. Одоевским. М., 1850. С. 200; Записки. С. 702–706; Московия и Европа. С. 507–509.
[Закрыть].
По обыкновению царь несколько раз правил письмо. Каждый новый экземпляр после таких «чернений» превращался в черновик. Дошедший до нас последний экземпляр наконец удовлетворил Алексея Михайловича и был переписан начисто. Однако в конце царь все же не удержался и приписал к утешительному посланию несколько слов: «Князь Никита Иванович! Не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надежен!» Собственноручная царская приписка многого стоила: в то время царская рука на бумаге еще не успела превратиться в норму.
Эпизод с Ординым-Нащокиным был иного свойства. В феврале 1660 года сын Нащокина Воин бежал с дипломатическими документами и казною к полякам. Афанасий Лаврентьевич был безутешен. Казалось, исполнились самые мрачные пророчества. Он потакал сыну, брал ему в учителя поляков – вот и получил «изменника», отвергшего царские милости. С точки зрения закона и нравственности поступок Воина хуже смерти. Алексей Михайлович, собравшись утешить Ордина-Нащокина (тот с горя запросился в отставку, которую Тишайший не принял), написал об этом прямо: «Тебе, думному дворянину, болше этой беды вперед уже не будет: болше этой беды на свете не бывает!»
Однако в отличие от многочисленных недругов Афанасия Лаврентьевича, для которых случившееся – повод избавиться от худородного псковского выскочки, Алексей Михайлович не Желает падения Ордина. Он ищет и находит слова сочувствия и даже… оправдания молодого Нащокина. Если вдуматься, ситуация уникальная. Царь Иван казнил «всеродно» за мнимые измены. Царь Алексей отказывается наказывать за измену явную, которую Ордин прозевал, в чем, конечно, виновен не меньше сына. Это плохо вяжется с тем, что называется самодержавием и самодержцем. Но, оказывается, бывает разное самодержавие, что и доказывает Тишайший. Царь начинает с того, что щедро рассыпает в адрес Афанасия Лаврентьевича похвалу. Он у него и «христолюбец», и «трудолюб», и «всякому делу доброму ходатай». Весь этот бальзам – для успокоения Ордина-Нащокина. Царь чтит, дорожит и ценит его. Тут же сочувствие и супруге Афанасия в ее «великой скорби и туге».
Далее в письме следуют рассуждения по поводу поступка Воина. Это, конечно, зло. Но зло без злого умысла, от «простоты» и «дурости», с исходом ясным – побегает, помается и вернется. «А тому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хощет создания Владычня и творения руку Его видеть на сем свете; якоже и птица семо и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святого Духа во святой купели, и к вам вскоре возратится!»
Слова утешения, излитые на бумагу, показались царю недостаточны. Отправив со своим письмом к Ордину подьячего Ю. Никифорова, Алексей Михайлович наказал ему еще и словесно успокоить обманутого отца. Этим, однако, дело не ограничивается: печаль – печалью, но следует задуматься о последствиях поступка Воина. Был он у отца в большом доверии и много о чем ведал. Да что отец, Алексей Михайлович также доверял изменнику, который бывал у него «тайно… не по одно время»! Царь настаивает, чтобы Ордин-Нащокин всячески «промышлял» о возвращении сына, сманивая даже деньгами: «…сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей». Если же с этим ничего не выйдет, то тогда уж можно и… извести. Последняя жестокая мера, впрочем, приемлема только с согласия Афанасия Лаврентьевича, на что тот в крайности готов был пойти. «О сыне печали у меня нет и его не жаль, а жаль дела», – объявил он в ответ, отказываясь от денег.
«Изводить» Воина не пришлось. Слова царя про возвращение перелетной птицы оказались вещими. То ли недовольный обхождением с ним на чужбине (ждал большего!), то ли в самом деле затосковав по родине, но Воин покаялся. В 1665 году он получил в Риге царскую грамоту, в которой Алексей Михайлович уведомлял его о разрешении вернуться и о прощении: «Челобитье твое приняв милостиво, прощаем и обнадеживаем целу и без навету быти. Родитель же твой, зря нашу милость, близ нас пребывают» [396]396
Московия и Европа. С. 529–532; Кошелева О. Е.Побег Воина // Казус 1996. М., 1997; Кузнецов Б.Возвращение блудного сына // Мир истории. 2001. № 4. С. 26–28.
[Закрыть].
Дело Воина дает много для характеристики Алексея Михайловича. Конечно, царь не лишен был хитрости, однако искренняя и чуткая натура «перевесила» то, что можно было признать за обыденное поведение монарха, столкнувшегося с изменой. Тут много проще было пойти по проторенному пути – найти и наказать. Тишайший выпадает из «нормы». Ему по плечу оказываются милосердные порывы.
Подчеркивая душевные качества второго Романова, не лишне напомнить, что они очень часто отрицательно сказывались на нем как на государственном деятеле. Как человек Алексей Михайлович нередко торжествовал над собою же как монархом. Благодушному и доброму царю недоставало в делах твердости. Не той, которая достигается опалами и казнями. А той, которая исходит от самой натуры, от того, как смотрит, как говорит, даже как молчит правитель. Такая твердость не была дана ему. И этому не могли помочь ни грозные филиппики, ни тычки, ни даже кулаки. В гневливости царя было так много театрального, вычурного, что это не особенно пугало тех, кто хорошо знал его. Даже иностранцы отмечали, что царь «никогда не позволяет себе увлекаться дальше пинков и тузов».
Конечно, царь еще мог произвести впечатление своим гневом на какого-нибудь полковника Волжинского, распорядившись при его назначении «пошуметь на него гораздо за то, что он ево государевых дел делать ленитца». Но близких людей, раскусивших царскую натуру, гнев Тишайшего не мог обмануть. Он как шампанское: бурно пенился, но градуса был не самого крепкого. Это не Николай I, который не часто повышал голос, но зато мог посмотреть так, что чиновники обморочно закатывали глаза и верноподданно падали на пол. В отечественной истории Алексей Михайлович со времен славянофилов так и остался невольной альтернативой своему сыну Петру Великому: какой царь лучше – суровый и великий или добрый, но не реформатор.
Постоянное возвышение души к Богу, особенно в часы молитвенного обращения, было свойственно Алексею Михайловичу. Потому и исполнение утомительных обрядов и постов никогда не было ему в тягость. В этой поистине стоической приверженности царя к обрядам проявлялись черты, свойственные московскому типу религиозности вообще. Однако из этого вовсе не следует, что царь был приверженцем формального благочестия. Как человек одухотворенный, он ратовал за преобладание внутренних, духовных мотивов. При этом внешнее, обрядовое, никогда не противопоставлялось внутреннему. Для него это просто неразделимо. Это и есть вера.
Заезжие греки были поражены знанием царя всех литургических тонкостей. Он мог поправлять во время службы священников и поучать архиереев. Но еще более поражала греков набожность государя. «Усердие москвичей к посещению церквей велико, – писал Павел Алеппский, – царь и царица ведут внутри своего дворца более совершенный образ жизни, чем святые: все время в посте и молитве… Не успели мы сесть за стол после обедни, как ударили ко всенощной… Вошли в церковь в 3 часа, а вышли в 10 часов… Мы вышли из церкви, умирая от усталости… Во время службы русские стоят, как статуи – молча, тихо, делая непрерывно земные поклоны… Они превосходят своим благочестием подвижников в пустыне» [397]397
См.: Павел Алеппский.Указ. соч. Ч. II. С. 100. Ч. III. С. 94, 119–120, 138, 194.
[Закрыть].
Это описание стоической приверженности к обряду царя и его подданных не единственное. Павел Алеппский щедро заполняет ими свои записки. «О благополучный царь, – восклицает потрясенный грек. – …Монах ты или подвижник?» И как итог, как некое пожатие плечами пред такой необъяснимой набожностью московитов: кто хочет сократить свою жизнь, пусть отправляется в далекую Россию…
В своей религиозной жизни Алексей Михайлович редко позволял себе послабления. Даже болезнь не всегда могла нарушить строгий порядок. Ежедневные молитвенные «упражнения», суровое постничество, горячее и искреннее покаяние, словом, неустанный и непрерывный душевный труд – вот что заполняет значительную часть жизни Тишайшего. Коллинз сообщал, что во время постов царь обедает всего три раза в неделю, а остальное время довольствуется куском черного хлеба с солью, соленым грибком или огурчиком и выпивает кубок легкого пива. Великим постом он ест рыбу лишь дважды и постится семь недель. Словом, ни один монах так рьяно не блюдет часы молитв, как царь – посты. «Можно считать, что он постится восемь месяцев в год» [398]398
Коллинс С.Указ. соч. С. 224.
[Закрыть].
Иногда кажется, что жизнь Алексея Михайловича текла по двум, абсолютно непохожим друг на друга руслам. Одно – линейное, как сама жизнь, от рождения до смерти; жизнь, где происходят изменения, жизнь, которая, собственно, и есть история с ее происшествиями, переменами и событиями. Другое русло – круг, где все повторяется, и каждый день в году похож на такой же в прошлом и должен быть похож на такой же в будущем. Такая жизнь течет как бы вне истории и вне времени, отчего в однообразии своем превращается почти в вечность. Да, собственно, это и есть вечность: вечность библейских сюжетов, повторяющихся в годичных циклах; вечность Православного Царства, каждый день живущего одной и той же благочестивой жизнью прежних, настоящих и будущих времен.
Для современного читателя подобное существование может показаться монотонным и маловразумительным. Но для Алексея Михайловича и его современников в нем как раз и заключалась истинная жизнь, полная божественного смысла, аллегорий и символов. Жизнь, где небесное, горнее признавалось несравнимо выше земного, тленного. Жизнь как приуготовление к жизни вечной, как шанс на спасение, где каждый спасается, исполняя ему предначертанное. Именно так смотрел на церковные церемонии царь Алексей.
Но это лишь одна сторона дела. Существовала и другая, не менее актуальная для нашего героя. Обожествление царской власти было неразрывно связано с идеей священного характера самого Православного царства. Вписываясь в общую религиозную систему, царский сан становился особой формой церковного служения. Вот отчего чин и порядок приобретали здесь столь важное значение: ведь в противном случае нарушалось не просто действие, а почти священослужение!
Неудивительно, что Алексей Михайлович, человек долга и живой веры, смотрел на свое участие в церковных и придворных церемониях как на нечто, предначертанное ему свыше, по долгу царскому и христианскому. Своим явленнымблагочестием он спасался сам и спасал свое царство. Это было прямоецарское служение, не менее важное, чем обережение границ или справедливый суд.
Понятно, что при таком понимании придворный и церковный церемониал приобретал системообразующее значение. Каждым жестом и словом он объединял и расставлял людей согласно их «чину», подтверждал существующий порядок и традиционные ценности. И чем слабее оказывались позиции последних, тем сильнее проявлялась приверженность первых Романовых к церемониалу и этикету. Неизменный церемониал – это как сохраненный текст, отраженный зеркально. Его невозможно прочесть. Зато его содержание угадывается с одного взгляда. Угадавшись же, наделяется «священным смыслом», отчего любая попытка изменить этикет и церемониал воспринимается как покушение на устои.
Церемониал весь проникнут символами и образами-действиями. Его сила – в эмоциональном воздействии. Но это не просто эмоции. За эмоциями стоит смысл, или, точнее, они соединяются, срастаются со смыслом. В отличие от потомков участники церемоний легко «прочитывали» происходящее. Каждая перемена в слове и жесте, в порядке и направлении движения, в одеянии и его цвете, в количестве участников и их расположении, словом, во всем, из чего складывалась церемония, имела для них смысл и значение. Все маркировано, все символично и оттого «говорливо». Хотя очень часто сам «разговор» был лишен слов. Оттого все предельно выразительно и эмоционально запоминаемо.
Алексей Михайлович – непременный участник главнейших церковных церемоний и праздников. Именно он придавал им особый блеск и торжественность, являясь, по меткому определению В. О. Ключевского, перед народом земным богом в «неземном величии» [399]399
См.: Ключевский В. О.Петр Великий среди своих сотрудников. В кн.: Сочинения в девяти томах. М., 1990. Т. 8. С. 377.
[Закрыть]. В этом благочестивый царь старался, по-видимому, следовать примеру византийских и московских государей. Однако сохранность отечественных источников такова, что в большинстве случаев именно по описанию церковных торжеств и служб с участием Алексея Михайловича историки могут воссоздать церемониал московского двора и предположить, как он происходил в более ранние времена.
Но надо признать, что едва ли такая «реставрация» будет точной. Колоссальное духовное напряжение, ставшее отличительной чертой века, побуждало царя и его приближенных осмысливать все свои усилия как устроение Москвы – «Нового Иерусалима», символа присутствия и благословения Божьего, куда «спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою» [400]400
Откр. 21: 2, 23–24.
[Закрыть]. Такое понимание обязывало во всем соответствовать мессианской предназначенности. Эта и была, условно говоря, «генеральная идея», пронизывающая идеологию Царства и ее церемониальное и обрядовое оформление. В своем реальном исполнении сама идея тотчас обрастала дополнительными «сюжетами», требующими незамедлительного ответа в силу их злободневности. Так, весь опыт Смуты побуждал Романовых с особым рвением подчеркивать священный характер царской власти и богоизбранность новой династии. События середины века актуализировали мысль о православном государе как едином и справедливом представителе Божественной власти в православном государстве. Именно поэтому в правление Алексея Михайловича придворные и церковные церемонии получили наиболее полное выражение, свидетельствуя, с одной стороны, о благочестии и смирении Московских государей, верных сынов церкви, с другой – о недосягаемой высоте царского сана, столь полно воплощенной в торжественном шествии Царя Земного к Царю Небесному. Последнее имело даже явную тенденцию к преобладанию: московский государь все более представал перед подданными в роли защитника и покровителя церкви, единого священного представителя Божественной власти, потеснившего даже патриарха. Одним словом, отталкиваясь от прошлого, церемониал XVII века, несомненно, приобретал новые черты и краски. Однако далеко не всегда можно определить, где все же поверх поблекших красок легли новые мазки…
Для самого Алексея Михайловича церемония – одно из самых ярких воплощений столь почитаемого им порядка и чина. Документы не позволяют во всей полноте воссоздать его деятельность в этой области. Но даже те фрагменты, которые сохранились, дают основания говорить, что вопросы «устроения» церемониала горячо волновали царя. Он буквально упивался посольскими встречами, выходами, крестными ходами, церковными службами. И если царское служение обязывало его подавать пример величия и благочестия, то, по убеждению Алексея Михайловича, это должно было быть сделано выразительно, торжественно и поучительно. Потому царь вмешивался в ход церемоний, составлял речи, распределял роли и даже занимался их «оформлением». Во всем этом легко уловить пристрастия и вкусы Тишайшего, его тяготение к чрезмерной пышности и великолепию. Стиль второго Романова – это очень державный, очень многословный и тяжеловесный стиль, в котором казатьсявсегда преобладает над быть.
Правление Алексея Михайловича стало временем расцвета придворного и церковного церемониала Московского царства. Со смертью Тишайшего все клонится к закату, утрачивает прежнюю монументальность и знаковый смысл. Наследники Алексея Михайловича реже участвуют в торжествах. С отсутствием же в церемонии монарха все блекнет и теряет высокое звучание. Оказывается, что в отличие от патриарха, место которого мог занять местоблюститель патриаршего престола, царя заменить некем, и это обстоятельство обернулось для старомосковского придворного и церковного церемониала утратой невосполнимой.
Произошло это, конечно, не сразу. Царь Федор еще пытался поддержать дух прежнего царствования. Кое в чем он даже превзошел отца. Но на большее не хватило ни физических сил, ни отпущенного времени жизни. Младший, Петр, пока не оперился и не научился поступать по-своему, участвовал в отдельных церемониях и торжественных царских выходах. Но очень скоро стало ясно, что он предпочитает шествию на осляти триумфальное прохождение с войском по улицам Москвы. Пьяный гомон Всешутейшего собора и огни фейерверков быстро заменили ему разноцветье брошенных под ноги кафтанов и возгласов «Осанна». Восторжествовал иной тип культуры, иная модель взаимоотношений с церковью, иной, убийственный для прошлого, стиль публичного времяпрепровождения. Возможно, не потеряй так рано Петр отца, все могло пойти по другому сценарию. Но будущий преобразователь не успел напитаться благочестивым примером. Наставление же словом, да еще словом для него неавторитетным, не царским и не отцовским, оказалось совершенно бесполезным. Петр вырос духовно чуждым к тому, к чему так был привержен Алексей Михайлович.
Следует различать церемонии церковные и придворные. Одно из главных различий между ними – в сценарии. Придворные церемонии строились по принципу постепенного и последовательного иерархического приближения к государю – высшему земному совершенству, а затем движения вниз, по нисходящей, от царя к подданным, внимающим монаршую волю. Показательнее всего в этом отношении посольские аудиенции: первая, вторая, третья встреча, причем чем ближе к государю, тем знатнее и выше встречающие, богаче и великолепнее их окружение. Апофеоз – встреча с Алексеем Михайловичем, приветственные речи и подношение посольских даров. Царь, как солнце, в ответ одаривал теплом – приветливым словом, или, напротив, прятался за тучу – оставался холоден и сдержан. Церемониал предусматривал множество способов проявления этого волеизлияния: от обстановки на встрече до подарков и числа блюд, посланных с государева стола послам и их свите.
Сценарий церковных празднеств имел свои особенности. В них Тишайший принужден был несколько потесниться: рядом с ним появлялись новые «герои». Царь возносил молитвы к Богу, Богоматери, святым. В шествии участвовали патриарх, духовенство. Царь выступал в роли послушного сына церкви, наглядно выстраивая в отношениях с патриархом то, что называется «симфонией властей».
Существовали «обыкновенные» царские выходы к обедне и богомольные выходы в праздничные дни. Вне зависимости от их значения царя всегда сопровождали придворные. Выходы Алексей Михайлович чаще всего совершал пешком. Иногда, в непогоду или зимою, ему подавали карету, сани, на которых он мог вернуться во дворец по окончании церемонии или добраться до места праздника, если он происходил далеко от дворца. Впрочем, в официальной терминологии царь все равно не ехал – «шел саньми».
Участие царя в церковных праздниках и в придворных церемониях придавало им высокий смысл. Мелочей не было. Если царь принимает шествие в крестном ходе, то «благовест в Ревут», нет – «ино в Лебед» [401]401
Голубцов А. П.Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона. М., 1908. С. 161. «Ревун» и «Лебедь» – названия двух колоколов на колокольне Ивана Великого.
[Закрыть]. Уже само облачение Алексея Михайловича и число смен платья свидетельствовали о «ранге события». На целый ряд праздников – Новолетие, Богоявление, Воскресение Христово, Троицын день, в день Входа Господня во Иерусалим – Тишайший представал перед своими подданными в Большом наряде. Для подданных, получавших возможность увидеть Алексея Михайловича во всем великолепии и блеске царского наряда, это и было, собственно, лицезрение Царя Земного.
Иногда Алексей Михайлович облачался в Большой наряд в самой церкви. Тогда это было уже не просто облачение, а возложение царского сана, напоминание о сакральной природе власти государя, обретенной под церковными сводами в день венчания. Снятие же знаков царской власти по окончании службы – поучительная демонстрация кротости и смирения. Второй Романов, проникнутый чувством благоговения, всенародно покидал храм, умерив свой блеск и величие. Наконец, само шествие с патриархом, властями, духовенством, «честными крестами», мощами и святыми иконами, в сопровождении придворных – все это зримо и осязаемо соединяло в одно целое атрибуты царской власти с атрибутами священного происхождения.
Пытаясь типологизировать царские выходы, историки еще в XIX веке разделили каждый из них на три части. Самая торжественная и великолепная – первая – шествие царя из дворца в церковь. Вторая часть – пребывание в самой церкви, где кроткий царь земной смиренно склонял голову пред Царем Небесным. Заключительная часть – торжественное, но часто уже лишенное прежнего величия возвращение во дворец. Примечательно, что этот сценарий был отличен от византийского. Василевсы не были склонны поступаться даже пред Богом, не говоря уже о византийском духовенстве, занимавшем в их шествиях куда более скромное положение в сравнении с московским [402]402
Марковин Н.Богомольные выходы древних русских царей по сравнению с такими же выходами Византийских императоров // Христианские древности (Приложение к журналу «Русские древности»). 1872. Т. 1. С. 18.
[Закрыть].








