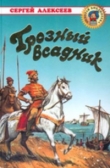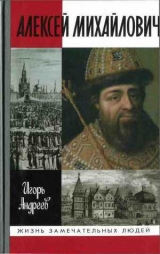
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 51 страниц)
Летом следующего года многочисленное войско Ибрагим-паши с присоединившимся к нему ханом вновь появилось на Украине. У Яна Собеского было слишком мало сил, чтобы успешно противостоять грозному противнику. Подо Львовом он сумел поразить неосторожно приблизившихся к нему крымцев. Но этим все и ограничилось.
Правда, была еще одна возможность противостоять туркам – соединиться с царскими войсками, тем более что Андрусовские статьи предусматривали такой союз. Была даже достигнута договоренность, что на случай прихода султана Самойлович и Ромодановский должны идти на соединение с поляками. Однако взаимное недоверие было столь сильно, что одна только мысль о союзе вызывала активный протест. Первыми воспротивились казаки: они объявили, что поляки о соединении просят «лукавым сердцем», поскольку ведут за спиной Москвы переговоры в Константинополе. Стороны в самом деле интриговали и искали сепаратные варианты разрешения конфликта с Турцией. Да и само осознание общности интересов меркло перед привычной враждебностью, благо и поводов для нее было предостаточно. Неудивительно, что, когда турки и крымцы возобновили активные военные действия против Речи Посполитой, царь вместо посылки полков ограничился сочувствием и вылазками против татар и Дорошенко. Особенно громкой оказалась посылка запорожцев, донских казаков и стрельцов под Перекоп. Соединенный отряд, предводительствуемый Серко, стольником Леоновым и атаманом Фролом Минаевым, вторгся сухопутьем в Крым, вызвав настоящую панику и захватив богатую добычу.
В 1676 году Ян Собеский заключил в Журавне мир с Турцией. Речь Посполитая получала долгожданную и очень дорогую передышку. Москва, напротив, такой передышки лишалась: отныне не оставалось сомнений, куда нанесет Турция следующий удар.
К этому времени сошел со сцены Петр Дорошенко. Он уходил, окруженный всеобщей ненавистью за союз с ханом и султаном, печальные последствия которого были воочию перед уцелевшими. Правобережье лежало в пепелище, опустошенное, разграбленное. От Дорошенко отступились казаки. Его проклинали крестьяне и горожане.
Теснимый Самойловичем и Ромодановским, гетман решился присягнуть Алексею Михайловичу. Для этого он даже призвал в конце 1675 года Серко в Чигирин. Но Москва слишком натерпелась от изолгавшегося Дорошенко, чтобы удовлетвориться подобной клятвой. От правобережного гетмана потребовали поездки в Батурин, к Самойловичу и Ромодановскому, и присяги по всем правилам. Дорошенко сильно опасался Самойловича и поэтому предпочел заручиться гарантиями в самой Москве. Именно сюда, для оправдания и объяснения, направились его посланцы. Заканчивалась долгая эпопея с Петром Дорофеевичем уже при сыне Алексея Михайловича, царе Федоре. Дорошенко сложил гетманскую булаву и был оставлен под строгим доглядом в Москве. Самойлович избавился от грозного соперника. Однако едва ли он полностью был удовлетворен таким избавлением. Дорошенко держали, как туза в рукаве, – на всякий случай…
Завершалось царствование Тишайшего подготовкой к войне против Турции. Алексей Михайлович страшился ее и одновременно упорно шел к ней. Связано это было не только с тем, что на берегах Днепра, в Подолии и Галиции пересеклись и столкнулись интересы Речи Посполитой, Порты и Русского государства. Царем, как уже отмечалось, двигала идея: он мыслил себя освободителем православных, создателем Вселенского православного царства.
В декабре 1675 года был разработан план похода русских войск в Крым. По масштабам планируемое вторжение ничем не уступало более поздним походам В. В. Голицына – под знамена Г. Ромодановского и И. Самойловича весной 1676 года должно было собраться 100-тысячное войско. Но смерть Алексея Михайловича разрушила эти намерения. Поход, а с ним и война были отложены. Тем не менее можно говорить, что последние годы правления Алексея Михайловича открыли целую эпоху во внешней политике России – эпоху бесконечных Русско-турецких войн, когда страна двинулась к югу.
Последние годы
XVII столетие – это все еще культ старины, которая по-прежнему почиталась, ибо она священна сама по себе, от рождения, своим восхождением к старине библейской. Но при этом обычай уже утрачивал свое обаяние, а привычная колея общественного поведения не прельщала новые поколения. Они норовили соскользнуть на иной, неведомый путь и, подобно герою из популярной в то время повести «О Горе и Злосчастии», вкусить запретные плоды жизни. В самой повести герой в конце концов оказывался на краю гибели и лишь монастырские стены, не высотой своей, а благочестием иноков спасали его от горя-злосчастия – дьявола-искусителя. Но то – скорее мечтания, чем действительность, назидательное воздыхание по поводу утраты прежнего образа жизни, которому не устоять под напором нового, греховного.
Перемены ощущались и в самой повседневности. Толпы пленных поляков и литовцев в свою очередь «пленяли» русскую знать манерами шляхетского «политеса». Польское влияние уже при Алексее Михайловиче заметно на общественных нравах, интересах и вкусах, а при его первых преемниках оно обратилось уже в настоящее бедствие. Не случайно чуткие ко всяким новшествам ортодоксы увидят в этом еще одно несомненное доказательство отступления от святорусской старины.
В монолите культуры обиходной, по самой своей основе тяготеющей к постоянству и устойчивости, появились многочисленные трещины. В толпе московского дворянства уже мелькают царедворцы, одетые и подстриженные на польский манер. Это – мода и одновременно вызов, перемена знаковая. Не случайно русские архиереи осуждали и запрещали покушение на бороду, которое приравнивалось почти к святотатству. Но мы знаем, что запреты не особенно помогали – при царе Алексее ножницы уже оттачивали, при Федоре ими стригли, при Петре возвели брадобритие в ранг государственной политики, в символ перемен.
Перемены проникают в быт. В царских и боярских теремах рядом со старинными скамьями и лавками появляются кресла и стулья. Кое-где на стенах мерцают настоящие зеркала, которые вешают очень часто, как киоты, – по углам. В 1659 году Алексей Михайлович усаживается на новый трон, сделанный на польский манер с польскими надписями. Почитается комфорт, приветствуются заботы вполне земные. Прежний аскетический тип жизни, который ставился в образец, вдруг тускнеет и блекнет. Он утрачивает монополию идеала.
Душеспасительное чтение, когда книгу «вкушают», уживается отныне с чтением утилитарным, удовлетворяющим вкусам низменным и потребностям светским. Книга уже источник не только душевного просветления, но и простого знания, «внешней мудрости»; книга становится развлечением, предметом досуга. Житийная и богословская литература соседствуют с сюжетными мирскими, авантюрными, историческими произведениями, в которых и не разглядеть того «благодатного закона, чтобы очистить душу от греха».
Продукция Печатного двора не залеживается. Но не сдает свои позиции и рукописная книга. Она быстрее откликается на спрос, отзывчивее к читательскому вкусу. Рукописные сборники составляются по запросам и наклонностям высших и средних слоев населения, играя своеобразную роль нынешних «толстых журналов».
Литература, своя и переводная, школа, пока только своя, в своем развитии уже вошли в столкновение с исключительно церковным характером древнерусской образованности. И так во всем и всюду: в домашней обстановке и в быту, в учении и искусстве, в культуре событийной и обиходной мы видим новации, связанные с западным влиянием, перенятые, переосмысленные (или, напротив, отторгнутые) на отеческой основе. В конечном счете под воздействием начавшихся процессов секуляризации сознания зашаталась и затрещала вся прежняя система православных ценностей и стала выстраиваться система новая. В духовном плане это и было одним из самых важных завоеваний века.
Старое и новое раскалывало не только сам век, но и человека, живущего в нем. Это сочетание порой оборачивалось настоящей жизненной драмой, приводило к крайностям и порождало такие яркие типы, как протопоп Аввакум или боярыня Морозова. Впрочем, для общества был, по-видимому, характерен другой тип, который воплотил в себе царь Алексей Михайлович. Это был тип переходный; по образному определению В. О. Ключевского, «в этом лице (в лице Алексея Михайловича. – И.А.) отразился первый момент преобразовательного движения, когда вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующее. Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении» [473]473
Ключевский В. О.Указ. соч. С. 300–301.
[Закрыть].
Действительно, начинал свое царствование второй Романов вполне традиционно. Примыкая к ревнителям, он поддерживал их стремление к оцерковлению всего быта и склада русской жизни, наведению духовного «порядка» в обществе. Атмосфера же конца правления Тишайшего во многом была иной. Разумеется, царь по-прежнему оставался глубоко верующим человеком. Но век утрачивал свойственную средневековой культуре и сознанию монолитность, и с этой утратой менялись сами люди.
Алексей Михайлович – не исключение. Со второй половины XVII столетия все Московское государство медленно стало сворачивать на путь европеизации. Было бы неправильно считать, что современники не замечали происходящих перемен. Но в сознании того же Тишайшего новшества воспринимались и трактовались как дальнейшее развитие традиций, как верность принципам. Потому и нападки сторонников старины воспринимались как оскорбление, бунт, невежество. Да и происходило все крайне медленно: старого было много больше, чем нового, а само новое, укореняясь, исподволь меняло форму, отчего не резало слух и не бросало в жар. Конечно, для традиционалистов вся эта «прельщающая пестрота» была совершенно неприемлема и оскорбительна. Там, где новаторы наслаждались «дивным узорочьем» и красотой, они видели отступление и отступничество. Для них это не развитие – погибель, крушение святорусской старины.
Новшества по-разному входили в жизнь царя. Чаще всего – как увлечения, которым он предавался всем сердцем. К таким увлечениям последних лет жизни Тишайшего по праву можно отнести придворный театр.
Впервые Алексей Михайлович попытался создать театр еще в 60-е годы. Позднее Я. Рентенфельс уверял, что новому увлечению царь обязан иностранным послам, от которых он узнал, что «перед европейскими государями часто дают театральные представления с хорами и иные развлечения ради препровождения времени и рассеяния скуки», и «как-то неожиданно приказал представить ему образчик сего» [474]474
Рентенфельс Я.Указ. соч. С. 301.
[Закрыть]. Однако трудно представить, чтобы во время официальной церемонии послы осмелились вести разговор о театральных представлениях. Скорее всего, первые сведения о сценических «потехах» царь получил из посольских отчетов собственных дипломатов. Так, вернувшийся от тосканского герцога Фердинанда (1659) посланник В. Б. Лихачев в следующих выражениях описывал увиденное: представление было устроено в палате «в шесть перемен (интересен термин из «обеденного» церемониала, к которому вынужден был прибегнуть Лихачев за отсутствием в древнерусском языке понятия действие. – И.А.); да в тех же палатах объявилося море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди… Да спущался с неба сед человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамачки под каретами как есть живы, ногами подрягивают… А в иной перемене объявилось человек пятьдесят в латах и почали саблями и шпагами рубитися и ис пищалей стреляти и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса и танцуют, и многие диковинки делали…» [475]475
См.: Гуревич Л. Я.История русского театрального быта. Т. 1. М.; Л., 1939. С. 7.
[Закрыть].
Памятуя о любознательности Тишайшего, не приходится сомневаться, что подобные сообщения должны были живо интересовать его. Однако в 60-е годы обзавестись собственным театром не удалось – многочисленные заботы, обрушившиеся на Алексея Михайловича, на время погребли всю затею.
К мысли о «комедийных потехах» вернулись только в 1672 году, возможно, потому, что Алексею Михайловичу очень захотелось потешить свою молодую супругу Наталью Кирилловну Нарышкину. Организация театра легла на плечи А. С. Матвеева, который как никто другой подходил для новой затеи и по своей должности начальника Посольского приказа, и по горячему интересу ко всему необычному. В мае 1672 года полковнику Николаю фон Стадену приказано было ехать к курляндскому герцогу и приискать среди прочих мастеров двух человек, «которые б умели всякие комедии строить». В случае неудачи следовало привести «режиссера» из Швеции или Пруссии [476]476
Богоявленский С. К.Московский театр при царях Алексее и Петре. М., 1914. С. 1.
[Закрыть].
Поиски фон Стадена закончились неудачей: нужные люди не были сысканы, так что поневоле пришлось обратиться к «своим» иноземцам. Было названо имя протестантского пастора Иоанна Готфрида Грегори, которому предстояло выступить в роли сочинителя и постановщика пьес. Это вовсе не обрадовало пастора, но деваться было некуда. По словам очевидца и помощника Грегори, саксонца Л. Рингубера, желание царя «забавляться комедией» для всех равнялось закону [477]477
См.: Брикнер А.Лаврентий Рингубер // ЖМНП. 1884, февраль.
[Закрыть]. Грегори приказали «учинити комедию, а на комедии действовати из Библии Клигу Есфирь». Так появилось знаменитое «Артаксерксово действо» – переводная немецкая пьеса [478]478
Едва ли пьеса могла иметь такой успех, если бы она звучала со сцены на немецком языке. Большинство историков считают, что она была поставлена на русском языке. См.: Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра XVII в. М.; Л., 1957. С. 71. А. Н. Робинсон предлагает несколько более осторожное определение: в пьесе преобладали «элементы живого русского языка». Связано это с тем, что Грегори принужден был подстраиваться под сознание зрителей и существенно перерабатывать текст. См.: Робинсон А. Н.Борьба идей в русской литературе XVII века. М., 1974. С. 118, 122.
[Закрыть], ставшая в истории русского театра первой.
Вместо профессиональных «комедиантов» на сцене стали играть «иноземцывы дети» из школы пастора {3} , а в последующем – жители Новомещанских и иных московских слобод. Если вдуматься, это вполне закономерно. Иностранная труппа с ее чисто светским репертуаром, привычкой играть «вольно… пред всякими людьми», едва ли могла подойти царскому двору. К этому была просто не готова публика. Причем дело не только в языковом барьере. «Потеха» адресовалась великому государю и изначально соотносилась с его знаниями и вкусами. А вкусы эти были достаточно консервативны и могли «переварить» пьесу лишь на сюжет религиозный, отвечающий идейным и эстетическим привязанностям Алексея Михайловича. Да и понималась «потеха» прежде всего как служба, то есть в рамках, привычных для общения подданных с государем: актеров при необходимости заставляли разучивать роли «денно и нощно за караулом»; темы пьес определяли государевым указом; наконец, сама постановка должна была смахивать на некую, привычную русскому человеку смесь из церковной службы и придворного церемониала. Сомнительно, чтобы приезжая труппа сумела бы соответствовать всем этим непривычным для нее требованиям. Здесь надо было начинать с чистого листа, заново диктуя свои правила игры.
Премьера состоялась 17 октября 1672 года. Первыми зрителями «Артаксерксова действа» были Алексей Михайлович, придворные, царица и царевны – дочери и сестры Тишайшего. Последние, впрочем, следили за происходящим на сцене из-за особой решетки, которая заслоняла их от взглядов придворных. Конечно, лучшего символа положения женщины в переходную эпоху трудно придумать: новому внимали, сидя в… клетке, прутья которой, впрочем, были уже надломлены!
Несмотря на всем известный библейский сюжет, зрители испытывали определенные трудности: условность театра сталкивалась с привычным, сакральным восприятием библейского текста. Происходящее на сцене казалось не иллюзией жизни, а самой жизнью, явственно воскресшим прошлым. Грегори пришлось прибегнуть даже к обширному предисловию, чтобы подготовить зал, разъяснить условность связи прошлого с настоящим. Пьеса имела ощутимый нравоучительный подтекст, и зрители должны были лишний раз убедиться, «како гордость сокрушается и смирение венец приемлет». Для Алексея Михайловича, который всю свою жизнь осуждал «гордость» своих подданных, эта мысль была по сердцу, и он, несомненно, горячо аплодировал бы ей, если бы был знаком с подобным способом поощрения актеров.
Были в пьесе вещи совершенно необычайные и непривычные. Ряженый царь Артаксеркс воспылал любовью к гордой красавице Астини. Зрители увидели все перипетии его любовных переживаний. Царь требовал, чтобы спальники привели царицу: «Аз ее желаю, ее, взирая, лобзати»; оставшись же в одиночестве после ее изгнания, он мучается: «Аз ныне в едине на вдовем одре лежу, чрез всю долгую нощь, не обретаю же покоя, услаждения, ниже любви». Затем любвеобильное сердце Артаксеркса открылось для Эсфири. Это была уже чисто мирская любовь, осуждаемая в прежней литературе, а теперь вынесенная на зрительский суд.
Замечательно, что в пьесах, поставленных для царя и его окружения, утверждались взгляды новые, непривычные. Актеры декламировали со сцены:
Наконец-то настал тот желанный день,
Когда и нам можно послужить тебе,
Великий государь, и потешить тебя!
Для современников само сочетание высокого «послужить» с низменным «потешить» резало слух. Но вот они, перемены, затронувшие святая святых, государеву службу: отныне она раздвигала свои рамки, побуждая подданных усваивать новый, абсолютистский смысл. Театр вслед за царем провозглашал, что всякая служба почетна, лишь бы была службой государю. Жизнь показала, что без такого взгляда трудно было бы одеть природного дворянина, с презрением взиравшего на приказных, в партикулярное или иное какое, не военного образца, платье. Новое зрелище таким образом изначально не отрывалось от нужд государственных и было призвано укреплять царскую власть.
Первая пьеса открывалась славлением Тишайшего:
О, великий государь, пред ним же христианство припадает,
Великий же и княже, иже выю гордого варвара попирает!
От силы бо твоего скипетра все страны севера, востока и запада
Трепещут и смиренно твоему державству себя повинуют.
Ты самодержец, государь, и обладатель россов,
Еликих солнце весть, великих, малых и белых,
Повелитель и государь Алексей Михайлович!
Пьеса, не прерываясь, продолжалась десять часов. В этом она более походила на привычную церковную службу с той разницей, что царь не стоял, а сидел. Происходящее на сцене уместно сравнить с любительской постановкой, в которой главные действующие лица – «неискусстные и несмысленные» актеры-«отрочата». Тем не менее «комедия» имела успех. Фридрих Госенс, единственный взрослый среди актеров, был возведен за исполнение роли царя Артаксеркса в чин… прапорщика. Утвержденная Алексеем Михайловичем мера поощрения также отражала взгляд на новую забаву как на разновидность службы государю.
Следом за первой пьесой появились другие – «Иудифь», «Жалостная комедия об Адаме и Еве», «Иосиф». Преемник умершего пастора Грегори Гивнер поставил «Темир-Аксаково действо» («Повесть о Баязете и Тамерлане»). Стефан Чижинский, преподаватель Киево-Братской духовной школы, сочинил комедию «Давид и Голиаф». С придворным театром оказались связаны две пьесы Симеона Полоцкого. Правда, сведения об их постановке отсутствуют. Но тексты с правкой автора сохранились.
Все пьесы имели общие черты, продиктованные уровнем зрителя, – библейский сюжет, незамысловатая фабула, подчеркнутый пафос и грубая шутка, оформленная «словесным озорством». Во всех пьесах авторы и актеры не уставали восхвалять Алексея Михайловича. Царь – Бог земной («О, царь вселенныя, ты Бог еси земный»); царь – «столп мудрости»; он строг и милостив – гордость сокрушает и смирение поощряет. Верный себе Симеон Полоцкий привнес в театр немалую толику назидательности. Его драматургия носила учительный характер: взывала к зрителю, включая и самого важного из них – государя; стремилась исправить настоящее, дать некий образец для него.
Кроме пьес, Алексей Михайлович увидел балет «Орфей» – переработку виттенбергского балета «Орфей и Эвридика». Как уже упоминалось, он вызвал немалые сомнения у благочестивого Тишайшего. Впрочем, несмотря на отдельные шероховатости, новая забава доставляла Алексею Михайловичу огромное удовольствие. Театр, как диковинная игрушка, увлек и захватил его. При этом Тишайший оставался верен себе. Дни и место представлений часто зависели от царского настроения и каприза. Захотел царь «потешить» себя или семью – тотчас объявлялось представление. За год для «комедий» отвели и отстроили три помещения – палаты в доме покойного И. Д. Милославского и в Аптекарском приказе, а также хоромину в Преображенском (на нее пошло 542 бревна, каждое в четыре сажени длиной). Декорации кочевали по этим помещениям, точно цыганский табор. Причем случалось так, что следовало перевезти их и установить на новом месте за один день. Такая поспешность оборачивалась порчей декораций, но разве подобная мелочь могла помешать стремлению услужить государю? [479]479
Богоявленский С. К.Указ. соч. С. 30–31; Робинсон А. Н.Указ. соч. С. 120.
[Закрыть]
Разнообразнее становились формы поощрения актерского рвения. На Масленой неделе 1673 года актеры, сыгравшие в новой пьесе «Иудифь», были допущены к руке Тишайшего. Это было столь необычно, что подьячие поспешили особо отметить происшедшее: «А наперед сего из Посольского приказу пасторы и иноземческие дети великого государя у руки не бывали». В оговорке подьячих – вся мера восторга Алексея Михайловича. Ведь он допустил к руке служителей «лютого» Лютера.
Со смертью Алексея Михайловича «потешная хоромина» быстро пришла в запустение. «Комедии минулись», труппа распалась, а главный устроитель зрелищ, боярин Матвеев, отправился в ссылку. Но едва ли кто-то осмелится утверждать, что театр царя Алексея остался пустоцветом.
Атмосфера последних лет царствования Алексея Михайловича может быть определена как предреформенная. Изменения касались главным образом верхов страны, политической и интеллектуальной элиты – прослойки немногочисленной, но чрезвычайно влиятельной, – ведь именно в этой среде формировался и реализовывался правительственный курс. Было бы ошибочно преувеличивать глубину и темпы преобразовательного движения. Но несомненны два результата, превращавшие правление второго Романова в стартовую площадку для грядущих перемен.
Во-первых, элита постепенно свыкалась с мыслью, что новое, пришедшее с Запада, совсем необязательно ведет к погибели. Возможные перемены перестали вызывать отторжение и страх. Или, по крайней мере, дополнились чувством любопытства и стремлением заглянуть в будущее.
Во-вторых, стали обсуждать возможные варианты перемен. В конце 60-х годов в Москве сложились две враждебные партии. Грекофильская, старомосковская, во главе которой оказался монах Епифаний Славинецкий, и западническая, возглавляемая Симеоном Полоцким. Представители киевской учености – оба были выпускниками Киево-Могилянской академии, – они тем не менее принадлежали к двум разным поколениям, которых разделяли не только годы, но и культурная ориентация. Епифаний, при всей своей учености и знании языков, православно-традиционен. Симеон Полоцкий закончил школу уже после того, как митрополит Петр Могила придал ей выраженную латинскую окраску, и потому не чурался католической культуры. Он – латинист и полонофил.
Латинствующие уже не страшились привнести в придворный обиход новые ценности, усвоенные и перенятые на Западе. Полоцкий, завоевав себе звание первого поэта, прививал двору вкус к польской культуре и знакомил верхи с культурой барокко. Первый общеевропейский стиль, появившийся на Руси, был усвоен достаточно быстро, поскольку многие старые ценности были созвучны барочным. И прежде всего идея Бога как первопричины и цели земного существования. Но барокко, возрождая идеалы Средневековья, не разрывало с традициями эпохи Возрождения. И именно эта сторона пересаженного на русскую почву стиля позволила ему выполнить здесь еще одну, пропущенную в культурном развитии страны функцию – ренессанса. Русская культура при Алексее Михайловиче открывала для себя человека.В том смысле, что человек этот стал ей интересен сам по себе, как личность. К личности адресует свои назидательные силлабические вирши Полоцкий; личность вглядывается в нас с картин «парсунного письма» – еще не портретов, но уже и не икон; она страдает, взывает к помощи и горько смеется в безымянных сатирических произведениях «бунташного столетия».
Примечательно, что для раскольников равно плохи и Епифаний, и Симеон. «Блюдитеся, правовернии, злых делателей: овчеобразные волки Симеон и Епифаний», – ярится протопоп Аввакум, который не принимает ни греческого, ни тем более латинского направления – для него и то и другое опасно и чуждо.
Полоцкий объявился в Москве почти одновременно с Аввакумом. Последний только что приехал из сибирской ссылки; первый принужден был оставить Полоцк. При удивительном умении приспособиться Симеон понимал, что приветственные вирши – «метры», когда-то им сочиненные и оглашенные перед Алексеем Михайловичем, не будут забыты вернувшимися литовскими властями. В поисках спасения и удачи он удалился в Москву. Он приехал сюда учительствовать. Но не в том высоком смысле, как это делали ревнители – это именно школьное учительство. Потому Полоцкий поначалу скромен и невзыскателен – прожить бы как-нибудь. Аввакум, напротив, весь в нетерпении и ожидании. Он прибыл «взыскать» с царя старое «благочестие» и ощущает себя почти пророком. «Яко ангела Божия прияша мя государь и бояря, – все мне рады», – вспоминал он в «Житии».
Это совпадение не осталось незамеченным для самих героев. Позднее Аввакум примется иронизировать по поводу искательства «Семенки-чернеца». Сам-то протопоп, которого прочили в царские духовники и перед которым ломали шапки, напротив, покровительства не искал и на искушение – отступиться от древнего русского благочестия и за то возвыситься – не поддался. Итог известен: для Аввакума вскоре начался новый круг страданий. «Нам де с тобой не сообщно», – объявил в 1667 году непокорному протопопу Артамон Матвеев, окончательно отчаявшийся сломить Аввакума. Симеон Полоцкий, напротив, быстро пошел вверх. Ему даже доверили уговаривать Аввакума. Старец, конечно, для этого совсем не годился. Не только потому, что для него раскол – одно невежество и пустое упорство. Он исходил из других ценностей, и мысль его вращалась в иных областях. «Острота, острота телесного ума! да лихо упрямство; а се не умеет науки!» – якобы сказал Полоцкий протопопу, совсем не понимая, что тем самым сильно польстил ему. Для Аввакума ведь наука старца ничего не стоила – «бесовское мудрование римского костела».
В Москве Полоцкий нашел свое призвание – и как поэт, и как наставник. В Литве он так бы и остался скромным учителем «братской школы», автором виршей, которые после его] кончины скорей всего отправились бы в печь. «Ума излишком, аж негде девати, купи, кто хочет! а я рад продати», – сетовал старец, записавший себя в неудачники. Но ему повезло, царский двор оказался как раз тем заветным «покупателем ума», о котором столь страстно мечтал постриженник Богоявленского монастыря. И главным почитателем – или покупателем – его таланта стал Алексей Михайлович.
Надо, однако, отдать должное и самому Полоцкому. Он; сразу сообразил, что от него ждут, и если Аввакум всю жизнь «работал Богу», то Полоцкий, не мудрствуя, «работал I царю», создавая идеальный образ монарха. Уже в самых ранних его стихах царь – это солнце, которое всех «согревает, блюдет, освещает, як отец питает».
Характерно, что «латинства» Полоцкого, который появился в Москве всего через 16 лет после Епифания Славенецкого и других киевских старцев, мало кто сторонился. Напротив, он делает стремительную карьеру. Алексей Михайлович доверяет ему обучение своих детей. Все это ново и совершенно немыслимо для первой половины столетия. Такого подозрительного православного монаха, ходившего слушать лекции в Виленскую иезуитскую академию, не только не пустили бы в царский терем, но, пожалуй, отправили бы в северный глухой монастырь на исправление.
Полоцкий работал много и прилежно, заслужив репутацию «мужа благоверного, церкви и царству потребного». Придворная культура и обиход ему многим обязаны. С его именем связаны даже перемены в придворном церемониале, когда к привычным молитвам и торжественным обедам прибавились разнообразные «диалоги», «декламации», «приветства» (панегирики) и иные речи. Поэзия становится проявлением хорошего тона, и уже члены царской фамилии, подражая своему поэту-дидаскалу, увлеченно занимаются ею. Правда, для них это не более чем развлечение, тогда как для Полоцкого – почти профессия. Но это, конечно, не мешает ни ему, ни его последователям формировать настоящую идеологию абсолютизма, во многом унаследованную Петром. Симеон настойчиво проповедовал мотивы общественного блага, а это значит, что для современников Петра любимая тема царя-реформатора не стала совершеннейшей новостью. Поучая от имени уже умершего Алексея Михайловича царя Федора, Полоцкий станет требовать суда равного, нелицемерного. Монарх, по Полоцкому, – олицетворение и воплощение закона, он «правосудом… мир возвеселиши». И здесь также – невольный спор с Аввакумом, объявляющим равенство всех перед Богом.
Речи Полоцкого назидательны, книги душеполезны. Это связывает их с приязнью боголюбов к проповеди. Но одновременно его произведения по-светски познавательны и по-государственному необходимы, они формируют новую эстетику и новое сознание. Поэтому даже в конце XVII века, когда латинствующие подверглись гонению, едва ли можно было признать торжество грекофилов полным. В обществе уже укоренилась тяга к гуманитарным и культурным ценностям западного образца. Другое дело, что с началом Петровской эпохи и латинствующие стали восприниматься достаточно ортодоксально. То, что при Алексее Михайловиче казалось безумно смелым, стало вполне заурядным. Иные времена требовали иных форм.
Во второй половине 60-х годов в царском окружении выдвинулся Артамон Сергеевич Матвеев. Он и до этого был человеком, близким государю, лицом доверенным, к которому царю незазорно было обратиться с ласковым «друг мой, Сергеевич». Ему государь верил как самому себе. «Приезжай поскорее, – взывал он к Артамону, перемешивая в своих письмах титулярные формы обращения с чувством искренней приязни, – мои дети осиротели без тебя. Мне не с кем посоветоваться».
Многие годы Артамон Сергеевич занимал должности второстепенные, теряясь в обществе людей родовитых, первостатейных. Он долго тянул лямку стрелецкого головы и стольника, прежде чем добрался до чинов заметных. В 1669 году, по возвращении с Глуховской рады, ему поручили Малороссийский приказ. Уже тогда многим было ведомо, что Артамон, хоть и числился товарищем при после Г. Ромодановском, был истинным «умиротворителем» очередной казацкой замятии. Он и с казаками умел столковаться, чего нельзя было сказать об Ордине-Нащокине.